Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

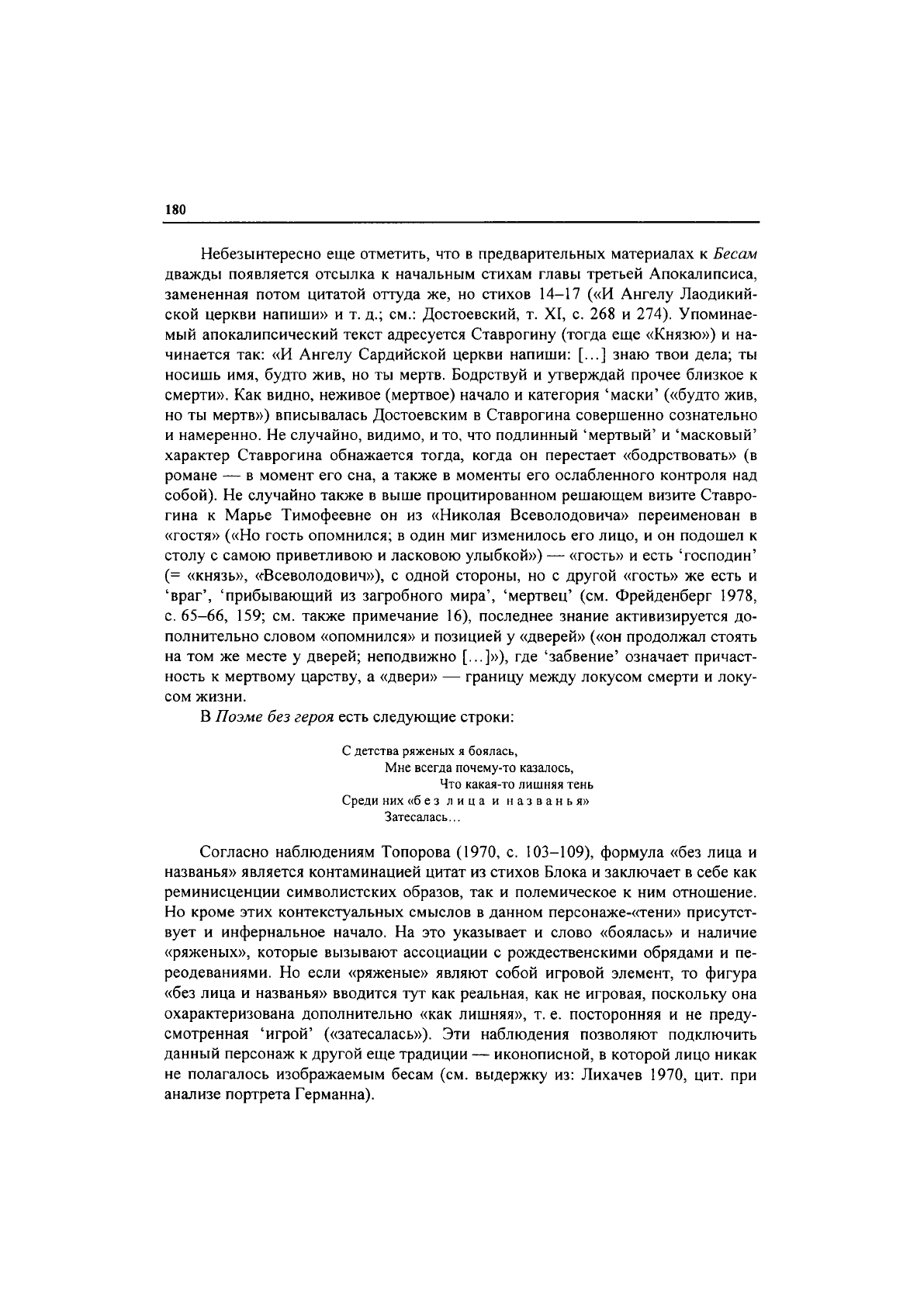
180
Небезынтересно еще отметить, что в предварительных материалах к Бесам
дважды появляется отсылка к начальным стихам главы третьей Апокалипсиса,
замененная потом цитатой оттуда же, но стихов 14-17 («И Ангелу Лаодикий-
ской церкви напиши» и т. д.; см.: Достоевский, т. XI, с. 268 и 274). Упоминае-
мый апокалипсический текст адресуется Ставрогину (тогда еще «Князю») и на-
чинается так: «И Ангелу Сардийской церкви напиши: [...] знаю твои дела; ты
носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к
смерти». Как видно, неживое (мертвое) начало и категория 'маски' («будто жив,
но ты мертв») вписывалась Достоевским в Ставрогина совершенно сознательно
и намеренно. Не случайно, видимо, и то, что подлинный 'мертвый' и 'масковый'
характер Ставрогина обнажается тогда, когда он перестает «бодрствовать» (в
романе — в момент его сна, а также в моменты его ослабленного контроля над
собой). Не случайно также в выше процитированном решающем визите Ставро-
гина к Марье Тимофеевне он из «Николая Всеволодовича» переименован в
«гостя» («Но гость опомнился; в один миг изменилось его лицо, и он подошел к
столу с самою приветливою и ласковою улыбкой») — «гость» и есть 'господин'
(= «князь», «Всеволодович»), с одной стороны, но с другой «гость» же есть и
'враг', 'прибывающий из загробного мира', 'мертвец' (см. Фрейденберг 1978,
с. 65-66, 159; см. также примечание 16), последнее знание активизируется до-
полнительно словом «опомнился» и позицией у «дверей» («он продолжал стоять
на том же месте у дверей; неподвижно [...]»), где 'забвение' означает причаст-
ность к мертвому царству, а «двери» — границу между локусом смерти и локу-
сом жизни.
В Поэме без героя есть следующие строки:
С детства ряженых я боялась,
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень
Среди них «без лица и названья»
Затесалась...
Согласно наблюдениям Топорова (1970, с. 103-109), формула «без лица и
названья» является контаминацией цитат из стихов Блока и заключает в себе как
реминисценции символистских образов, так и полемическое к ним отношение.
Но кроме этих контекстуальных смыслов в данном персонаже-«тени» присутст-
вует и инфернальное начало. На это указывает и слово «боялась» и наличие
«ряженых», которые вызывают ассоциации с рождественскими обрядами и пе-
реодеваниями. Но если «ряженые» являют собой игровой элемент, то фигура
«без лица и названья» вводится тут как реальная, как не игровая, поскольку она
охарактеризована дополнительно «как лишняя», т. е. посторонняя и не преду-
смотренная 'игрой' («затесалась»). Эти наблюдения позволяют подключить
данный персонаж к другой еще традиции — иконописной, в которой лицо никак
не полагалось изображаемым бесам (см. выдержку из: Лихачев 1970, цит. при
анализе портрета Германна).
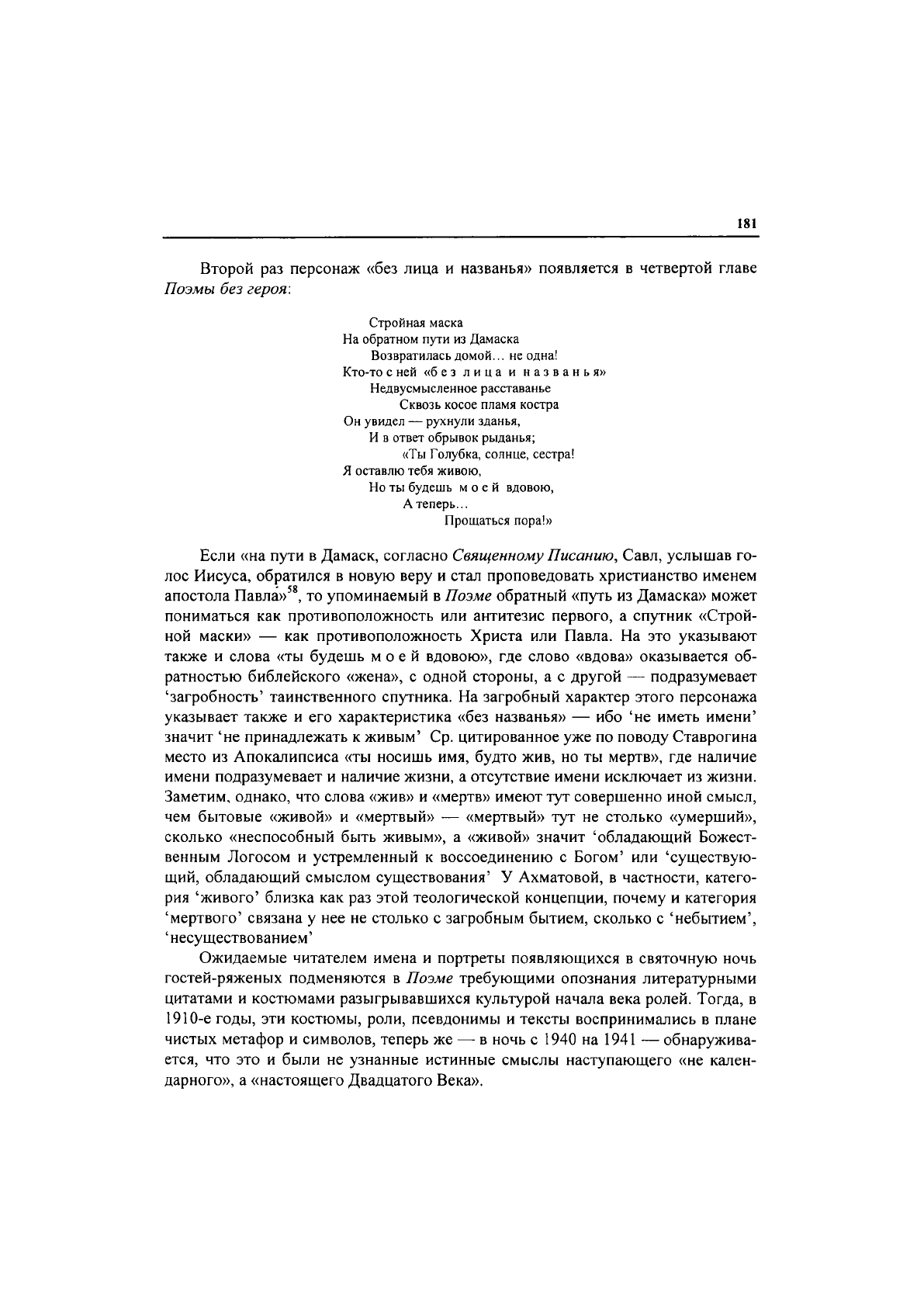
181
Второй раз персонаж «без лица и названья» появляется в четвертой главе
Поэмы без героя:
Стройная маска
На обратном пути из Дамаска
Возвратилась домой... не одна!
Кто-то с ней «без лица и названья»
Недвусмысленное расставанье
Сквозь косое пламя костра
Он увидел — рухнули зданья,
И в ответ обрывок рыданья;
«Ты Голубка, солнце, сестра!
Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
А теперь...
Прощаться пора!»
Если «на пути в Дамаск, согласно Священному Писанию, Савл, услышав го-
лос Иисуса, обратился в новую веру и стал проповедовать христианство именем
апостола Павла»
58
, то упоминаемый в Поэме обратный «путь из Дамаска» может
пониматься как противоположность или антитезис первого, а спутник «Строй-
ной маски» — как противоположность Христа или Павла. На это указывают
также и слова «ты будешь моей вдовою», где слово «вдова» оказывается об-
ратностью библейского «жена», с одной стороны, а с другой — подразумевает
'загробность' таинственного спутника. На загробный характер этого персонажа
указывает также и его характеристика «без названья» — ибо 'не иметь имени'
значит 'не принадлежать к живым' Ср. цитированное уже по поводу Ставрогина
место из Апокалипсиса «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв», где наличие
имени подразумевает и наличие жизни, а отсутствие имени исключает из жизни.
Заметим, однако, что слова «жив» и «мертв» имеют тут совершенно иной смысл,
чем бытовые «живой» и «мертвый» — «мертвый» тут не столько «умерший»,
сколько «неспособный быть живым», а «живой» значит 'обладающий Божест-
венным Логосом и устремленный к воссоединению с Богом' или 'существую-
щий, обладающий смыслом существования' У Ахматовой, в частности, катего-
рия 'живого' близка как раз этой теологической концепции, почему и категория
'мертвого' связана у нее не столько с загробным бытием, сколько с 'небытием',
' несуществованием'
Ожидаемые читателем имена и портреты появляющихся в святочную ночь
гостей-ряженых подменяются в Поэме требующими опознания литературными
цитатами и костюмами разыгрывавшихся культурой начала века ролей. Тогда, в
1910-е годы, эти костюмы, роли, псевдонимы и тексты воспринимались в плане
чистых метафор и символов, теперь же — в ночь с 1940 на 1941 — обнаружива-
ется, что это и были не узнанные истинные смыслы наступающего «не кален-
дарного», а «настоящего Двадцатого Века».
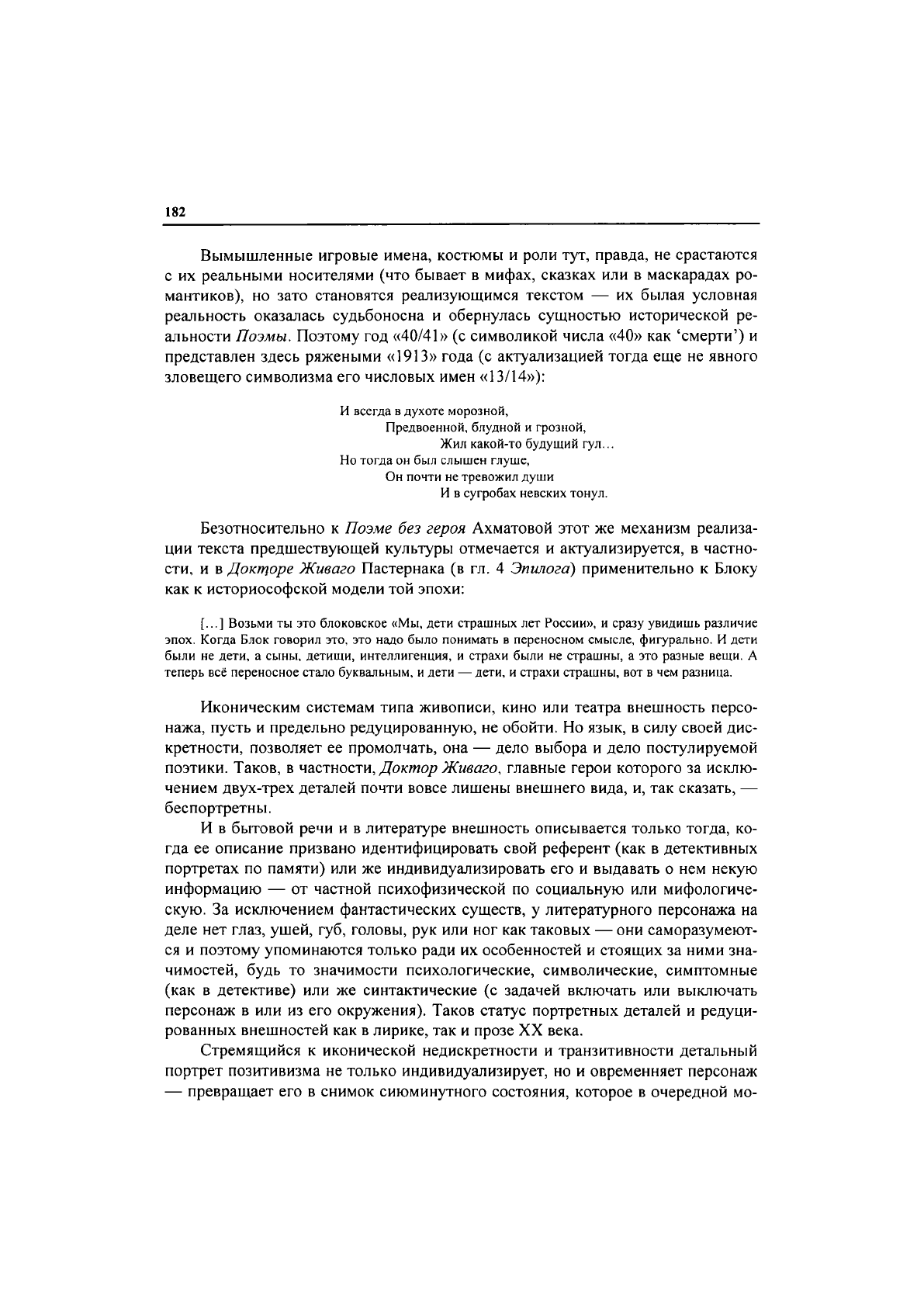
182
Вымышленные игровые имена, костюмы и роли тут, правда, не срастаются
с их реальными носителями (что бывает в мифах, сказках или в маскарадах ро-
мантиков), но зато становятся реализующимся текстом — их былая условная
реальность оказалась судьбоносна и обернулась сущностью исторической ре-
альности Поэмы. Поэтому год «40/41» (с символикой числа «40» как 'смерти') и
представлен здесь ряжеными «1913» года (с актуализацией тогда еще не явного
зловещего символизма его числовых имен «13/14»):
И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Жил какой-то будущий гул...
Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души
И в сугробах невских тонул.
Безотносительно к Поэме без героя Ахматовой этот же механизм реализа-
ции текста предшествующей культуры отмечается и актуализируется, в частно-
сти, и в Докщоре Живаго Пастернака (в гл. 4 Эпилога) применительно к Блоку
как к историософской модели той эпохи:
[...] Возьми ты это блоковское «Мы, дети страшных лет России», и сразу увидишь различие
эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети
были не дети, а сыны, детищи, интеллигенция, и страхи были не страшны, а это разные вещи. А
теперь всё переносное стало буквальным, и дети — дети, и страхи страшны, вот в чем разница.
Иконическим системам типа живописи, кино или театра внешность персо-
нажа, пусть и предельно редуцированную, не обойти. Но язык, в силу своей дис-
кретности, позволяет ее промолчать, она — дело выбора и дело постулируемой
поэтики. Таков, в частности, Доктор Живаго, главные герои которого за исклю-
чением двух-трех деталей почти вовсе лишены внешнего вида, и, так сказать, —
беспортретны.
И в бытовой речи и в литературе внешность описывается только тогда, ко-
гда ее описание призвано идентифицировать свой референт (как в детективных
портретах по памяти) или же индивидуализировать его и выдавать о нем некую
информацию — от частной психофизической по социальную или мифологиче-
скую. За исключением фантастических существ, у литературного персонажа на
деле нет глаз, ушей, губ, головы, рук или ног как таковых — они саморазумеют-
ся и поэтому упоминаются только ради их особенностей и стоящих за ними зна-
чимостей, будь то значимости психологические, символические, симптомные
(как в детективе) или же синтактические (с задачей включать или выключать
персонаж в или из его окружения). Таков статус портретных деталей и редуци-
рованных внешностей как в лирике, так и прозе XX века.
Стремящийся к иконической недискретности и транзитивности детальный
портрет позитивизма не только индивидуализирует, но и овременняет персонаж
— превращает его в снимок сиюминутного состояния, которое в очередной мо-
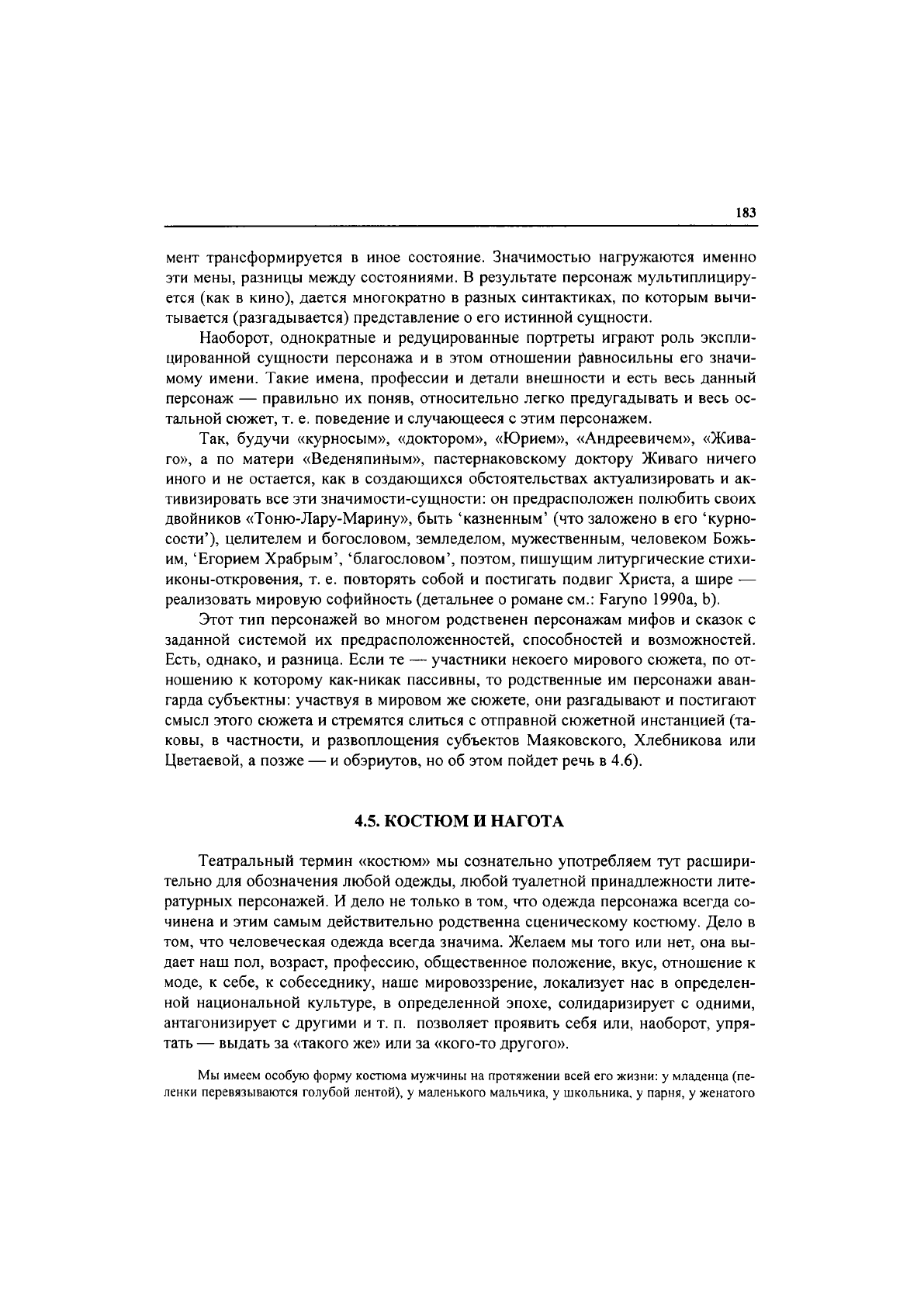
183
мент трансформируется в иное состояние. Значимостью нагружаются именно
эти мены, разницы между состояниями. В результате персонаж мультиплициру-
ется (как в кино), дается многократно в разных синтактиках, по которым вычи-
тывается (разгадывается) представление о его истинной сущности.
Наоборот, однократные и редуцированные портреты играют роль экспли-
цированной сущности персонажа и в этом отношении равносильны его значи-
мому имени. Такие имена, профессии и детали внешности и есть весь данный
персонаж — правильно их поняв, относительно легко предугадывать и весь ос-
тальной сюжет, т. е. поведение и случающееся с этим персонажем.
Так, будучи «курносым», «доктором», «Юрием», «Андреевичем», «Жива-
го», а по матери «Веденяпиным», пастернаковскому доктору Живаго ничего
иного и не остается, как в создающихся обстоятельствах актуализировать и ак-
тивизировать все эти значимости-сущности: он предрасположен полюбить своих
двойников «Тоню-Лару-Марину», быть 'казненным' (что заложено в его 'курно-
сости'), целителем и богословом, земледелом, мужественным, человеком Божь-
им, 'Егорием Храбрым', 'благословом', поэтом, пишущим литургические стихи-
иконы-откровения, т. е. повторять собой и постигать подвиг Христа, а шире —
реализовать мировую софийность (детальнее о романе см.: Faryno 1990а, Ь).
Этот тип персонажей во многом родственен персонажам мифов и сказок с
заданной системой их предрасположенностей, способностей и возможностей.
Есть, однако, и разница. Если те — участники некоего мирового сюжета, по от-
ношению к которому как-никак пассивны, то родственные им персонажи аван-
гарда субъектны: участвуя в мировом же сюжете, они разгадывают и постигают
смысл этого сюжета и стремятся слиться с отправной сюжетной инстанцией (та-
ковы, в частности, и развоплощения субъектов Маяковского, Хлебникова или
Цветаевой, а позже — и обэриутов, но об этом пойдет речь в 4.6).
4.5. КОСТЮМ И НАГОТА
Театральный термин «костюм» мы сознательно употребляем тут расшири-
тельно для обозначения любой одежды, любой туалетной принадлежности лите-
ратурных персонажей. И дело не только в том, что одежда персонажа всегда со-
чинена и этим самым действительно родственна сценическому костюму. Дело в
том, что человеческая одежда всегда значима. Желаем мы того или нет, она вы-
дает наш пол, возраст, профессию, общественное положение, вкус, отношение к
моде, к себе, к собеседнику, наше мировоззрение, локализует нас в определен-
ной национальной культуре, в определенной эпохе, солидаризирует с одними,
антагонизирует с другими и т. п. позволяет проявить себя или, наоборот, упря-
тать — выдать за «такого же» или за «кого-то другого».
Мы имеем особую форму костюма мужчины на протяжении всей его жизни: у младенца (пе-
ленки перевязываются голубой лентой), у маленького мальчика, у школьника, у парня, у женатого
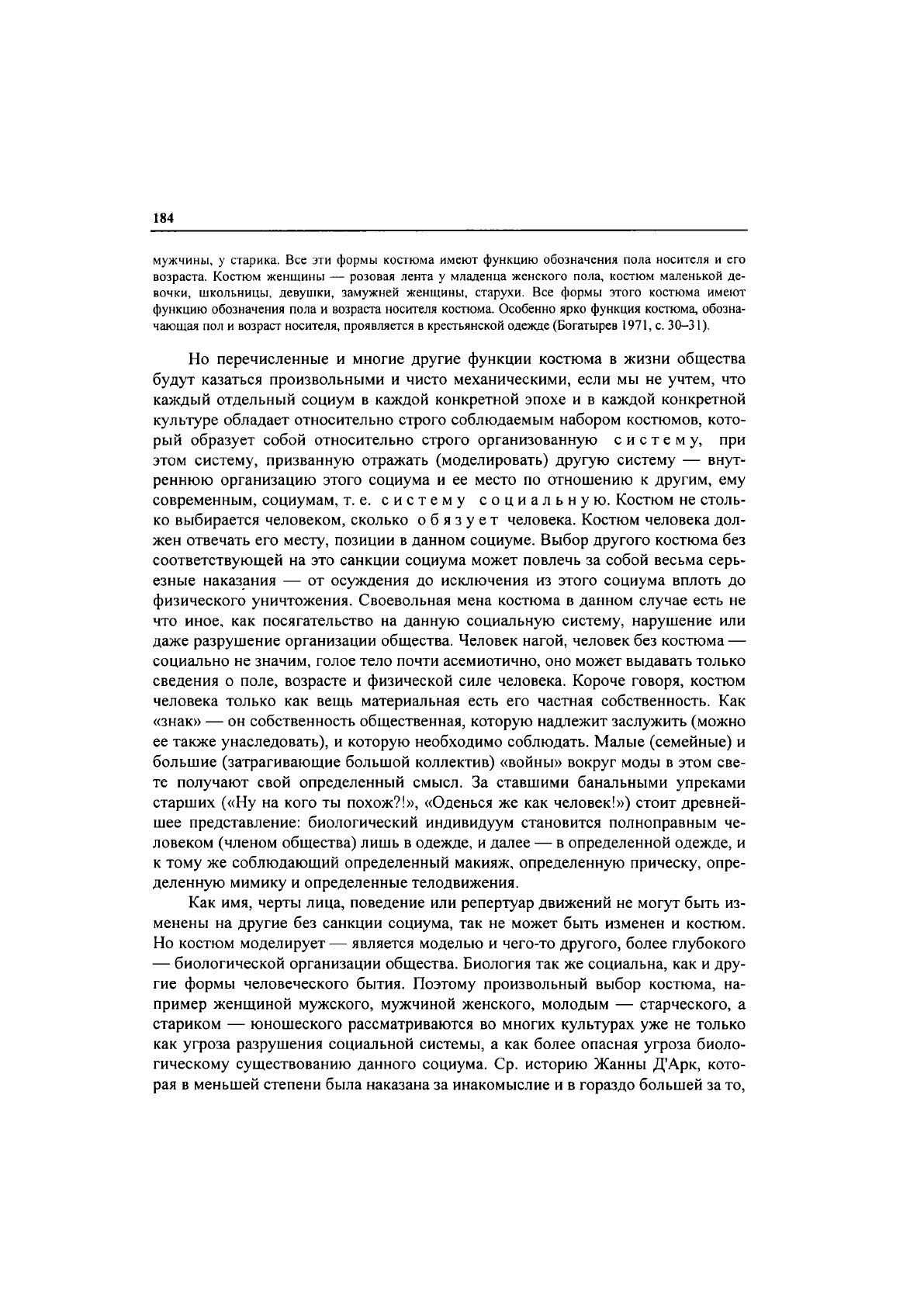
184
мужчины, у старика. Все эти формы костюма имеют функцию обозначения пола носителя и его
возраста. Костюм женщины — розовая лента у младенца женского пола, костюм маленькой де-
вочки, школьницы, девушки, замужней женщины, старухи. Все формы этого костюма имеют
функцию обозначения пола и возраста носителя костюма. Особенно ярко функция костюма, обозна-
чающая пол и возраст носителя, проявляется в крестьянской одежде (Богатырев 1971, с. 30-31).
Но перечисленные и многие другие функции костюма в жизни общества
будут казаться произвольными и чисто механическими, если мы не учтем, что
каждый отдельный социум в каждой конкретной эпохе и в каждой конкретной
культуре обладает относительно строго соблюдаемым набором костюмов, кото-
рый образует собой относительно строго организованную систему, при
этом систему, призванную отражать (моделировать) другую систему — внут-
реннюю организацию этого социума и ее место по отношению к другим, ему
современным, социумам, т. е. систему социальную. Костюм не столь-
ко выбирается человеком, сколько обязует человека. Костюм человека дол-
жен отвечать его месту, позиции в данном социуме. Выбор другого костюма без
соответствующей на это санкции социума может повлечь за собой весьма серь-
езные наказания — от осуждения до исключения из этого социума вплоть до
физического уничтожения. Своевольная мена костюма в данном случае есть не
что иное, как посягательство на данную социальную систему, нарушение или
даже разрушение организации общества. Человек нагой, человек без костюма —
социально не значим, голое тело почти асемиотично, оно может выдавать только
сведения о поле, возрасте и физической силе человека. Короче говоря, костюм
человека только как вещь материальная есть его частная собственность. Как
«знак» — он собственность общественная, которую надлежит заслужить (можно
ее также унаследовать), и которую необходимо соблюдать. Малые (семейные) и
большие (затрагивающие большой коллектив) «войны» вокруг моды в этом све-
те получают свой определенный смысл. За ставшими банальными упреками
старших («Ну на кого ты похож?!», «Оденься же как человек!») стоит древней-
шее представление: биологический индивидуум становится полноправным че-
ловеком (членом общества) лишь в одежде, и далее — в определенной одежде, и
к тому же соблюдающий определенный макияж, определенную прическу, опре-
деленную мимику и определенные телодвижения.
Как имя, черты лица, поведение или репертуар движений не могут быть из-
менены на другие без санкции социума, так не может быть изменен и костюм.
Но костюм моделирует — является моделью и чего-то другого, более глубокого
— биологической организации общества. Биология так же социальна, как и дру-
гие формы человеческого бытия. Поэтому произвольный выбор костюма, на-
пример женщиной мужского, мужчиной женского, молодым — старческого, а
стариком — юношеского рассматриваются во многих культурах уже не только
как угроза разрушения социальной системы, а как более опасная угроза биоло-
гическому существованию данного социума. Ср. историю Жанны Д'Арк, кото-
рая в меньшей степени была наказана за инакомыслие и в гораздо большей за то,
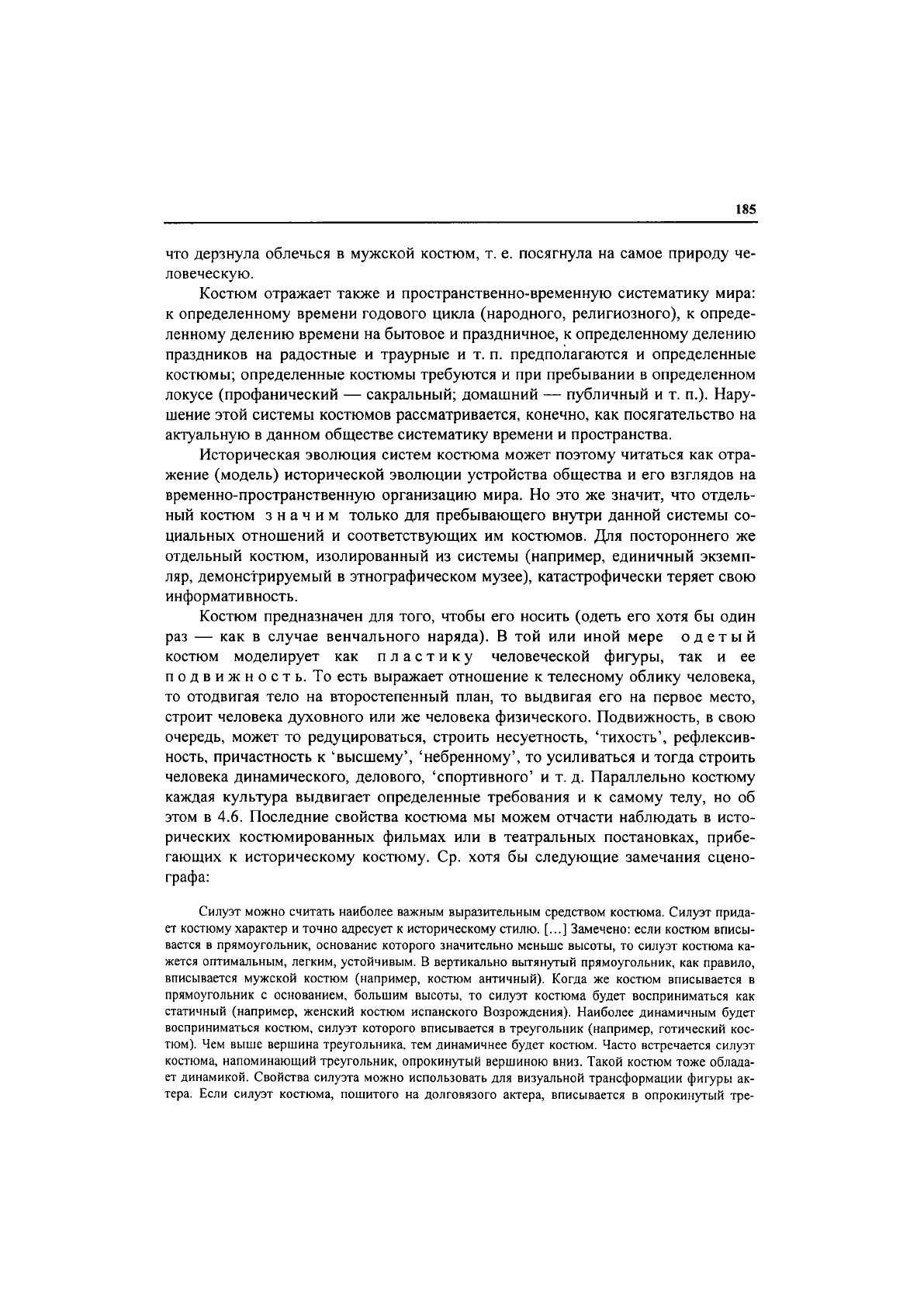
185
что дерзнула облечься в мужской костюм, т. е. посягнула на самое природу че-
ловеческую.
Костюм отражает также и пространственно-временную систематику мира:
к определенному времени годового цикла (народного, религиозного), к опреде-
ленному делению времени на бытовое и праздничное, к определенному делению
праздников на радостные и траурные и т. п. предполагаются и определенные
костюмы; определенные костюмы требуются и при пребывании в определенном
локусе (профанический — сакральный; домашний — публичный и т. п.). Нару-
шение этой системы костюмов рассматривается, конечно, как посягательство на
актуальную в данном обществе систематику времени и пространства.
Историческая эволюция систем костюма может поэтому читаться как отра-
жение (модель) исторической эволюции устройства общества и его взглядов на
временно-пространственную организацию мира. Но это же значит, что отдель-
ный костюм значим только для пребывающего внутри данной системы со-
циальных отношений и соответствующих им костюмов. Для постороннего же
отдельный костюм, изолированный из системы (например, единичный экземп-
ляр, демонстрируемый в этнографическом музее), катастрофически теряет свою
информативность.
Костюм предназначен для того, чтобы его носить (одеть его хотя бы один
раз — как в случае венчального наряда). В той или иной мере одетый
костюм моделирует как пластику человеческой фигуры, так и ее
подвижность. То есть выражает отношение к телесному облику человека,
то отодвигая тело на второстепенный план, то выдвигая его на первое место,
строит человека духовного или же человека физического. Подвижность, в свою
очередь, может то редуцироваться, строить несуетность, 'тихость', рефлексив-
ность, причастность к 'высшему', 'небренному', то усиливаться и тогда строить
человека динамического, делового, 'спортивного' и т. д. Параллельно костюму
каждая культура выдвигает определенные требования и к самому телу, но об
этом в 4.6. Последние свойства костюма мы можем отчасти наблюдать в исто-
рических костюмированных фильмах или в театральных постановках, прибе-
гающих к историческому костюму. Ср. хотя бы следующие замечания сцено-
графа:
Силуэт можно считать наиболее важным выразительным средством костюма. Силуэт прида-
ет костюму характер и точно адресует к историческому стилю. [...] Замечено: если костюм вписы-
вается в прямоугольник, основание которого значительно меньше высоты, то силуэт костюма ка-
жется оптимальным, легким, устойчивым. В вертикально вытянутый прямоугольник, как правило,
вписывается мужской костюм (например, костюм античный). Когда же костюм вписывается в
прямоугольник с основанием, большим высоты, то силуэт костюма будет восприниматься как
статичный (например, женский костюм испанского Возрождения). Наиболее динамичным будет
восприниматься костюм, силуэт которого вписывается в треугольник (например, готический кос-
тюм). Чем выше вершина треугольника, тем динамичнее будет костюм. Часто встречается силуэт
костюма, напоминающий треугольник, опрокинутый вершиною вниз. Такой костюм тоже облада-
ет динамикой. Свойства силуэта можно использовать для визуальной трансформации фигуры ак-
тера. Если силуэт костюма, пошитого на долговязого актера, вписывается в опрокинутый тре-
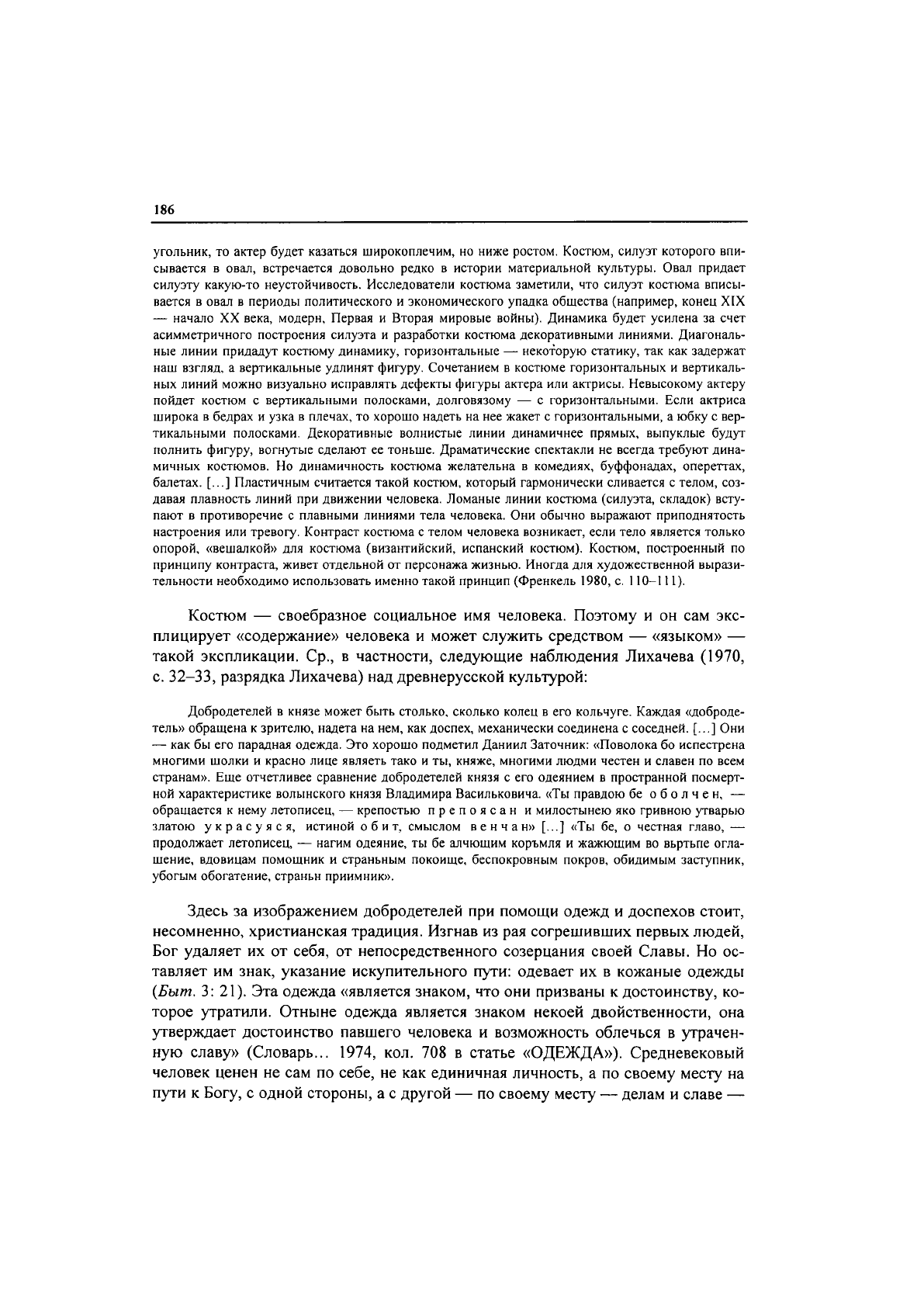
186
угольник, то актер будет казаться широкоплечим, но ниже ростом. Костюм, силуэт которого впи-
сывается в овал, встречается довольно редко в истории материальной культуры. Овал придает
силуэту какую-то неустойчивость. Исследователи костюма заметили, что силуэт костюма вписы-
вается в овал в периоды политического и экономического упадка общества (например, конец XIX
— начало XX века, модерн, Первая и Вторая мировые войны). Динамика будет усилена за счет
асимметричного построения силуэта и разработки костюма декоративными линиями. Диагональ-
ные линии придадут костюму динамику, горизонтальные — некоторую статику, так как задержат
наш взгляд, а вертикальные удлинят фигуру. Сочетанием в костюме горизонтальных и вертикаль-
ных линий можно визуально исправлять дефекты фигуры актера или актрисы. Невысокому актеру
пойдет костюм с вертикальными полосками, долговязому — с горизонтальными. Если актриса
широка в бедрах и узка в плечах, то хорошо надеть на нее жакет с горизонтальными, а юбку с вер-
тикальными полосками. Декоративные волнистые линии динамичнее прямых, выпуклые будут
полнить фигуру, вогнутые сделают ее тоньше. Драматические спектакли не всегда требуют дина-
мичных костюмов. Но динамичность костюма желательна в комедиях, буффонадах, опереттах,
балетах. [...] Пластичным считается такой костюм, который гармонически сливается с телом, соз-
давая плавность линий при движении человека. Ломаные линии костюма (силуэта, складок) всту-
пают в противоречие с плавными линиями тела человека. Они обычно выражают приподнятость
настроения или тревогу. Контраст костюма с телом человека возникает, если тело является только
опорой, «вешалкой» для костюма (византийский, испанский костюм). Костюм, построенный по
принципу контраста, живет отдельной от персонажа жизнью. Иногда для художественной вырази-
тельности необходимо использовать именно такой принцип (Френкель 1980, с. 110-111).
Костюм — своебразное социальное имя человека. Поэтому и он сам экс-
плицирует «содержание» человека и может служить средством — «языком» —
такой экспликации. Ср., в частности, следующие наблюдения Лихачева (1970,
с. 32-33, разрядка Лихачева) над древнерусской культурой:
Добродетелей в князе может быть столько, сколько колец в его кольчуге. Каждая «доброде-
тель» обращена к зрителю, надета на нем, как доспех, механически соединена с соседней. [...] Они
— как бы его парадная одежда. Это хорошо подметил Даниил Заточник: «Поволока бо испестрена
многими шолки и красно лице являеть тако и ты, княже, многими людми честен и славен по всем
странам». Еще отчетливее сравнение добродетелей князя с его одеянием в пространной посмерт-
ной характеристике волынского князя Владимира Васильковича. «Ты правдою бе оболчен, —
обращается к нему летописец, — крепостью препоясан и милостынею яко гривною утварью
златою украсуяся, истиной обит, смыслом венчан» [...] «Ты бе, о честная главо, —
продолжает летописец, — нагим одеяние, ты бе алчющим коръмля и жажющим во вьртьпе огла-
шение, вдовицам помощник и страньным покоище, беспокровным покров, обидимым заступник,
убогым обогатение, страньн приимник».
Здесь за изображением добродетелей при помощи одежд и доспехов стоит,
несомненно, христианская традиция. Изгнав из рая согрешивших первых людей,
Бог удаляет их от себя, от непосредственного созерцания своей Славы. Но ос-
тавляет им знак, указание искупительного пути: одевает их в кожаные одежды
{Быт. 3: 21). Эта одежда «является знаком, что они призваны к достоинству, ко-
торое утратили. Отныне одежда является знаком некоей двойственности, она
утверждает достоинство павшего человека и возможность облечься в утрачен-
ную славу» (Словарь... 1974, кол. 708 в статье «ОДЕЖДА»). Средневековый
человек ценен не сам по себе, не как единичная личность, а по своему месту на
пути к Богу, с одной стороны, а с другой — по своему месту — делам и славе —
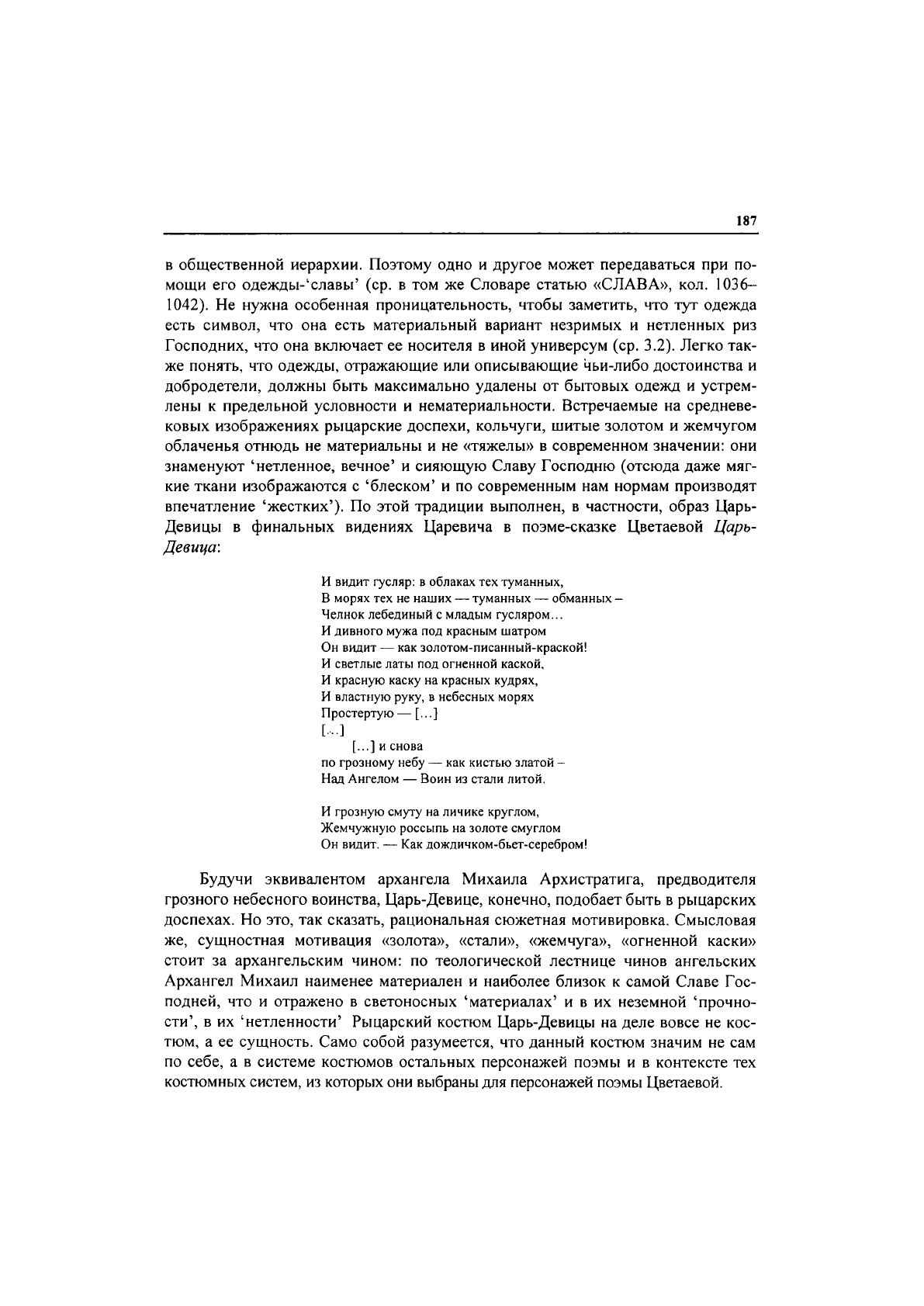
187
в общественной иерархии. Поэтому одно и другое может передаваться при по-
мощи его одежды-'славы' (ср. в том же Словаре статью «СЛАВА», кол. 1036-
1042). Не нужна особенная проницательность, чтобы заметить, что тут одежда
есть символ, что она есть материальный вариант незримых и нетленных риз
Господних, что она включает ее носителя в иной универсум (ср. 3.2). Легко так-
же понять, что одежды, отражающие или описывающие чьи-либо достоинства и
добродетели, должны быть максимально удалены от бытовых одежд и устрем-
лены к предельной условности и нематериальности. Встречаемые на средневе-
ковых изображениях рыцарские доспехи, кольчуги, шитые золотом и жемчугом
облаченья отнюдь не материальны и не «тяжелы» в современном значении: они
знаменуют 'нетленное, вечное' и сияющую Славу Господню (отсюда даже мяг-
кие ткани изображаются с 'блеском' и по современным нам нормам производят
впечатление 'жестких'). По этой традиции выполнен, в частности, образ Царь-
Девицы в финальных видениях Царевича в поэме-сказке Цветаевой Царь-
Девица:
И видит гусляр: в облаках тех туманных,
В морях тех не наших — туманных — обманных -
Челнок лебединый с младым гусляром...
И дивного мужа под красным шатром
Он видит — как золотом-писанный-краской!
И светлые латы под огненной каской,
И красную каску на красных кудрях,
И властную руку, в небесных морях
Простертую — [... ]
[,..]
[...] и снова
по грозному небу — как кистью златой -
Над Ангелом — Воин из стали литой.
И грозную смуту на личике круглом,
Жемчужную россыпь на золоте смуглом
Он видит. — Как дождичком-бьет-серебром!
Будучи эквивалентом архангела Михаила Архистратига, предводителя
грозного небесного воинства, Царь-Девице, конечно, подобает быть в рыцарских
доспехах. Но это, так сказать, рациональная сюжетная мотивировка. Смысловая
же, сущностная мотивация «золота», «стали», «жемчуга», «огненной каски»
стоит за архангельским чином: по теологической лестнице чинов ангельских
Архангел Михаил наименее материален и наиболее близок к самой Славе Гос-
подней, что и отражено в светоносных 'материалах' и в их неземной 'прочно-
сти', в их 'нетленности' Рыцарский костюм Царь-Девицы на деле вовсе не кос-
тюм, а ее сущность. Само собой разумеется, что данный костюм значим не сам
по себе, а в системе костюмов остальных персонажей поэмы и в контексте тех
костюмных систем, из которых они выбраны для персонажей поэмы Цветаевой.
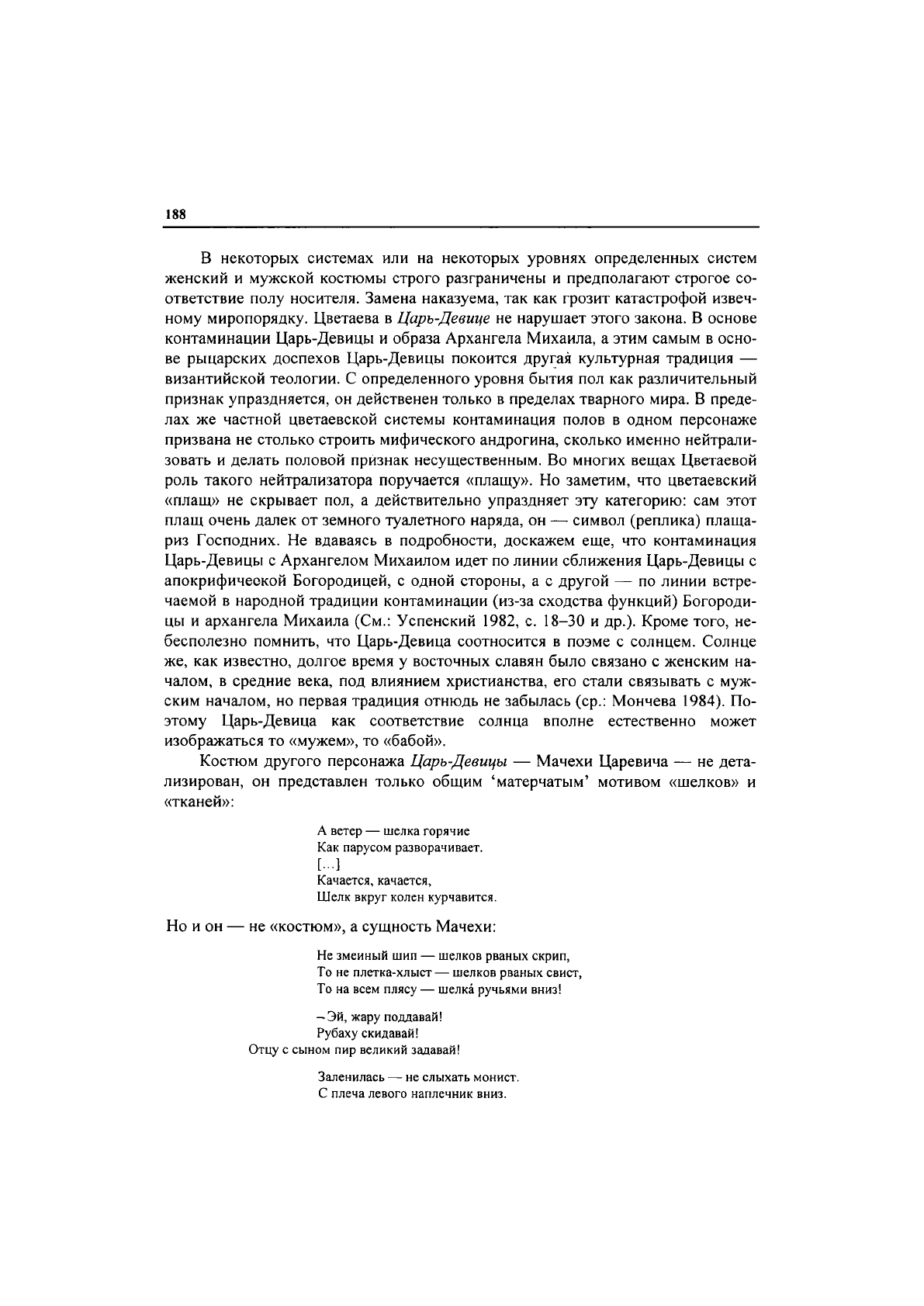
188
В некоторых системах или на некоторых уровнях определенных систем
женский и мужской костюмы строго разграничены и предполагают строгое со-
ответствие полу носителя. Замена наказуема, так как грозит катастрофой извеч-
ному миропорядку. Цветаева в Царь-Девице не нарушает этого закона. В основе
контаминации Царь-Девицы и образа Архангела Михаила, а этим самым в осно-
ве рыцарских доспехов Царь-Девицы покоится другая культурная традиция —
византийской теологии. С определенного уровня бытия пол как различительный
признак упраздняется, он действенен только в пределах тварного мира. В преде-
лах же частной цветаевской системы контаминация полов в одном персонаже
призвана не столько строить мифического андрогина, сколько именно нейтрали-
зовать и делать половой признак несущественным. Во многих вещах Цветаевой
роль такого нейтрализатора поручается «плащу». Но заметим, что цветаевский
«плащ» не скрывает пол, а действительно упраздняет эту категорию: сам этот
плащ очень далек от земного туалетного наряда, он — символ (реплика) плаща-
риз Господних. Не вдаваясь в подробности, доскажем еще, что контаминация
Царь-Девицы с Архангелом Михаилом идет по линии сближения Царь-Девицы с
апокрифической Богородицей, с одной стороны, а с другой — по линии встре-
чаемой в народной традиции контаминации (из-за сходства функций) Богороди-
цы и архангела Михаила (См.: Успенский 1982, с. 18-30 и др.). Кроме того, не-
бесполезно помнить, что Царь-Девица соотносится в поэме с солнцем. Солнце
же, как известно, долгое время у восточных славян было связано с женским на-
чалом, в средние века, под влиянием христианства, его стали связывать с муж-
ским началом, но первая традиция отнюдь не забылась (ср.: Мончева 1984). По-
этому Царь-Девица как соответствие солнца вполне естественно может
изображаться то «мужем», то «бабой».
Костюм другого персонажа Царь-Девицы — Мачехи Царевича — не дета-
лизирован, он представлен только общим 'матерчатым' мотивом «шелков» и
«тканей»:
А ветер — шелка горячие
Как парусом разворачивает.
[...]
Качается, качается,
Шелк вкруг колен курчавится.
Но и он — не «костюм», а сущность Мачехи:
Не змеиный шип — шелков рваных скрип,
То не плетка-хлыст — шелков рваных свист,
То на всем плясу — шелка ручьями вниз!
-Эй, жару поддавай!
Рубаху скидавай!
Отцу с сыном пир великий задавай!
Заленилась — не слыхать монист.
С плеча левого наплечник вниз.
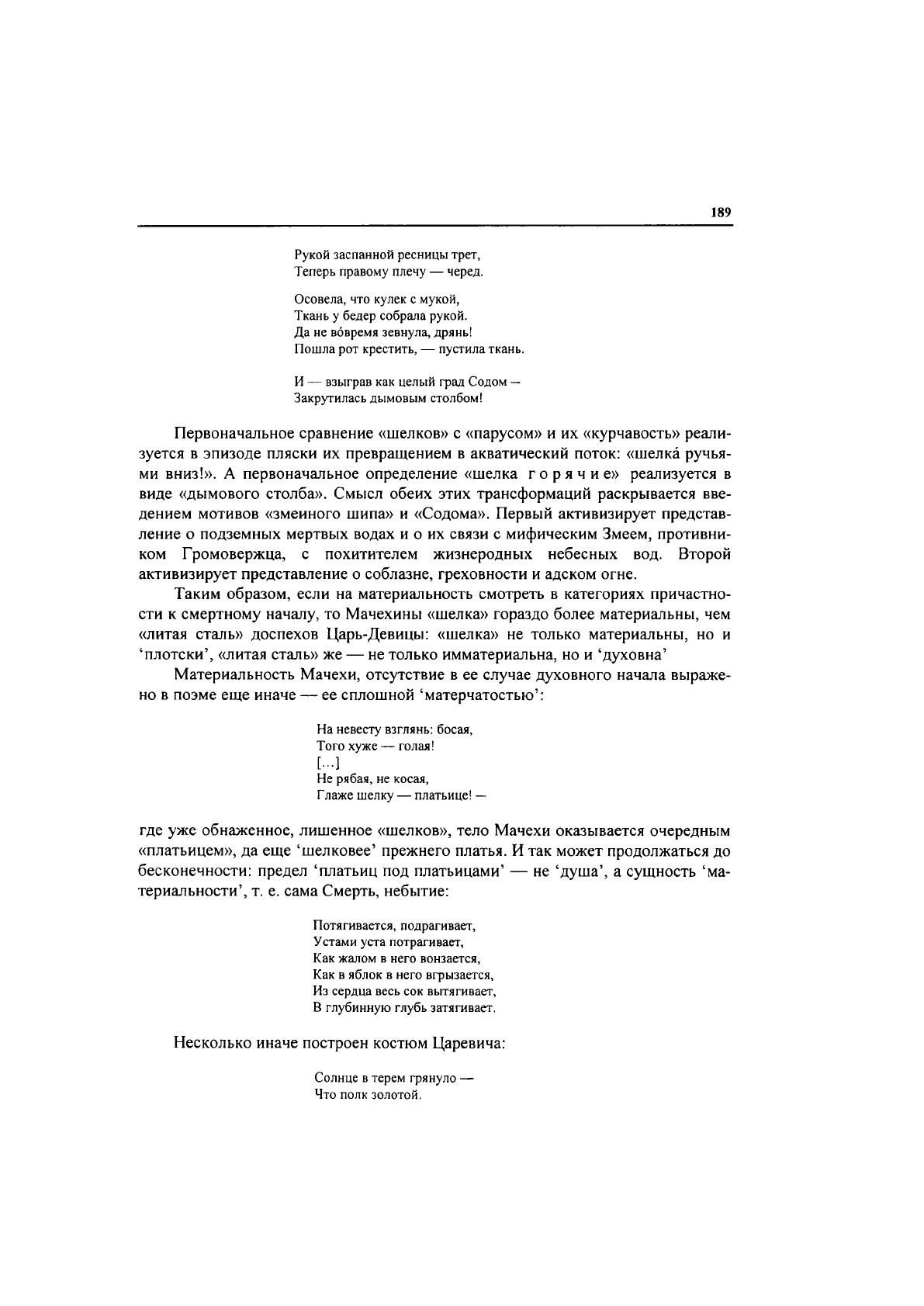
189
Рукой заспанной ресницы трет,
Теперь правому плечу — черед.
Осовела, что кулек с мукой,
Ткань у бедер собрала рукой.
Да не вовремя зевнула, дрянь!
Пошла рот крестить, — пустила ткань.
И — взыграв как целый град Содом —
Закрутилась дымовым столбом!
Первоначальное сравнение «шелков» с «парусом» и их «курчавость» реали-
зуется в эпизоде пляски их превращением в акватический поток: «шелка ручья-
ми вниз!». А первоначальное определение «шелка горячие» реализуется в
виде «дымового столба». Смысл обеих этих трансформаций раскрывается вве-
дением мотивов «змеиного шипа» и «Содома». Первый активизирует представ-
ление о подземных мертвых водах и о их связи с мифическим Змеем, противни-
ком Громовержца, с похитителем жизнеродных небесных вод. Второй
активизирует представление о соблазне, греховности и адском огне.
Таким образом, если на материальность смотреть в категориях причастно-
сти к смертному началу, то Мачехины «шелка» гораздо более материальны, чем
«литая сталь» доспехов Царь-Девицы: «шелка» не только материальны, но и
'плотски', «литая сталь» же — не только имматериальна, но и 'духовна'
Материальность Мачехи, отсутствие в ее случае духовного начала выраже-
но в поэме еще иначе — ее сплошной 'матерчатостью':
На невесту взглянь: босая,
Того хуже — голая!
[...]
Не рябая, не косая,
Глаже шелку — платьице! —
где уже обнаженное, лишенное «шелков», тело Мачехи оказывается очередным
«платьицем», да еще 'шелковее' прежнего платья. И так может продолжаться до
бесконечности: предел 'платьиц под платьицами' — не 'душа', а сущность 'ма-
териальности', т. е. сама Смерть, небытие:
Потягивается, подрагивает,
Устами уста потрагивает,
Как жалом в него вонзается,
Как в яблок в него вгрызается,
Из сердца весь сок вытягивает,
В глубинную глубь затягивает.
Несколько иначе построен костюм Царевича:
Солнце в терем грянуло —
Что полк золотой.
