Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

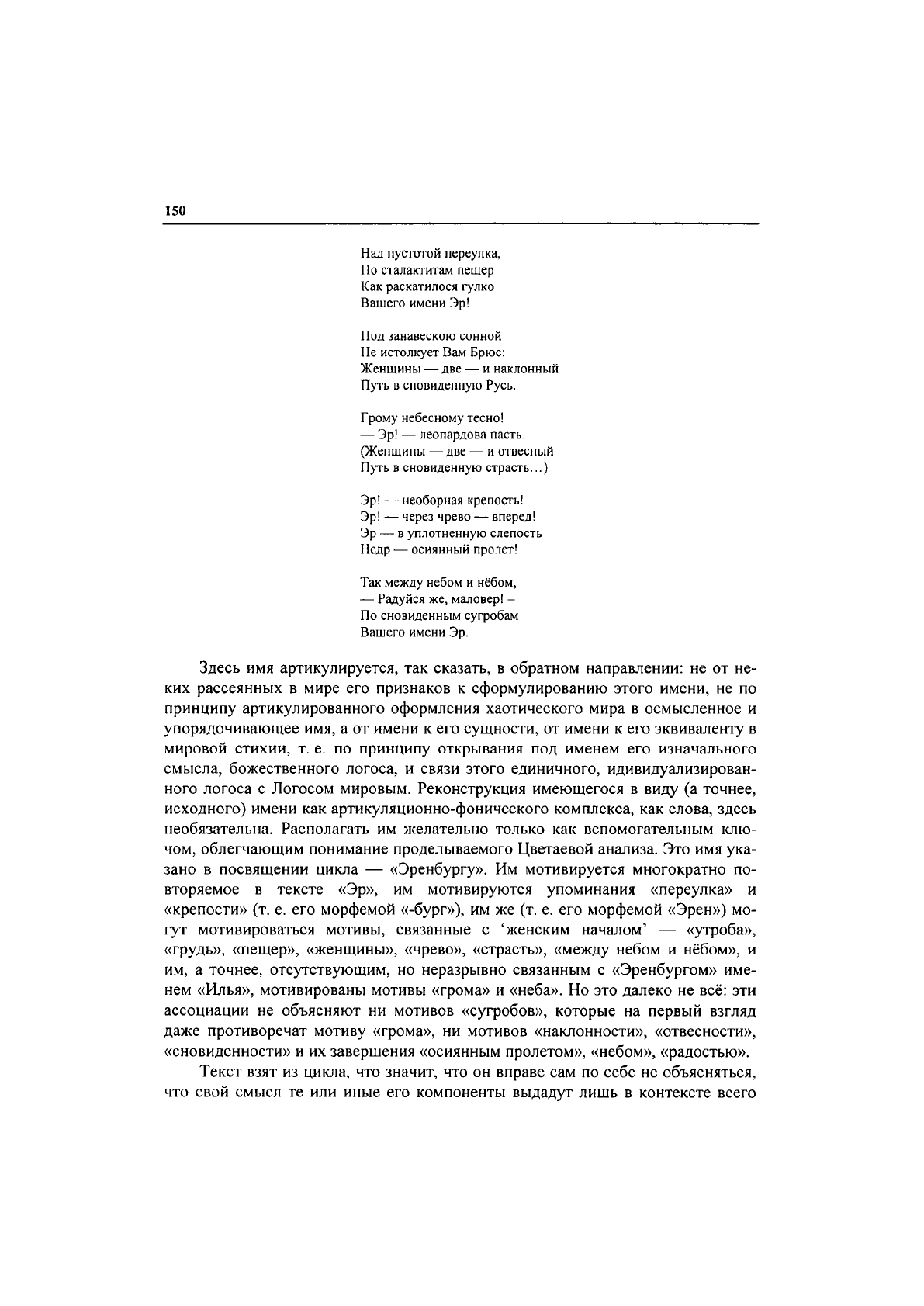
150
Над пустотой переулка,
По сталактитам пещер
Как раскатилося гулко
Вашего имени Эр!
Под занавескою сонной
Не истолкует Вам Брюс:
Женщины — две — и наклонный
Путь в сновиденную Русь.
Грому небесному тесно!
— Эр! — леопардова пасть.
(Женщины — две — и отвесный
Путь в сновиденную страсть...)
Эр! — необорная крепость!
Эр! — через чрево — вперед!
Эр — в уплотненную слепость
Недр — осиянный пролет!
Так между небом и нёбом,
— Радуйся же, маловер! -
По сновиденным сугробам
Вашего имени Эр.
Здесь имя артикулируется, так сказать, в обратном направлении: не от не-
ких рассеянных в мире его признаков к сформулированию этого имени, не по
принципу артикулированного оформления хаотического мира в осмысленное и
упорядочивающее имя, а от имени к его сущности, от имени к его эквиваленту в
мировой стихии, т. е. по принципу открывания под именем его изначального
смысла, божественного логоса, и связи этого единичного, идивидуализирован-
ного логоса с Логосом мировым. Реконструкция имеющегося в виду (а точнее,
исходного) имени как артикуляционно-фонического комплекса, как слова, здесь
необязательна. Располагать им желательно только как вспомогательным клю-
чом, облегчающим понимание проделываемого Цветаевой анализа. Это имя ука-
зано в посвящении цикла — «Эренбургу». Им мотивируется многократно по-
вторяемое в тексте «Эр», им мотивируются упоминания «переулка» и
«крепости» (т. е. его морфемой «-бург»), им же (т. е. его морфемой «Эрен») мо-
гут мотивироваться мотивы, связанные с 'женским началом' — «утроба»,
«грудь», «пещер», «женщины», «чрево», «страсть», «между небом и нёбом», и
им, а точнее, отсутствующим, но неразрывно связанным с «Эренбургом» име-
нем «Илья», мотивированы мотивы «грома» и «неба». Но это далеко не всё: эти
ассоциации не объясняют ни мотивов «сугробов», которые на первый взгляд
даже противоречат мотиву «грома», ни мотивов «наклонности», «отвесности»,
«сновиденности» и их завершения «осиянным пролетом», «небом», «радостью».
Текст взят из цикла, что значит, что он вправе сам по себе не объясняться,
что свой смысл те или иные его компоненты выдадут лишь в контексте всего
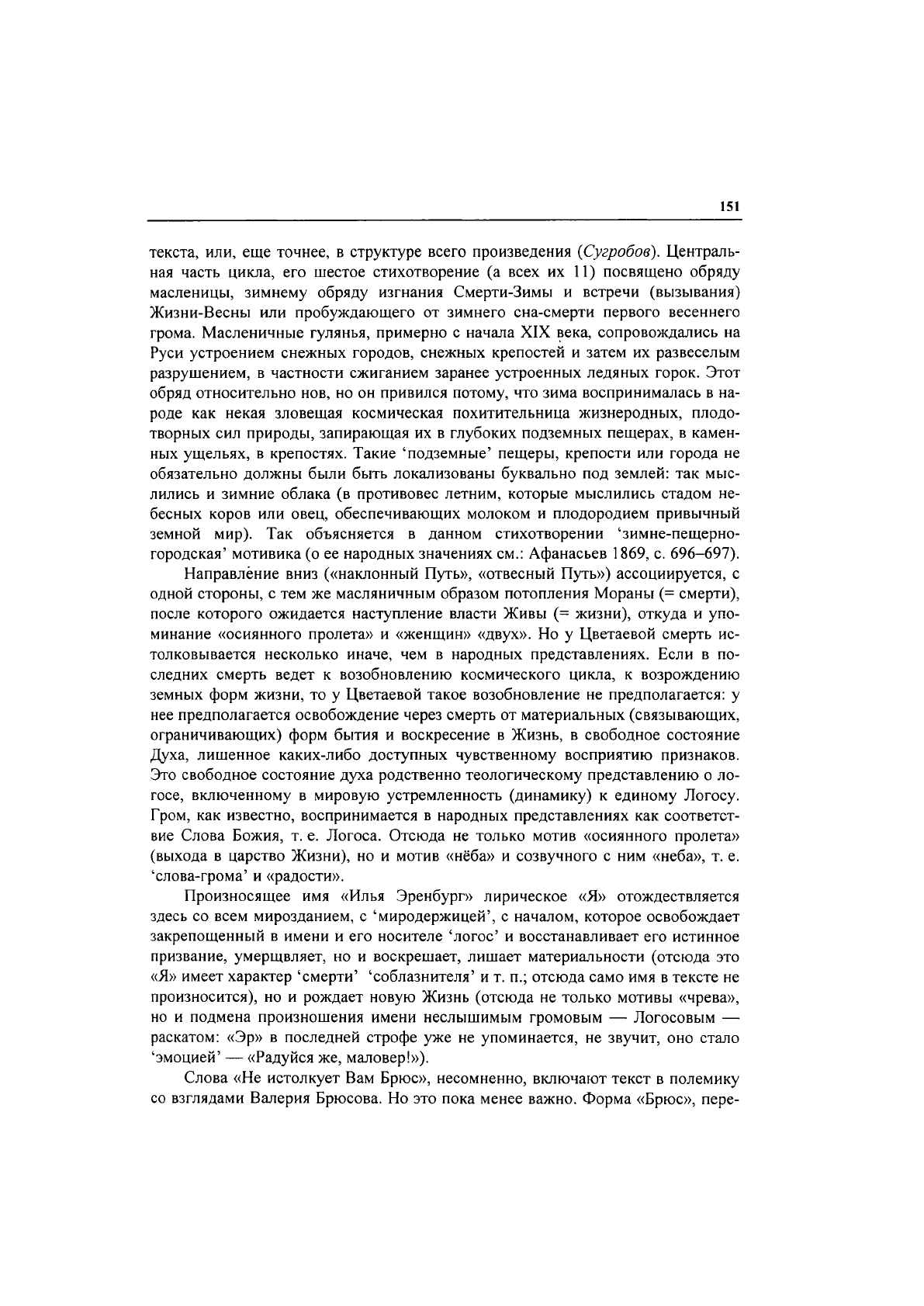
151
текста, или, еще точнее, в структуре всего произведения (Сугробов). Централь-
ная часть цикла, его шестое стихотворение (а всех их 11) посвящено обряду
масленицы, зимнему обряду изгнания Смерти-Зимы и встречи (вызывания)
Жизни-Весны или пробуждающего от зимнего сна-смерти первого весеннего
грома. Масленичные гулянья, примерно с начала XIX века, сопровождались на
Руси устроением снежных городов, снежных крепостей и затем их развеселым
разрушением, в частности сжиганием заранее устроенных ледяных горок. Этот
обряд относительно нов, но он привился потому, что зима воспринималась в на-
роде как некая зловещая космическая похитительница жизнеродных, плодо-
творных сил природы, запирающая их в глубоких подземных пещерах, в камен-
ных ущельях, в крепостях. Такие 'подземные' пещеры, крепости или города не
обязательно должны были быть локализованы буквально под землей: так мыс-
лились и зимние облака (в противовес летним, которые мыслились стадом не-
бесных коров или овец, обеспечивающих молоком и плодородием привычный
земной мир). Так объясняется в данном стихотворении 'зимне-пещерно-
городская' мотивика (о ее народных значениях см.: Афанасьев 1869, с. 696-697).
Направление вниз («наклонный Путь», «отвесный Путь») ассоциируется, с
одной стороны, с тем же масляничным образом потопления Мораны (= смерти),
после которого ожидается наступление власти Живы (= жизни), откуда и упо-
минание «осиянного пролета» и «женщин» «двух». Но у Цветаевой смерть ис-
толковывается несколько иначе, чем в народных представлениях. Если в по-
следних смерть ведет к возобновлению космического цикла, к возрождению
земных форм жизни, то у Цветаевой такое возобновление не предполагается: у
нее предполагается освобождение через смерть от материальных (связывающих,
ограничивающих) форм бытия и воскресение в Жизнь, в свободное состояние
Духа, лишенное каких-либо доступных чувственному восприятию признаков.
Это свободное состояние духа родственно теологическому представлению о ло-
госе, включенному в мировую устремленность (динамику) к единому Логосу.
Гром, как известно, воспринимается в народных представлениях как соответст-
вие Слова Божия, т. е. Логоса. Отсюда не только мотив «осиянного пролета»
(выхода в царство Жизни), но и мотив «нёба» и созвучного с ним «неба», т. е.
'слова-грома' и «радости».
Произносящее имя «Илья Эренбург» лирическое «Я» отождествляется
здесь со всем мирозданием, с 'миродержицей', с началом, которое освобождает
закрепощенный в имени и его носителе 'логос' и восстанавливает его истинное
призвание, умерщвляет, но и воскрешает, лишает материальности (отсюда это
«Я» имеет характер 'смерти' 'соблазнителя' и т. п.; отсюда само имя в тексте не
произносится), но и рождает новую Жизнь (отсюда не только мотивы «чрева»,
но и подмена произношения имени неслышимым громовым — Логосовым —
раскатом: «Эр» в последней строфе уже не упоминается, не звучит, оно стало
'эмоцией' — «Радуйся же, маловер!»).
Слова «Не истолкует Вам Брюс», несомненно, включают текст в полемику
со взглядами Валерия Брюсова. Но это пока менее важно. Форма «Брюс», пере-
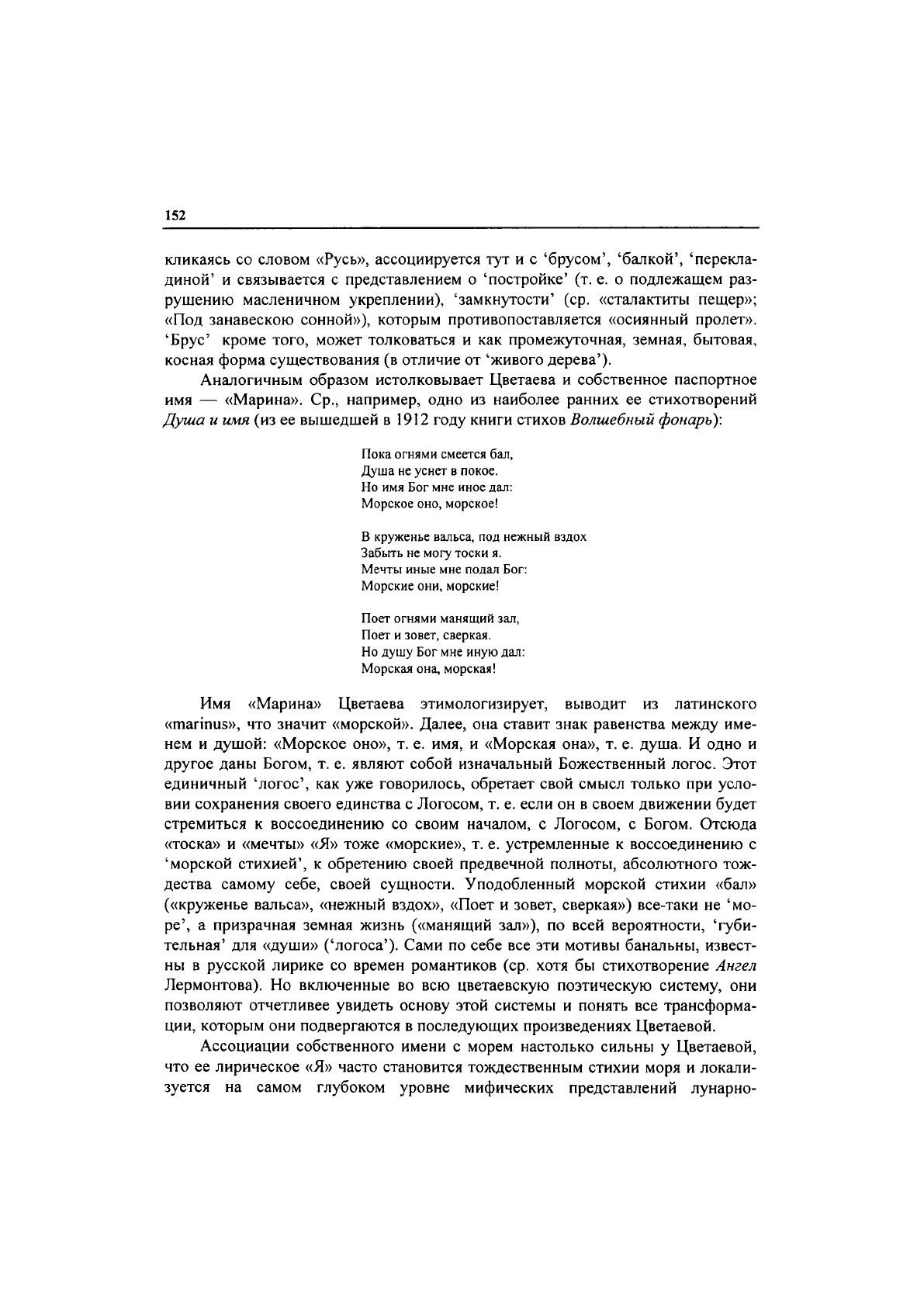
152
кликаясь со словом «Русь», ассоциируется тут и с 'брусом', 'балкой', 'перекла-
диной' и связывается с представлением о 'постройке' (т. е. о подлежащем раз-
рушению масленичном укреплении), 'замкнутости' (ср. «сталактиты пещер»;
«Под занавескою сонной»), которым противопоставляется «осиянный пролет».
'Брус' кроме того, может толковаться и как промежуточная, земная, бытовая,
косная форма существования (в отличие от 'живого дерева').
Аналогичным образом истолковывает Цветаева и собственное паспортное
имя — «Марина». Ср., например, одно из наиболее ранних ее стихотворений
Душа и имя (из ее вышедшей в 1912 году книги стихов Волшебный фонарь)'.
Пока огнями смеется бал,
Душа не уснет в покое.
Но имя Бог мне иное дал:
Морское оно, морское!
В круженье вальса, под нежный вздох
Забыть не могу тоски я.
Мечты иные мне подал Бог:
Морские они, морские!
Поет огнями манящий зал,
Поет и зовет, сверкая.
Но душу Бог мне иную дал:
Морская она, морская!
Имя «Марина» Цветаева этимологизирует, выводит из латинского
«marinus», что значит «морской». Далее, она ставит знак равенства между име-
нем и душой: «Морское оно», т. е. имя, и «Морская она», т. е. душа. И одно и
другое даны Богом, т. е. являют собой изначальный Божественный логос. Этот
единичный 'логос', как уже говорилось, обретает свой смысл только при усло-
вии сохранения своего единства с Логосом, т. е. если он в своем движении будет
стремиться к воссоединению со своим началом, с Логосом, с Богом. Отсюда
«тоска» и «мечты» «Я» тоже «морские», т. е. устремленные к воссоединению с
'морской стихией', к обретению своей предвечной полноты, абсолютного тож-
дества самому себе, своей сущности. Уподобленный морской стихии «бал»
(«круженье вальса», «нежный вздох», «Поет и зовет, сверкая») все-таки не 'мо-
ре', а призрачная земная жизнь («манящий зал»), по всей вероятности, 'губи-
тельная' для «души» ('логоса'). Сами по себе все эти мотивы банальны, извест-
ны в русской лирике со времен романтиков (ср. хотя бы стихотворение Ангел
Лермонтова). Но включенные во всю цветаевскую поэтическую систему, они
позволяют отчетливее увидеть основу этой системы и понять все трансформа-
ции, которым они подвергаются в последующих произведениях Цветаевой.
Ассоциации собственного имени с морем настолько сильны у Цветаевой,
что ее лирическое «Я» часто становится тождественным стихии моря и локали-
зуется на самом глубоком уровне мифических представлений лунарно-
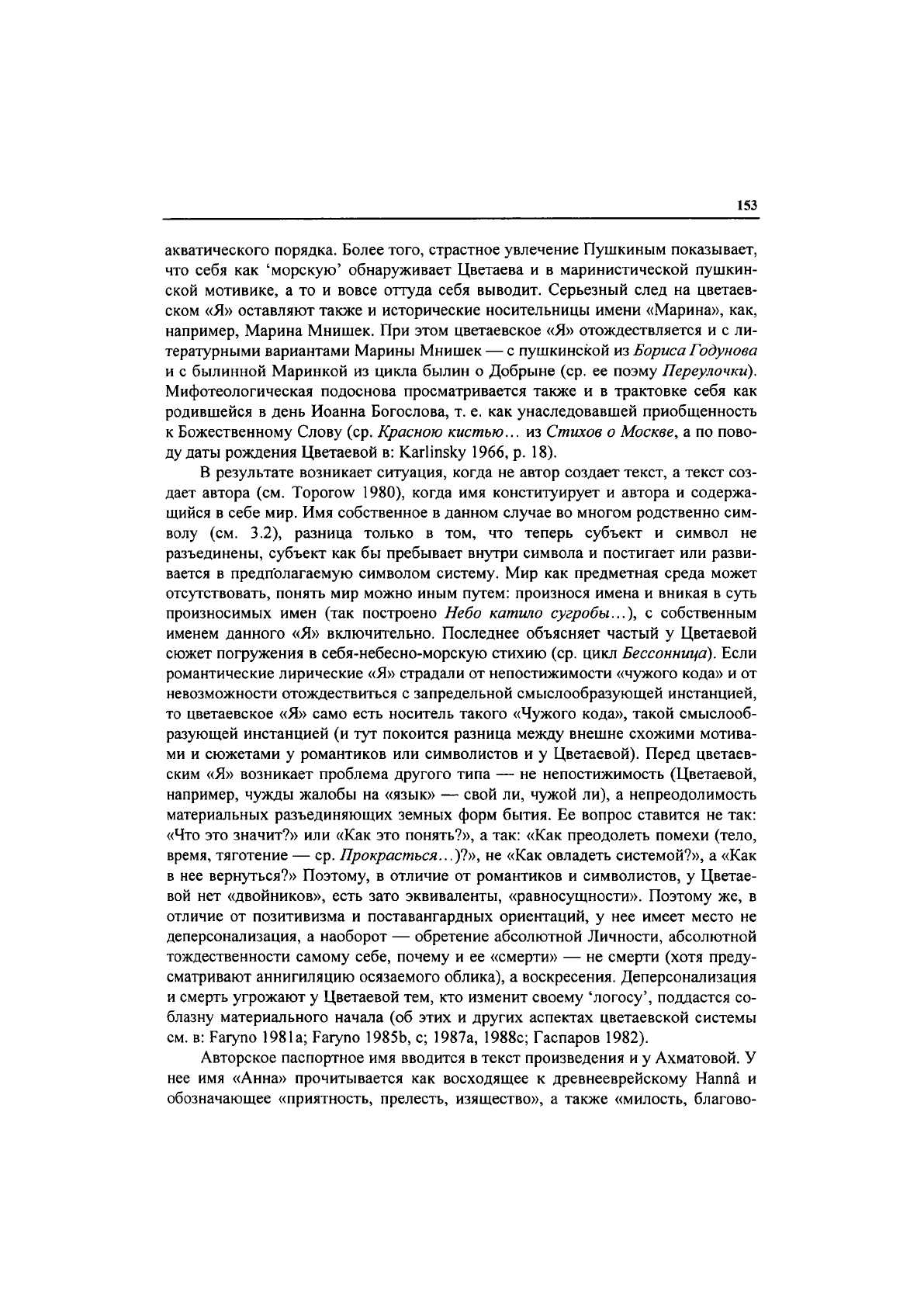
153
акватического порядка. Более того, страстное увлечение Пушкиным показывает,
что себя как 'морскую' обнаруживает Цветаева и в маринистической пушкин-
ской мотивике, а то и вовсе оттуда себя выводит. Серьезный след на цветаев-
ском «Я» оставляют также и исторические носительницы имени «Марина», как,
например, Марина Мнишек. При этом цветаевское «Я» отождествляется и с ли-
тературными вариантами Марины Мнишек — с пушкинской из Бориса Годунова
и с былинной Маринкой из цикла былин о Добрыне (ср. ее поэму Переулочки).
Мифотеологическая подоснова просматривается также и в трактовке себя как
родившейся в день Иоанна Богослова, т. е. как унаследовавшей приобщенность
к Божественному Слову (ср. Красною кистью... из Стихов о Москве, а по пово-
ду даты рождения Цветаевой в: Karlinsky 1966, р. 18).
В результате возникает ситуация, когда не автор создает текст, а текст соз-
дает автора (см. Toporow 1980), когда имя конституирует и автора и содержа-
щийся в себе мир. Имя собственное в данном случае во многом родственно сим-
волу (см. 3.2), разница только в том, что теперь субъект и символ не
разъединены, субъект как бы пребывает внутри символа и постигает или разви-
вается в предполагаемую символом систему. Мир как предметная среда может
отсутствовать, понять мир можно иным путем: произнося имена и вникая в суть
произносимых имен (так построено Небо катило сугробы...), с собственным
именем данного «Я» включительно. Последнее объясняет частый у Цветаевой
сюжет погружения в себя-небесно-морскую стихию (ср. цикл Бессонница). Если
романтические лирические «Я» страдали от непостижимости «чужого кода» и от
невозможности отождествиться с запредельной смыслообразующей инстанцией,
то цветаевское «Я» само есть носитель такого «Чужого кода», такой смыслооб-
разующей инстанцией (и тут покоится разница между внешне схожими мотива-
ми и сюжетами у романтиков или символистов и у Цветаевой). Перед цветаев-
ским «Я» возникает проблема другого типа — не непостижимость (Цветаевой,
например, чужды жалобы на «язык» — свой ли, чужой ли), а непреодолимость
материальных разъединяющих земных форм бытия. Ее вопрос ставится не так:
«Что это значит?» или «Как это понять?», а так: «Как преодолеть помехи (тело,
время, тяготение — ср. Прокрасться...)?», не «Как овладеть системой?», а «Как
в нее вернуться?» Поэтому, в отличие от романтиков и символистов, у Цветае-
вой нет «двойников», есть зато эквиваленты, «равносущности». Поэтому же, в
отличие от позитивизма и поставангардных ориентаций, у нее имеет место не
деперсонализация, а наоборот — обретение абсолютной Личности, абсолютной
тождественности самому себе, почему и ее «смерти» — не смерти (хотя преду-
сматривают аннигиляцию осязаемого облика), а воскресения. Деперсонализация
и смерть угрожают у Цветаевой тем, кто изменит своему 'логосу', поддастся со-
блазну материального начала (об этих и других аспектах цветаевской системы
см. в: Faryno 1981а; Faryno 1985b, с; 1987а, 1988с; Гаспаров 1982).
Авторское паспортное имя вводится в текст произведения и у Ахматовой. У
нее имя «Анна» прочитывается как восходящее к древнееврейскому Hanna и
обозначающее «приятность, прелесть, изящество», а также «милость, благово-
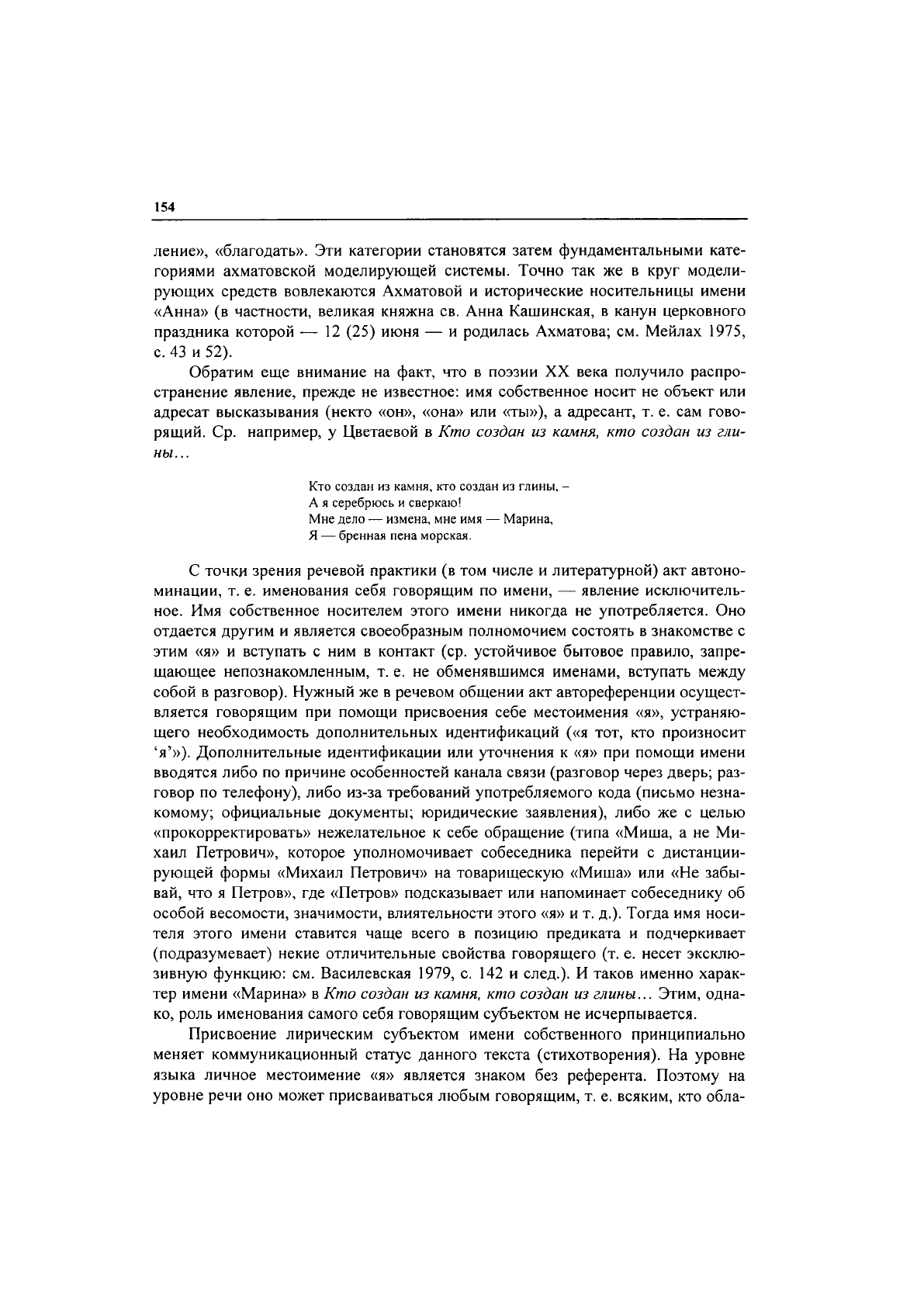
154
ление», «благодать». Эти категории становятся затем фундаментальными кате-
гориями ахматовской моделирующей системы. Точно так же в круг модели-
рующих средств вовлекаются Ахматовой и исторические носительницы имени
«Анна» (в частности, великая княжна св. Анна Кашинская, в канун церковного
праздника которой — 12 (25) июня — и родилась Ахматова; см. Мейлах 1975,
с. 43 и 52).
Обратим еще внимание на факт, что в поэзии XX века получило распро-
странение явление, прежде не известное: имя собственное носит не объект или
адресат высказывания (некто «он», «она» или «ты»), а адресант, т. е. сам гово-
рящий. Ср. например, у Цветаевой в Кто создан из камня, кто создан из гли-
ны...
Кто создан из камня, кто создан из глины, -
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — бренная пена морская.
С точки зрения речевой практики (в том числе и литературной) акт автоно-
минации, т. е. именования себя говорящим по имени, — явление исключитель-
ное. Имя собственное носителем этого имени никогда не употребляется. Оно
отдается другим и является своеобразным полномочием состоять в знакомстве с
этим «я» и вступать с ним в контакт (ср. устойчивое бытовое правило, запре-
щающее непознакомленным, т. е. не обменявшимся именами, вступать между
собой в разговор). Нужный же в речевом общении акт автореференции осущест-
вляется говорящим при помощи присвоения себе местоимения «я», устраняю-
щего необходимость дополнительных идентификаций («я тот, кто произносит
'я'»). Дополнительные идентификации или уточнения к «я» при помощи имени
вводятся либо по причине особенностей канала связи (разговор через дверь; раз-
говор по телефону), либо из-за требований употребляемого кода (письмо незна-
комому; официальные документы; юридические заявления), либо же с целью
«прокорректировать» нежелательное к себе обращение (типа «Миша, а не Ми-
хаил Петрович», которое уполномочивает собеседника перейти с дистанци-
рующей формы «Михаил Петрович» на товарищескую «Миша» или «Не забы-
вай, что я Петров», где «Петров» подсказывает или напоминает собеседнику об
особой весомости, значимости, влиятельности этого «я» и т. д.). Тогда имя носи-
теля этого имени ставится чаще всего в позицию предиката и подчеркивает
(подразумевает) некие отличительные свойства говорящего (т. е. несет эксклю-
зивную функцию: см. Василевская 1979, с. 142 и след.). И таков именно харак-
тер имени «Марина» в Кто создан из камня, кто создан из глины... Этим, одна-
ко, роль именования самого себя говорящим субъектом не исчерпывается.
Присвоение лирическим субъектом имени собственного принципиально
меняет коммуникационный статус данного текста (стихотворения). На уровне
языка личное местоимение «я» является знаком без референта. Поэтому на
уровне речи оно может присваиваться любым говорящим, т. е. всяким, кто обла-
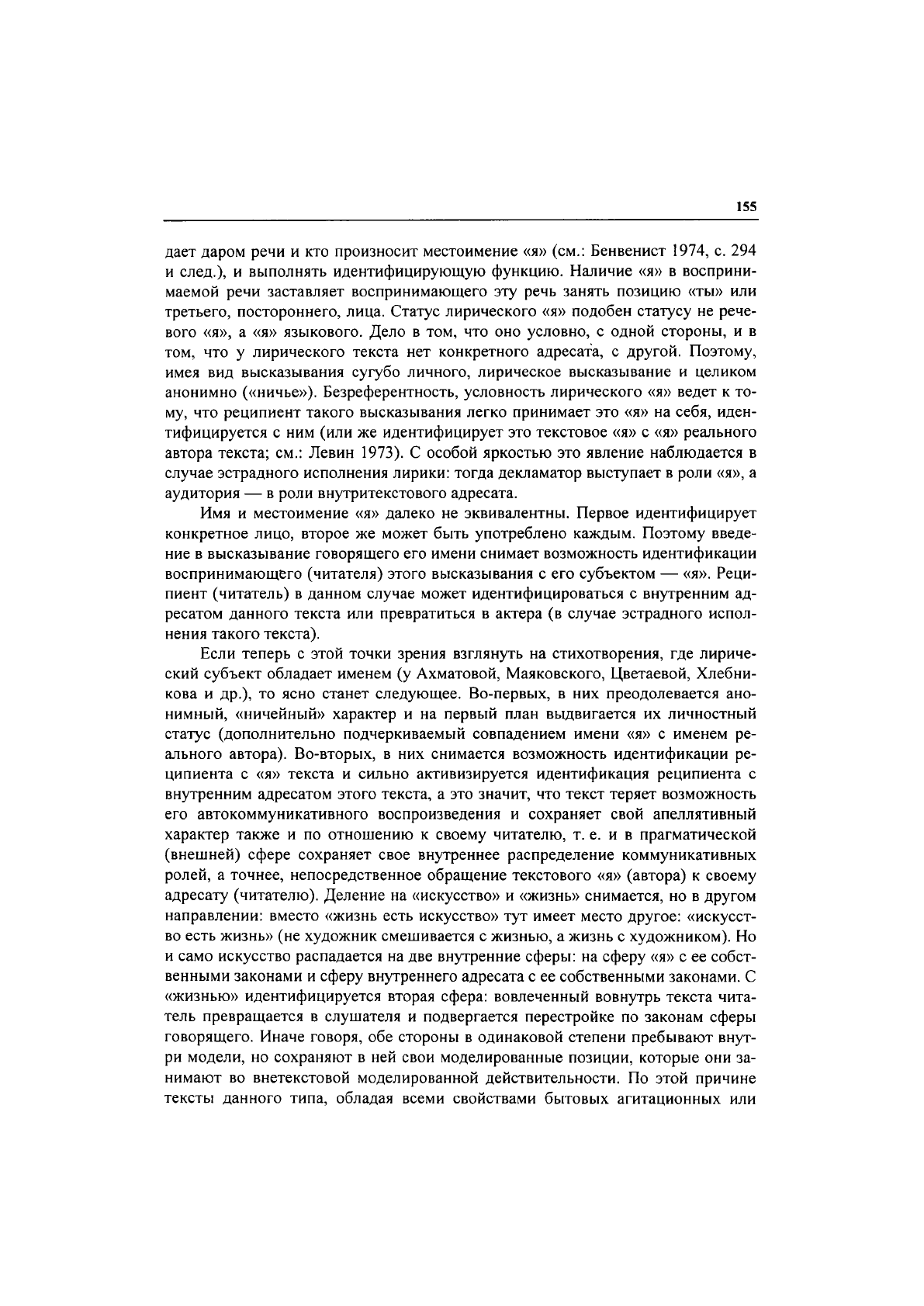
155
дает даром речи и кто произносит местоимение «я» (см.: Бенвенист 1974, с. 294
и след.), и выполнять идентифицирующую функцию. Наличие «я» в восприни-
маемой речи заставляет воспринимающего эту речь занять позицию «ты» или
третьего, постороннего, лица. Статус лирического «я» подобен статусу не рече-
вого «я», а «я» языкового. Дело в том, что оно условно, с одной стороны, и в
том, что у лирического текста нет конкретного адресата, с другой. Поэтому,
имея вид высказывания сугубо личного, лирическое высказывание и целиком
анонимно («ничье»). Безреферентность, условность лирического «я» ведет к то-
му, что реципиент такого высказывания легко принимает это «я» на себя, иден-
тифицируется с ним (или же идентифицирует это текстовое «я» с «я» реального
автора текста; см.: Левин 1973). С особой яркостью это явление наблюдается в
случае эстрадного исполнения лирики: тогда декламатор выступает в роли «я», а
аудитория — в роли внутритекстового адресата.
Имя и местоимение «я» далеко не эквивалентны. Первое идентифицирует
конкретное лицо, второе же может быть употреблено каждым. Поэтому введе-
ние в высказывание говорящего его имени снимает возможность идентификации
воспринимающего (читателя) этого высказывания с его субъектом — «я». Реци-
пиент (читатель) в данном случае может идентифицироваться с внутренним ад-
ресатом данного текста или превратиться в актера (в случае эстрадного испол-
нения такого текста).
Если теперь с этой точки зрения взглянуть на стихотворения, где лириче-
ский субъект обладает именем (у Ахматовой, Маяковского, Цветаевой, Хлебни-
кова и др.), то ясно станет следующее. Во-первых, в них преодолевается ано-
нимный, «ничейный» характер и на первый план выдвигается их личностный
статус (дополнительно подчеркиваемый совпадением имени «я» с именем ре-
ального автора). Во-вторых, в них снимается возможность идентификации ре-
ципиента с «я» текста и сильно активизируется идентификация реципиента с
внутренним адресатом этого текста, а это значит, что текст теряет возможность
его автокоммуникативного воспроизведения и сохраняет свой апеллятивный
характер также и по отношению к своему читателю, т. е. и в прагматической
(внешней) сфере сохраняет свое внутреннее распределение коммуникативных
ролей, а точнее, непосредственное обращение текстового «я» (автора) к своему
адресату (читателю). Деление на «искусство» и «жизнь» снимается, но в другом
направлении: вместо «жизнь есть искусство» тут имеет место другое: «искусст-
во есть жизнь» (не художник смешивается с жизнью, а жизнь с художником). Но
и само искусство распадается на две внутренние сферы: на сферу «я» с ее собст-
венными законами и сферу внутреннего адресата с ее собственными законами. С
«жизнью» идентифицируется вторая сфера: вовлеченный вовнутрь текста чита-
тель превращается в слушателя и подвергается перестройке по законам сферы
говорящего. Иначе говоря, обе стороны в одинаковой степени пребывают внут-
ри модели, но сохраняют в ней свои моделированные позиции, которые они за-
нимают во внетекстовой моделированной действительности. По этой причине
тексты данного типа, обладая всеми свойствами бытовых агитационных или
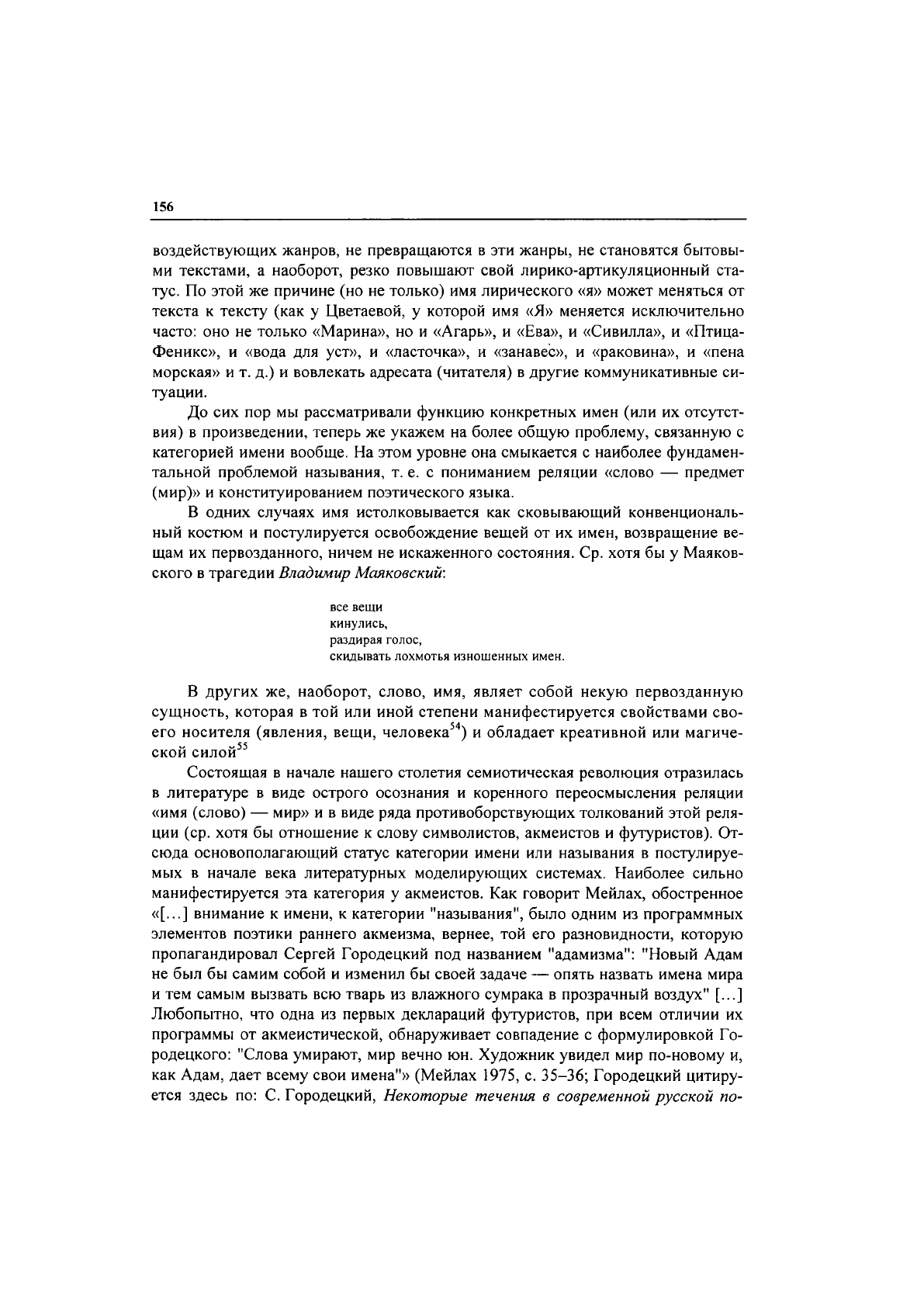
156
воздействующих жанров, не превращаются в эти жанры, не становятся бытовы-
ми текстами, а наоборот, резко повышают свой лирико-артикуляционный ста-
тус. По этой же причине (но не только) имя лирического «я» может меняться от
текста к тексту (как у Цветаевой, у которой имя «Я» меняется исключительно
часто: оно не только «Марина», но и «Агарь», и «Ева», и «Сивилла», и «Птица-
Феникс», и «вода для уст», и «ласточка», и «занавес», и «раковина», и «пена
морская» и т. д.) и вовлекать адресата (читателя) в другие коммуникативные си-
туации.
До сих пор мы рассматривали функцию конкретных имен (или их отсутст-
вия) в произведении, теперь же укажем на более общую проблему, связанную с
категорией имени вообще. На этом уровне она смыкается с наиболее фундамен-
тальной проблемой называния, т. е. с пониманием реляции «слово — предмет
(мир)» и конституированием поэтического языка.
В одних случаях имя истолковывается как сковывающий конвенциональ-
ный костюм и постулируется освобождение вещей от их имен, возвращение ве-
щам их первозданного, ничем не искаженного состояния. Ср. хотя бы у Маяков-
ского в трагедии Владимир Маяковский:
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
В других же, наоборот, слово, имя, являет собой некую первозданную
сущность, которая в той или иной степени манифестируется свойствами сво-
его носителя (явления, вещи, человека
54
) и обладает креативной или магиче-
ской силой
55
Состоящая в начале нашего столетия семиотическая революция отразилась
в литературе в виде острого осознания и коренного переосмысления реляции
«имя (слово) — мир» и в виде ряда противоборствующих толкований этой реля-
ции (ср. хотя бы отношение к слову символистов, акмеистов и футуристов). От-
сюда основополагающий статус категории имени или называния в постулируе-
мых в начале века литературных моделирующих системах. Наиболее сильно
манифестируется эта категория у акмеистов. Как говорит Мейлах, обостренное
«[...] внимание к имени, к категории "называния", было одним из программных
элементов поэтики раннего акмеизма, вернее, той его разновидности, которую
пропагандировал Сергей Городецкий под названием "адамизма": "Новый Адам
не был бы самим собой и изменил бы своей задаче — опять назвать имена мира
и тем самым вызвать всю тварь из влажного сумрака в прозрачный воздух" [...]
Любопытно, что одна из первых деклараций футуристов, при всем отличии их
программы от акмеистической, обнаруживает совпадение с формулировкой Го-
родецкого: "Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и,
как Адам, дает всему свои имена"» (Мейлах 1975, с. 35-36; Городецкий цитиру-
ется здесь по: С. Городецкий, Некоторые течения в современной русской по-
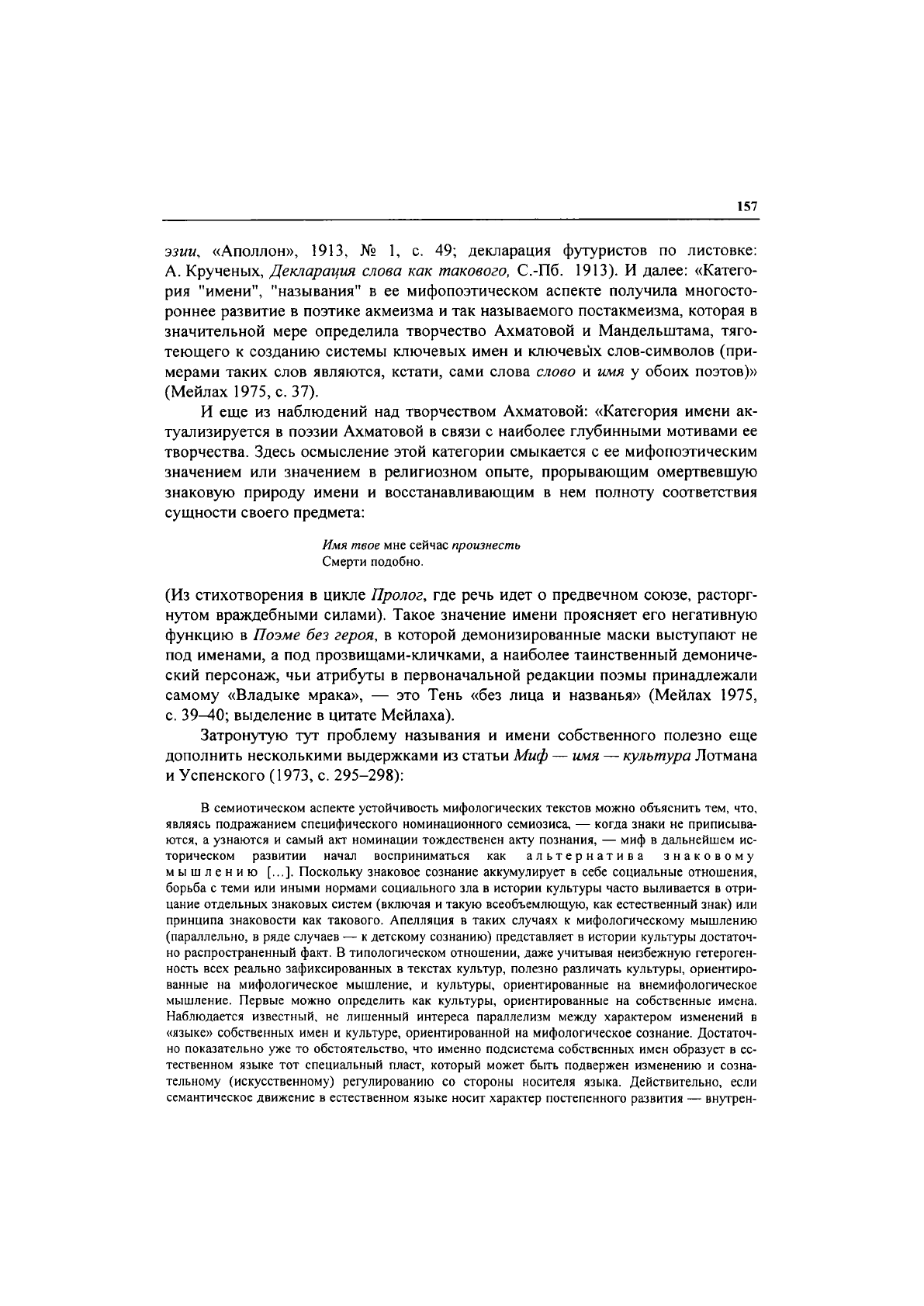
157
эзии, «Аполлон», 1913, № 1, с. 49; декларация футуристов по листовке:
А. Крученых, Декларация слова как такового, С.-Пб. 1913). И далее: «Катего-
рия "имени", "называния" в ее мифопоэтическом аспекте получила многосто-
роннее развитие в поэтике акмеизма и так называемого постакмеизма, которая в
значительной мере определила творчество Ахматовой и Мандельштама, тяго-
теющего к созданию системы ключевых имен и ключевых слов-символов (при-
мерами таких слов являются, кстати, сами слова слово и имя у обоих поэтов)»
(Мейлах 1975, с. 37).
И еще из наблюдений над творчеством Ахматовой: «Категория имени ак-
туализируется в поэзии Ахматовой в связи с наиболее глубинными мотивами ее
творчества. Здесь осмысление этой категории смыкается с ее мифопоэтическим
значением или значением в религиозном опыте, прорывающим омертвевшую
знаковую природу имени и восстанавливающим в нем полноту соответствия
сущности своего предмета:
Имя твое мне сейчас произнесть
Смерти подобно.
(Из стихотворения в цикле Пролог, где речь идет о предвечном союзе, расторг-
нутом враждебными силами). Такое значение имени проясняет его негативную
функцию в Поэме без героя, в которой демонизированные маски выступают не
под именами, а под прозвищами-кличками, а наиболее таинственный демониче-
ский персонаж, чьи атрибуты в первоначальной редакции поэмы принадлежали
самому «Владыке мрака», — это Тень «без лица и названья» (Мейлах 1975,
с. 39^40; выделение в цитате Мейлаха).
Затронутую тут проблему называния и имени собственного полезно еще
дополнить несколькими выдержками из статьи Миф — имя — культура Лотмана
и Успенского (1973, с. 295-298):
В семиотическом аспекте устойчивость мифологических текстов можно объяснить тем, что,
являясь подражанием специфического номинационного семиозиса, — когда знаки не приписыва-
ются, а узнаются и самый акт номинации тождественен акту познания, — миф в дальнейшем ис-
торическом развитии начал восприниматься как альтернатива знаковому
мышлению [...]. Поскольку знаковое сознание аккумулирует в себе социальные отношения,
борьба с теми или иными нормами социального зла в истории культуры часто выливается в отри-
цание отдельных знаковых систем (включая и такую всеобъемлющую, как естественный знак) или
принципа знаковости как такового. Апелляция в таких случаях к мифологическому мышлению
(параллельно, в ряде случаев — к детскому сознанию) представляет в истории культуры достаточ-
но распространенный факт. В типологическом отношении, даже учитывая неизбежную гетероген-
ность всех реально зафиксированных в текстах культур, полезно различать культуры, ориентиро-
ванные на мифологическое мышление, и культуры, ориентированные на внемифологическое
мышление. Первые можно определить как культуры, ориентированные на собственные имена.
Наблюдается известный, не лишенный интереса параллелизм между характером изменений в
«языке» собственных имен и культуре, ориентированной на мифологическое сознание. Достаточ-
но показательно уже то обстоятельство, что именно подсистема собственных имен образует в ес-
тественном языке тот специальный пласт, который может быть подвержен изменению и созна-
тельному (искусственному) регулированию со стороны носителя языка. Действительно, если
семантическое движение в естественном языке носит характер постепенного развития — внутрен-
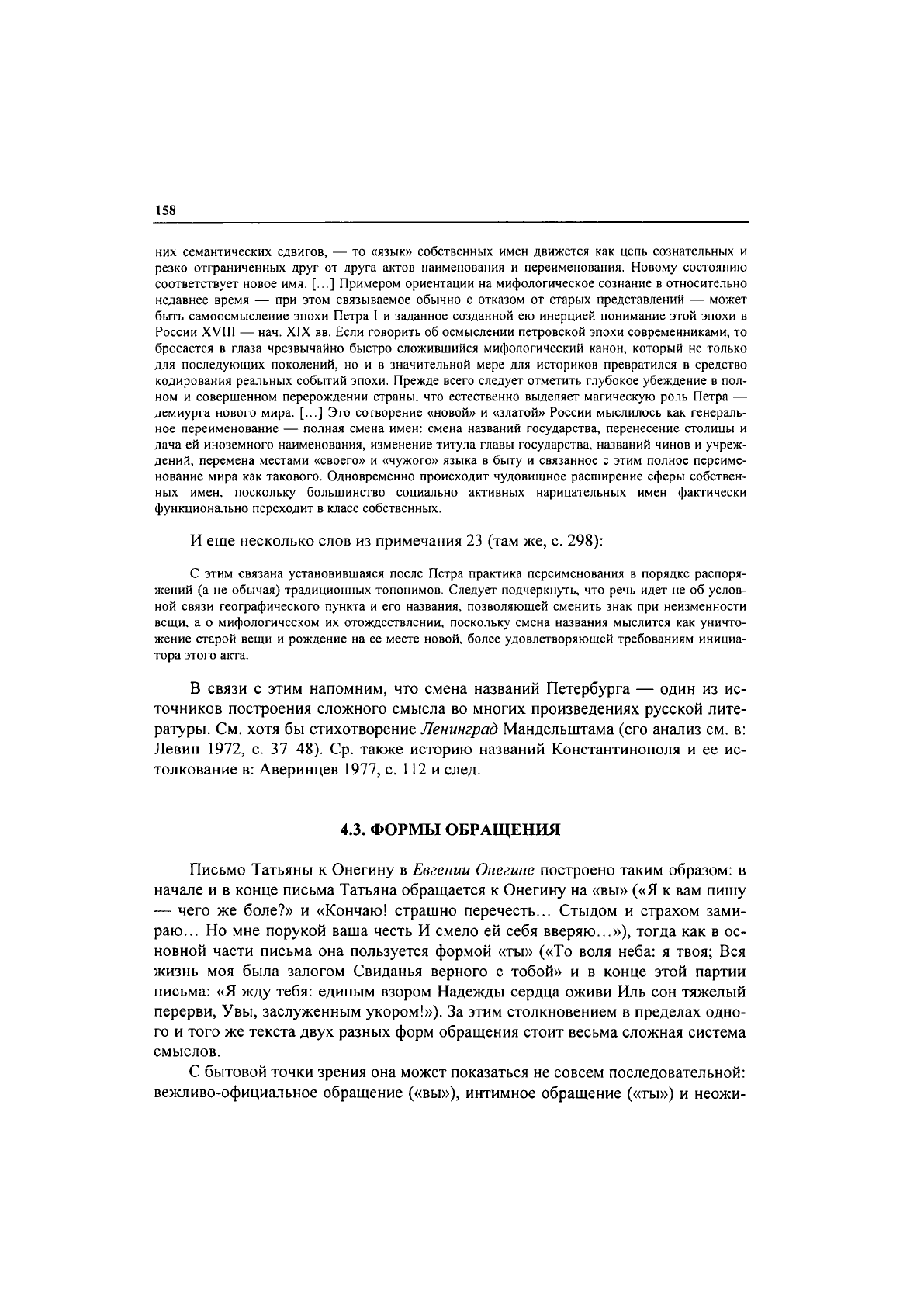
158
них семантических сдвигов, — то «язык» собственных имен движется как цепь сознательных и
резко отграниченных друг от друга актов наименования и переименования. Новому состоянию
соответствует новое имя. [...] Примером ориентации на мифологическое сознание в относительно
недавнее время — при этом связываемое обычно с отказом от старых представлений — может
быть самоосмысление эпохи Петра I и заданное созданной ею инерцией понимание этой эпохи в
России XVIII — нач. XIX вв. Если говорить об осмыслении петровской эпохи современниками, то
бросается в глаза чрезвычайно быстро сложившийся мифологический канон, который не только
для последующих поколений, но и в значительной мере для историков превратился в средство
кодирования реальных событий эпохи. Прежде всего следует отметить глубокое убеждение в пол-
ном и совершенном перерождении страны, что естественно выделяет магическую роль Петра —
демиурга нового мира. [...] Это сотворение «новой» и «златой» России мыслилось как генераль-
ное переименование — полная смена имен: смена названий государства, перенесение столицы и
дача ей иноземного наименования, изменение титула главы государства, названий чинов и учреж-
дений, перемена местами «своего» и «чужого» языка в быту и связанное с этим полное переиме-
нование мира как такового. Одновременно происходит чудовищное расширение сферы собствен-
ных имен, поскольку большинство социально активных нарицательных имен фактически
функционально переходит в класс собственных.
И еще несколько слов из примечания 23 (там же, с. 298):
С этим связана установившаяся после Петра практика переименования в порядке распоря-
жений (а не обычая) традиционных топонимов. Следует подчеркнуть, что речь идет не об услов-
ной связи географического пункта и его названия, позволяющей сменить знак при неизменности
вещи, а о мифологическом их отождествлении, поскольку смена названия мыслится как уничто-
жение старой вещи и рождение на ее месте новой, более удовлетворяющей требованиям инициа-
тора этого акта.
В связи с этим напомним, что смена названий Петербурга — один из ис-
точников построения сложного смысла во многих произведениях русской лите-
ратуры. См. хотя бы стихотворение Ленинград Мандельштама (его анализ см. в:
Левин 1972, с. 37^8). Ср. также историю названий Константинополя и ее ис-
толкование в: Аверинцев 1977, с. 112 и след.
4.3. ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ
Письмо Татьяны к Онегину в Евгении Онегине построено таким образом: в
начале и в конце письма Татьяна обращается к Онегину на «вы» («Я к вам пишу
— чего же боле?» и «Кончаю! страшно перечесть... Стыдом и страхом зами-
раю... Но мне порукой ваша честь И смело ей себя вверяю...»), тогда как в ос-
новной части письма она пользуется формой «ты» («То воля неба: я твоя; Вся
жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой» и в конце этой партии
письма: «Я жду тебя: единым взором Надежды сердца оживи Иль сон тяжелый
перерви, Увы, заслуженным укором!»). За этим столкновением в пределах одно-
го и того же текста двух разных форм обращения стоит весьма сложная система
смыслов.
С бытовой точки зрения она может показаться не совсем последовательной:
вежливо-официальное обращение («вы»), интимное обращение («ты») и неожи-
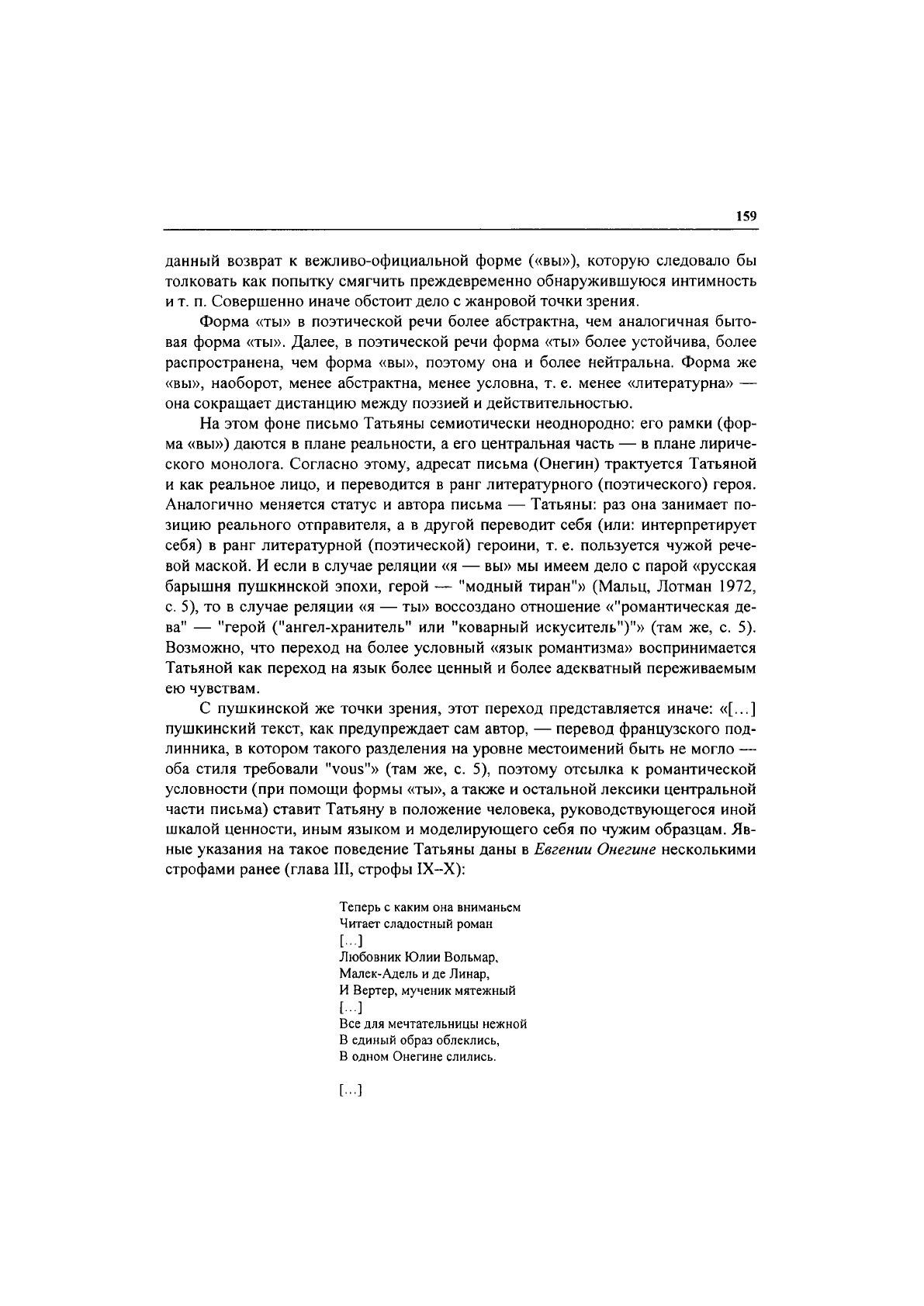
159
данный возврат к вежливо-официальной форме («вы»), которую следовало бы
толковать как попытку смягчить преждевременно обнаружившуюся интимность
и т. п. Совершенно иначе обстоит дело с жанровой точки зрения.
Форма «ты» в поэтической речи более абстрактна, чем аналогичная быто-
вая форма «ты». Далее, в поэтической речи форма «ты» более устойчива, более
распространена, чем форма «вы», поэтому она и более нейтральна. Форма же
«вы», наоборот, менее абстрактна, менее условна, т. е. менее «литературна» —
она сокращает дистанцию между поэзией и действительностью.
На этом фоне письмо Татьяны семиотически неоднородно: его рамки (фор-
ма «вы») даются в плане реальности, а его центральная часть — в плане лириче-
ского монолога. Согласно этому, адресат письма (Онегин) трактуется Татьяной
и как реальное лицо, и переводится в ранг литературного (поэтического) героя.
Аналогично меняется статус и автора письма — Татьяны: раз она занимает по-
зицию реального отправителя, а в другой переводит себя (или: интерпретирует
себя) в ранг литературной (поэтической) героини, т. е. пользуется чужой рече-
вой маской. И если в случае реляции «я — вы» мы имеем дело с парой «русская
барышня пушкинской эпохи, герой — "модный тиран"» (Мальц, Лотман 1972,
с. 5), то в случае реляции «я — ты» воссоздано отношение «"романтическая де-
ва" — "герой ("ангел-хранитель" или "коварный искуситель")"» (там же, с. 5).
Возможно, что переход на более условный «язык романтизма» воспринимается
Татьяной как переход на язык более ценный и более адекватный переживаемым
ею чувствам.
С пушкинской же точки зрения, этот переход представляется иначе: «[...]
пушкинский текст, как предупреждает сам автор, — перевод французского под-
линника, в котором такого разделения на уровне местоимений быть не могло —
оба стиля требовали "vous"» (там же, с. 5), поэтому отсылка к романтической
условности (при помощи формы «ты», а также и остальной лексики центральной
части письма) ставит Татьяну в положение человека, руководствующегося иной
шкалой ценности, иным языком и моделирующего себя по чужим образцам. Яв-
ные указания на такое поведение Татьяны даны в Евгении Онегине несколькими
строфами ранее (глава III, строфы ІХ-Х):
Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман
[...]
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный
[.»]
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.
