Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

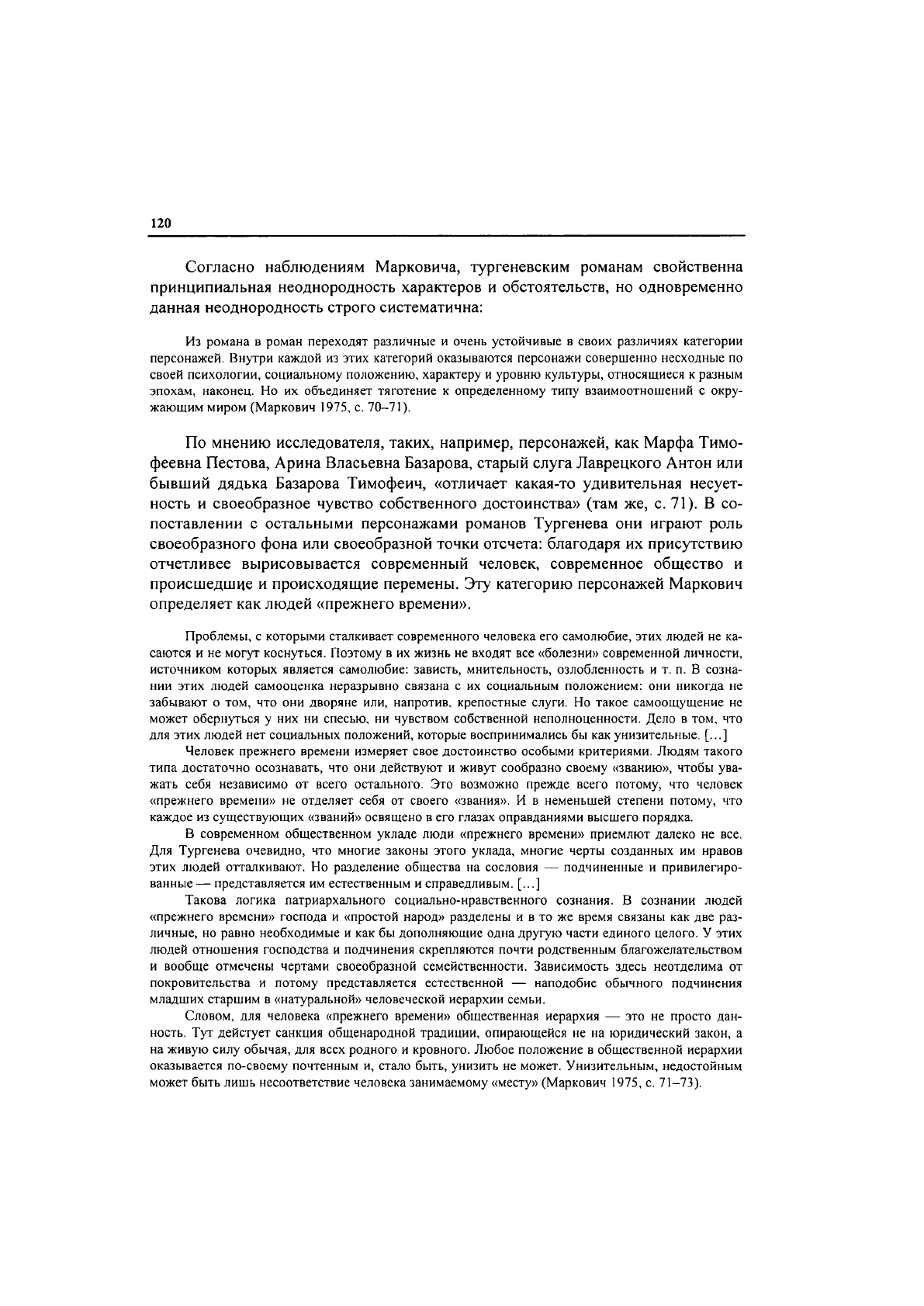
120
Согласно наблюдениям Марковича, тургеневским романам свойственна
принципиальная неоднородность характеров и обстоятельств, но одновременно
данная неоднородность строго систематична:
Из романа в роман переходят различные и очень устойчивые в своих различиях категории
персонажей. Внутри каждой из этих категорий оказываются персонажи совершенно несходные по
своей психологии, социальному положению, характеру и уровню культуры, относящиеся к разным
эпохам, наконец. Но их объединяет тяготение к определенному типу взаимоотношений с окру-
жающим миром (Маркович 1975, с. 70-71).
По мнению исследователя, таких, например, персонажей, как Марфа Тимо-
феевна Пестова, Арина Власьевна Базарова, старый слуга Лаврецкого Антон или
бывший дядька Базарова Тимофеич, «отличает какая-то удивительная несует-
ность и своеобразное чувство собственного достоинства» (там же, с. 71). В со-
поставлении с остальными персонажами романов Тургенева они играют роль
своеобразного фона или своеобразной точки отсчета: благодаря их присутствию
отчетливее вырисовывается современный человек, современное общество и
происшедшие и происходящие перемены. Эту категорию персонажей Маркович
определяет как людей «прежнего времени».
Проблемы, с которыми сталкивает современного человека его самолюбие, этих людей не ка-
саются и не могут коснуться. Поэтому в их жизнь не входят все «болезни» современной личности,
источником которых является самолюбие: зависть, мнительность, озлобленность и т. п. В созна-
нии этих людей самооценка неразрывно связана с их социальным положением: они никогда не
забывают о том, что они дворяне или, напротив, крепостные слуги. Но такое самоощущение не
может обернуться у них ни спесью, ни чувством собственной неполноценности. Дело в том, что
для этих людей нет социальных положений, которые воспринимались бы как унизительные. [...]
Человек прежнего времени измеряет свое достоинство особыми критериями. Людям такого
типа достаточно осознавать, что они действуют и живут сообразно своему «званию», чтобы ува-
жать себя независимо от всего остального. Это возможно прежде всего потому, что человек
«прежнего времени» не отделяет себя от своего «звания». И в неменьшей степени потому, что
каждое из существующих «званий» освящено в его глазах оправданиями высшего порядка.
В современном общественном укладе люди «прежнего времени» приемлют далеко не все.
Для Тургенева очевидно, что многие законы этого уклада, многие черты созданных им нравов
этих людей отталкивают. Но разделение общества на сословия — подчиненные и привилегиро-
ванные— представляется им естественным и справедливым. [...]
Такова логика патриархального социально-нравственного сознания. В сознании людей
«прежнего времени» господа и «простой народ» разделены и в то же время связаны как две раз-
личные, но равно необходимые и как бы дополняющие одна другую части единого целого. У этих
людей отношения господства и подчинения скрепляются почти родственным благожелательством
и вообще отмечены чертами своеобразной семейственности. Зависимость здесь неотделима от
покровительства и потому представляется естественной — наподобие обычного подчинения
младших старшим в «натуральной» человеческой иерархии семьи.
Словом, для человека «прежнего времени» общественная иерархия — это не просто дан-
ность. Тут дейстует санкция общенародной традиции, опирающейся не на юридический закон, а
на живую силу обычая, для всех родного и кровного. Любое положение в общественной иерархии
оказывается по-своему почтенным и, стало быть, унизить не может. Унизительным, недостойным
может быть лишь несоответствие человека занимаемому «месту» (Маркович 1975, с. 71-73).

121
На сюжетном уровне персонажи этой категории занимают маргинальную
позицию, но она отнюдь не второстепенна по своей функции. В тургеневской
системе эти персонажи, хотя и принадлежат к бесповоротно ушедшему миру,
вводят представление о некогда реальной в русской истории возможности
«единства человека с общественным целым» (там же, с. 74).
Эти живые воплощения «прежнего времени» нужны Тургеневу для того, чтобы современ-
ность предстала в отчетливой соотнесенности с прошлым — как следствие распада былого обще-
ственного единства. Возникающие контрасты наглядно отмечают, как далеко этот процесс зашел и
куда он ведет. А ведет он прежде всего к разнообразию взаимоотношений человека с обществом.
Существенный общественный уклад тоже облекает жизнь человека в готовые формы, но его
власть над этой жизнью представляется Тургеневу механической и, в сущности, внешней. Нормы,
заданные господствующим укладом, требуют от человека лишь простого подчинения. Они бес-
сильны наполнить человеческую жизнь идейным, нравственным, вообще духовным смыслом, дать
ей высшее оправдание. Теперь человек, в принципе, может сам решать, как
и
для чего ему жить.
Следствием этого оказывается разнообразие решений и, соответственно, разнообразие взаи-
моотношений человека с обществом. По мысли Тургенева, в современных исторических условиях
складывается несколько типов или, говоря иначе, несколько уровней этих отношений, потому что
замеченные Тургеневым типы отношений личности и общества, с точки зрения писателя, нерав-
ноценны (там же, с". 74-75).
Далее Маркович подробно останавливается на трех основных, выделенных
им, категориях персонажей и нескольких промежуточных. Мы здесь вкратце
изложим лишь наблюдения над первыми.
К наиболее низкому уровню (по тургеневской шкале оценок) относятся, на-
пример, такие персонажи, как Пандалевский и Пигасов, отец Лизы Калитиной и
жена Лаврецкого, Паншин и Гедеоновский, Курнатовский и Николай Артемьич
Стахов.
Основа всех побуждений этих людей — эгоизм. Их истинная цель — житейское преуспея-
ние. Оно может рисоваться им в разных формах, но в любой форме цель эта лишена духовного
содержания. Этим людям категорически отказано в нравственном самосознании, в религиозности,
в патриотизме, в элементарной принципиальности. Даже безупречная служебная честность Курна-
товского для писателя только форма, в которую облекается карьеризм особого склада.
Но при всей беспощадности Тургенева к этим людям жизненная позиция каждого из них не
лишена в глазах романиста какого-то (пусть даже очень слабо выраженного) человеческого смыс-
ла. Прежде всего Тургенев заставляет нас заметить, что в каждом из этих людей стремление пре-
успеть порождается (или усиливается) объективным противоречием, возникшим независимо от
его воли. Гвардейский офицер Николай Артемьич Стахов был красив собой, хорошо сложен и
считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, но в большой свет ему не
было дороги. [...]
У каждого из этих людей свой предел мечтаний. Однако источник их притязаний, в сущно-
сти, один и тот же. С точки зрения норм соответствующей среды у каждого из них есть основания
чувствовать свою неполноценность. И в каждом случае человек не хочет с ней смириться. Он чув-
ствует, что обладает качествами, способными обеспечить успех. А потому и стремится возвысить-
ся вопреки обстоятельствам, поставившим его в положение, которое он не может считать естест-
венным и достойным (там же, с. 75-77).
На фоне жизненной позиции людей «прежнего времени» человек
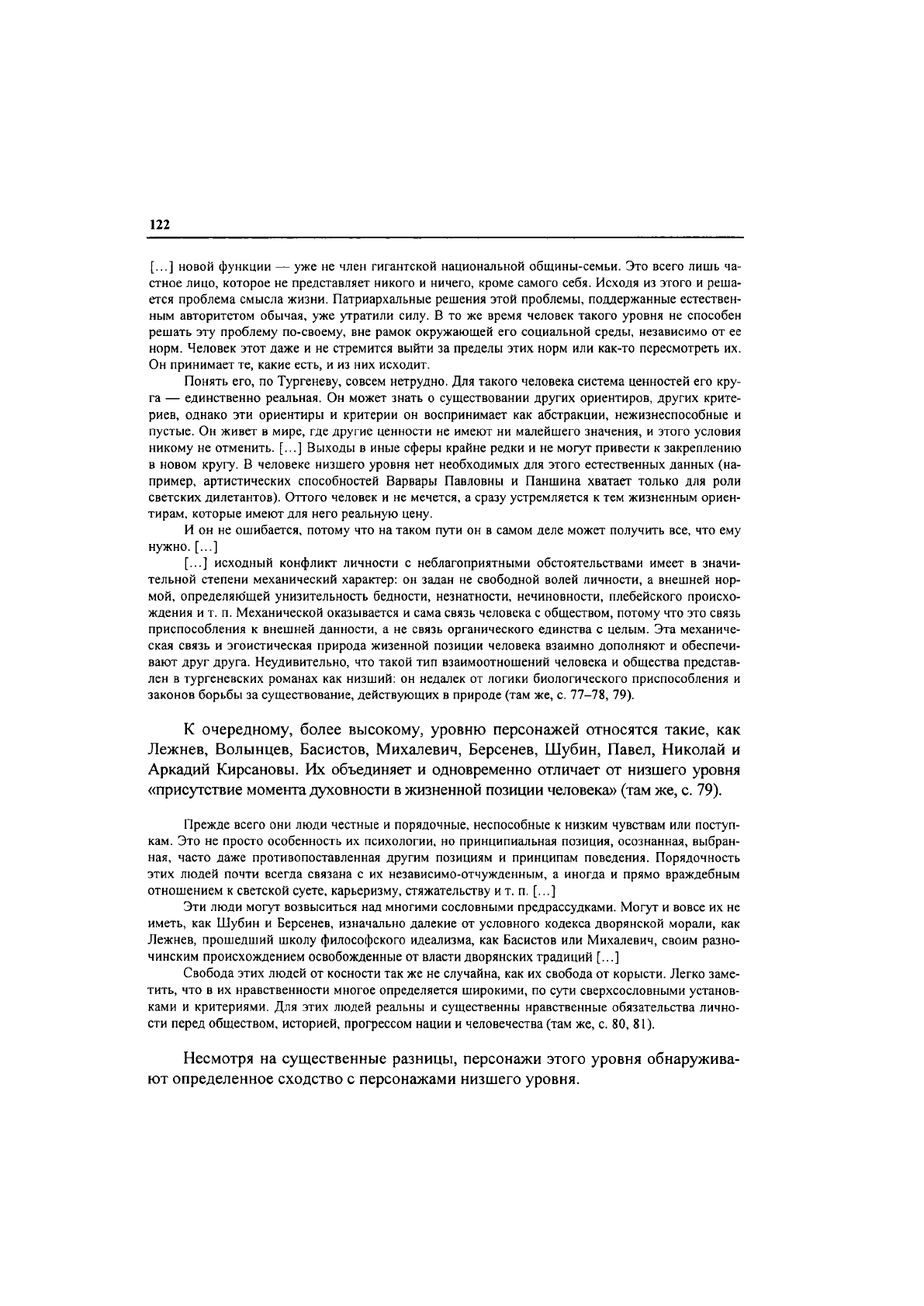
122
[...] новой функции — уже не член гигантской национальной общины-семьи. Это всего лишь ча-
стное лицо, которое не представляет никого и ничего, кроме самого себя. Исходя из этого и реша-
ется проблема смысла жизни. Патриархальные решения этой проблемы, поддержанные естествен-
ным авторитетом обычая, уже утратили силу. В то же время человек такого уровня не способен
решать эту проблему по-своему, вне рамок окружающей его социальной среды, независимо от ее
норм. Человек этот даже и не стремится выйти за пределы этих норм или как-то пересмотреть их.
Он принимает те, какие есть, и из них исходит.
Понять его, по Тургеневу, совсем нетрудно. Для такого человека система ценностей его кру-
га — единственно реальная. Он может знать о существовании других ориентиров, других крите-
риев, однако эти ориентиры и критерии он воспринимает как абстракции, нежизнеспособные и
пустые. Он живет в мире, где другие ценности не имеют ни малейшего значения, и этого условия
никому не отменить. [...] Выходы в иные сферы крайне редки и не могут привести к закреплению
в новом кругу. В человеке низшего уровня нет необходимых для этого естественных данных (на-
пример, артистических способностей Варвары Павловны и Паншина хватает только для роли
светских дилетантов). Оттого человек и не мечется, а сразу устремляется к тем жизненным ориен-
тирам, которые имеют для него реальную цену.
И он не ошибается, потому что на таком пути он в самом деле может получить все, что ему
нужно. [...]
[...] исходный конфликт личности с неблагоприятными обстоятельствами имеет в значи-
тельной степени механический характер: он задан не свободной волей личности, а внешней нор-
мой, определяющей унизительность бедности, незнатности, нечиновности, плебейского происхо-
ждения и т. п. Механической оказывается и сама связь человека с обществом, потому что это связь
приспособления к внешней данности, а не связь органического единства с целым. Эта механиче-
ская связь и эгоистическая природа жизенной позиции человека взаимно дополняют и обеспечи-
вают друг друга. Неудивительно, что такой тип взаимоотношений человека и общества представ-
лен в тургеневских романах как низший: он недалек от логики биологического приспособления и
законов борьбы за существование, действующих в природе (там же, с. 77-78, 79).
К очередному, более высокому, уровню персонажей относятся такие, как
Лежнев, Волынцев, Басистов, Михалевич, Берсенев, Шубин, Павел, Николай и
Аркадий Кирсановы. Их объединяет и одновременно отличает от низшего уровня
«присутствие момента духовности в жизненной позиции человека» (там же, с. 79).
Прежде всего они люди честные и порядочные, неспособные к низким чувствам или поступ-
кам. Это не просто особенность их психологии, но принципиальная позиция, осознанная, выбран-
ная, часто даже противопоставленная другим позициям и принципам поведения. Порядочность
этих людей почти всегда связана с их независимо-отчужденным, а иногда и прямо враждебным
отношением к светской суете, карьеризму, стяжательству и т. п. [...]
Эти люди могут возвыситься над многими сословными предрассудками. Могут и вовсе их не
иметь, как Шубин и Берсенев, изначально далекие от условного кодекса дворянской морали, как
Лежнев, прошедший школу философского идеализма, как Басистов или Михалевич, своим разно-
чинским происхождением освобожденные от власти дворянских традиций [...]
Свобода этих людей от косности так же не случайна, как их свобода от корысти. Легко заме-
тить, что в их нравственности многое определяется широкими, по сути сверхсословными установ-
ками и критериями. Для этих людей реальны и существенны нравственные обязательства лично-
сти перед обществом, историей, прогрессом нации и человечества (там же, с. 80, 81).
Несмотря на существенные разницы, персонажи этого уровня обнаружива-
ют определенное сходство с персонажами низшего уровня.
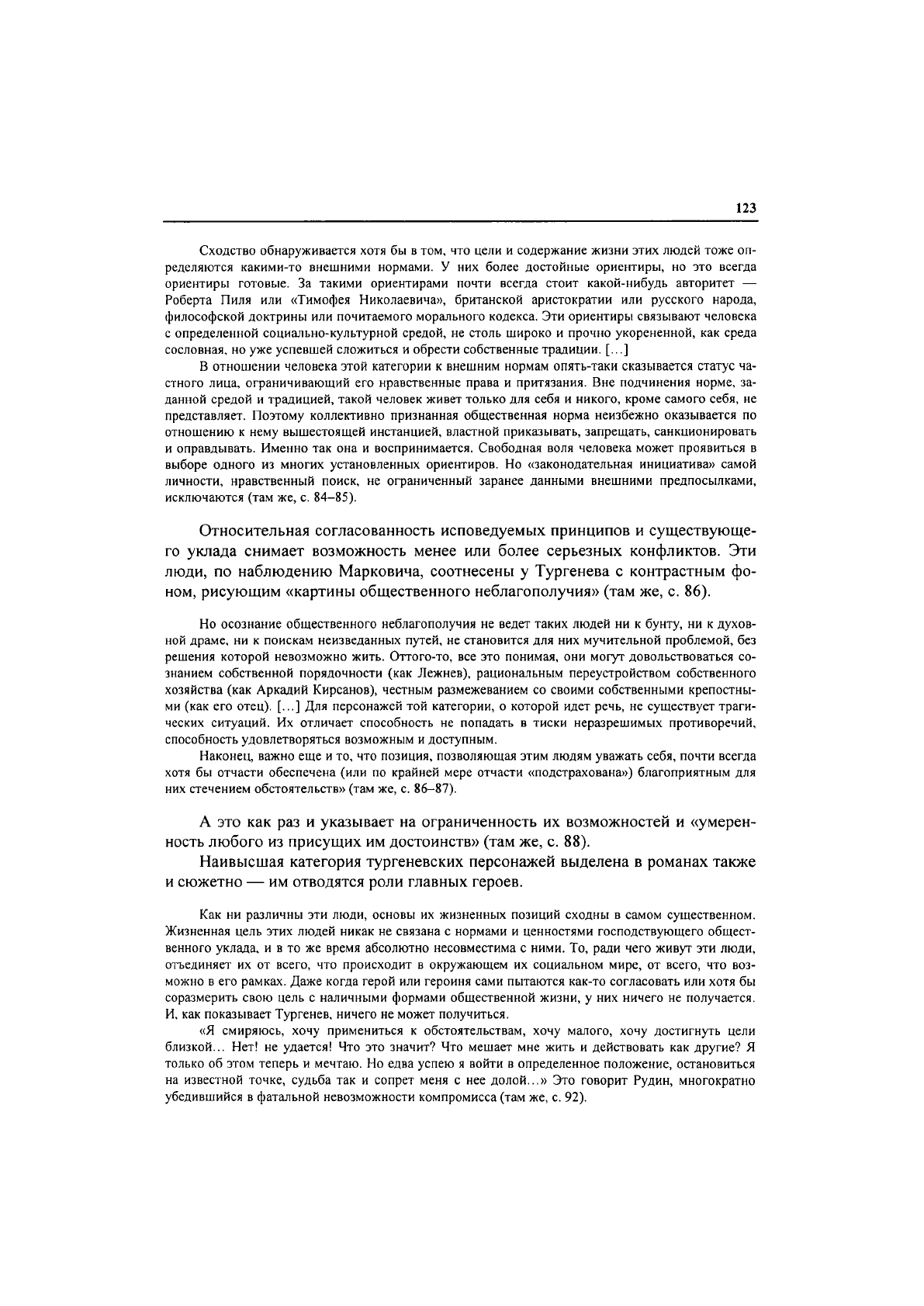
123
Сходство обнаруживается хотя бы в том, что цели и содержание жизни этих людей тоже оп-
ределяются какими-то внешними нормами. У них более достойные ориентиры, но это всегда
ориентиры готовые. За такими ориентирами почти всегда стоит какой-нибудь авторитет —
Роберта Пиля или «Тимофея Николаевича», британской аристократии или русского народа,
философской доктрины или почитаемого морального кодекса. Эти ориентиры связывают человека
с определенной социально-культурной средой, не столь широко и прочно укорененной, как среда
сословная, но уже успевшей сложиться и обрести собственные традиции. [...]
В отношении человека этой категории к внешним нормам опять-таки сказывается статус ча-
стного лица, ограничивающий его нравственные права и притязания. Вне подчинения норме, за-
данной средой и традицией, такой человек живет только для себя и никого, кроме самого себя, не
представляет. Поэтому коллективно признанная общественная норма неизбежно оказывается по
отношению к нему вышестоящей инстанцией, властной приказывать, запрещать, санкционировать
и оправдывать. Именно так она и воспринимается. Свободная воля человека может проявиться в
выборе одного из многих установленных ориентиров. Но «законодательная инициатива» самой
личности, нравственный поиск, не ограниченный заранее данными внешними предпосылками,
исключаются (там же, с. 84-85).
Относительная согласованность исповедуемых принципов и существующе-
го уклада снимает возможность менее или более серьезных конфликтов. Эти
люди, по наблюдению Марковича, соотнесены у Тургенева с контрастным фо-
ном, рисующим «картины общественного неблагополучия» (там же, с. 86).
Но осознание общественного неблагополучия не ведет таких людей ни к бунту, ни к духов-
ной драме, ни к поискам неизведанных путей, не становится для них мучительной проблемой, без
решения которой невозможно жить. Оттого-то, все это понимая, они могут довольствоваться со-
знанием собственной порядочности (как Лежнев), рациональным переустройством собственного
хозяйства (как Аркадий Кирсанов), честным размежеванием со своими собственными крепостны-
ми (как его отец). [...] Для персонажей той категории, о которой идет речь, не существует траги-
ческих ситуаций. Их отличает способность не попадать в тиски неразрешимых противоречий,
способность удовлетворяться возможным и доступным.
Наконец, важно еще и то, что позиция, позволяющая этим людям уважать себя, почти всегда
хотя бы отчасти обеспечена (или по крайней мере отчасти «подстрахована») благоприятным для
них стечением обстоятельств» (там же, с. 86-87).
А это как раз и указывает на ограниченность их возможностей и «умерен-
ность любого из присущих им достоинств» (там же, с. 88).
Наивысшая категория тургеневских персонажей выделена в романах также
и сюжетно — им отводятся роли главных героев.
Как ни различны эти люди, основы их жизненных позиций сходны в самом существенном.
Жизненная цель этих людей никак не связана с нормами и ценностями господствующего общест-
венного уклада, и в то же время абсолютно несовместима с ними. То, ради чего живут эти люди,
отъединяет их от всего, что происходит в окружающем их социальном мире, от всего, что воз-
можно в его рамках. Даже когда герой или героиня сами пытаются как-то согласовать или хотя бы
соразмерить свою цель с наличными формами общественной жизни, у них ничего не получается.
И, как показывает Тургенев, ничего не может получиться.
«Я смиряюсь, хочу примениться к обстоятельствам, хочу малого, хочу достигнуть цели
близкой... Нет! не удается! Что это значит? Что мешает мне жить и действовать как другие? Я
только об этом теперь и мечтаю. Но едва успею я войти в определенное положение, остановиться
на известной точке, судьба так и сопрет меня с нее долой...» Это говорит Рудин, многократно
убедившийся в фатальной невозможности компромисса (там же, с. 92).
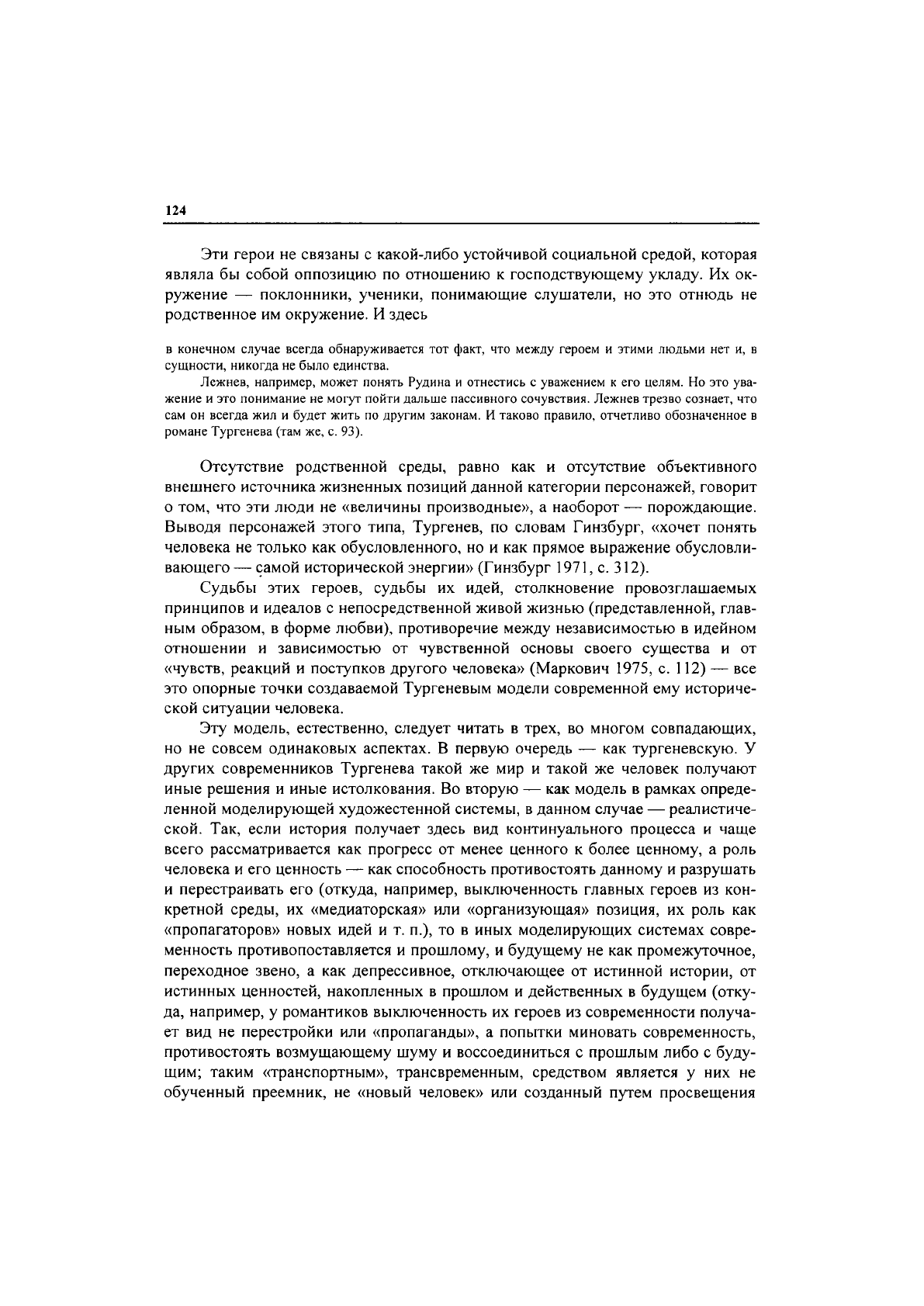
124
Эти герои не связаны с какой-либо устойчивой социальной средой, которая
являла бы собой оппозицию по отношению к господствующему укладу. Их ок-
ружение — поклонники, ученики, понимающие слушатели, но это отнюдь не
родственное им окружение. И здесь
в конечном случае всегда обнаруживается тот факт, что между героем и этими людьми нет и, в
сущности, никогда не было единства.
Лежнев, например, может понять Рудина и отнестись с уважением к его целям. Но это ува-
жение и это понимание не могут пойти дальше пассивного сочувствия. Лежнев трезво сознает, что
сам он всегда жил и будет жить по другим законам. И таково правило, отчетливо обозначенное в
романе Тургенева (там же, с. 93).
Отсутствие родственной среды, равно как и отсутствие объективного
внешнего источника жизненных позиций данной категории персонажей, говорит
о том, что эти люди не «величины производные», а наоборот — порождающие.
Выводя персонажей этого типа, Тургенев, по словам Гинзбург, «хочет понять
человека не только как обусловленного, но и как прямое выражение обусловли-
вающего — самой исторической энергии» (Гинзбург 1971, с. 312).
Судьбы этих героев, судьбы их идей, столкновение провозглашаемых
принципов и идеалов с непосредственной живой жизнью (представленной, глав-
ным образом, в форме любви), противоречие между независимостью в идейном
отношении и зависимостью от чувственной основы своего существа и от
«чувств, реакций и поступков другого человека» (Маркович 1975, с. 112) — все
это опорные точки создаваемой Тургеневым модели современной ему историче-
ской ситуации человека.
Эту модель, естественно, следует читать в трех, во многом совпадающих,
но не совсем одинаковых аспектах. В первую очередь — как тургеневскую. У
других современников Тургенева такой же мир и такой же человек получают
иные решения и иные истолкования. Во вторую — как модель в рамках опреде-
ленной моделирующей художестенной системы, в данном случае — реалистиче-
ской. Так, если история получает здесь вид континуального процесса и чаще
всего рассматривается как прогресс от менее ценного к более ценному, а роль
человека и его ценность — как способность противостоять данному и разрушать
и перестраивать его (откуда, например, выключенность главных героев из кон-
кретной среды, их «медиаторская» или «организующая» позиция, их роль как
«пропагаторов» новых идей и т. п.), то в иных моделирующих системах совре-
менность противопоставляется и прошлому, и будущему не как промежуточное,
переходное звено, а как депрессивное, отключающее от истинной истории, от
истинных ценностей, накопленных в прошлом и действенных в будущем (отку-
да, например, у романтиков выключенность их героев из современности получа-
ет вид не перестройки или «пропаганды», а попытки миновать современность,
противостоять возмущающему шуму и воссоединиться с прошлым либо с буду-
щим; таким «транспортным», трансвременным, средством является у них не
обученный преемник, не «новый человек» или созданный путем просвещения

125
«новый класс», а «воспоминания», «мечты», «искусство», «гений», «пророк»,
т. е. все те состояния, которые родственны постижению смыслопорождающего
начала данного на «темном языке» окружающего «мира-текста»). Итак, если и у
романтиков и у реалистов любовь чаще всего не осуществляется и имеет траги-
ческий исход, то это, помимо внешнего подобия, две совершенно «разные люб-
ви». Тургеневским героям любовь напоминает о их чувственной и биологиче-
ской детерминированности, не позволяет стать чистой идеей, полностью
оторваться от мира, вознестись над ним и радикально его перестроить. Более
того, любовь совлекает их с неких идейных вершин и ситуирует в системе суще-
ствующих социальных отношений. Популярный у реалистов любовный тре-
угольник тоже не похож на своих предшественников: он нужен не столько для
показа страстей или для психологического анализа, сколько играет роль медиа-
тора для героев между разными, иначе несоприкасающимися социальными сфе-
рами, т. е. осуществляет постулат «транзитивности» реалистической системы
моделирования (см.: Дёринг-Смирнова, Смирнов 1982, с. 37). Романтическая же
любовь строится на разминовениях, на расхождении между доступной формой
любви и ее запредельным идеальным инвариантом, или же на разрыве между
разными уровнями бытия, на которых ситуируются влюбленные (ср.: Лотман
1968а; Faryno 1974b и 1979с).
Третий аспект родственен второму, но небесполезно все-таки их различать.
Подразумевающая «не искажающую» по отношению к миру роль языка и пред-
ставлений о мире, подразумевающая адекватность этих двух сфер, реалистиче-
ская моделирующая система совпадает с нехудожественной системой позитиви-
стского мировосприятия и миропонимания. Казалось бы, что в случае
совпадения не о чем и говорить. Тем не менее осознание того, что эти сферы не
в любой исторический момент совпадают и что в иную культурную эпоху они
намеренно разводятся и противопоставляются друг другу, позволяет понять, по-
чему реалистические произведения не знают острых разграничений между бы-
товыми, политическими, социологическими, историософскими и чисто литера-
турными жанрами, что в свою очередь позволяет увидеть, что все эти мотивы,
например у Тургенева, имеют характер именно средств художественного моде-
лирования современности, хотя современники могли их читать и вовсе не учи-
тывая их литературного (т. е. безреферентного) характера.
С перспективы последней четверти XX века, когда нам предшествующие
моделирующие системы приходится реконструировать по опубликованным и
частично сохранившимся в архивах и музех произведениям (разного жанра и
разного назначения) и предметам, эти реконструкции мы готовы распространять
на всю жизнь интересующей нас эпохи и, например, представлять, что все со-
временники романтиков воспринимали мир и вели себя в этом мире по законам
культивированных ими художественных моделирующих систем и что иначе они
мира не воспринимали и воспринимать не могли. Но это верно только отчасти
— некоторые сферы жизни, действительно, охватывались данным моделирова-
нием. Но им было присуще видеть мир и глазами «здравого смысла», значитель-
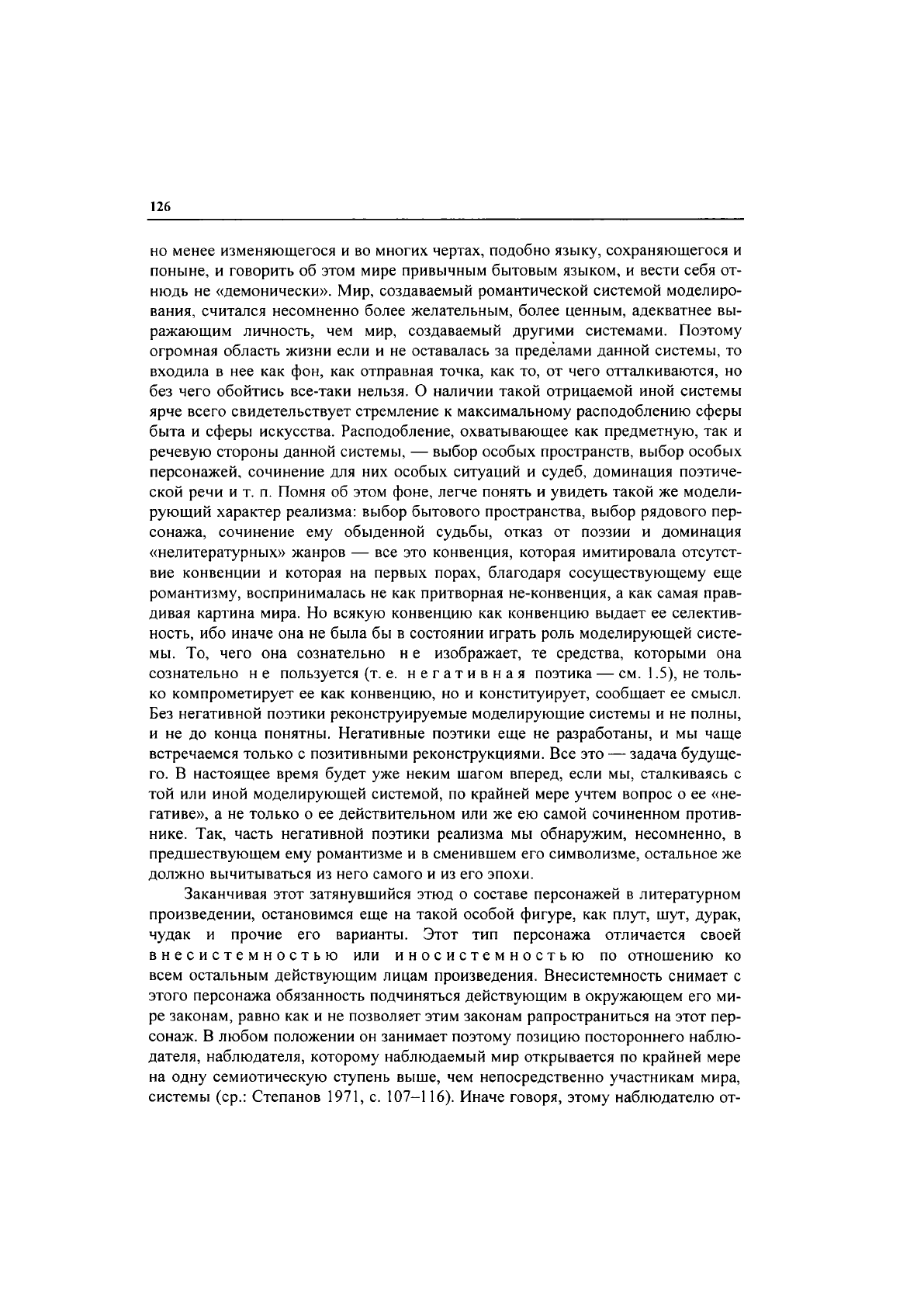
126
но менее изменяющегося и во многих чертах, подобно языку, сохраняющегося и
поныне, и говорить об этом мире привычным бытовым языком, и вести себя от-
нюдь не «демонически». Мир, создаваемый романтической системой моделиро-
вания, считался несомненно более желательным, более ценным, адекватнее вы-
ражающим личность, чем мир, создаваемый другими системами. Поэтому
огромная область жизни если и не оставалась за пределами данной системы, то
входила в нее как фон, как отправная точка, как то, от чего отталкиваются, но
без чего обойтись все-таки нельзя. О наличии такой отрицаемой иной системы
ярче всего свидетельствует стремление к максимальному расподоблению сферы
быта и сферы искусства. Расподобление, охватывающее как предметную, так и
речевую стороны данной системы, — выбор особых пространств, выбор особых
персонажей, сочинение для них особых ситуаций и судеб, доминация поэтиче-
ской речи и т. п. Помня об этом фоне, легче понять и увидеть такой же модели-
рующий характер реализма: выбор бытового пространства, выбор рядового пер-
сонажа, сочинение ему обыденной судьбы, отказ от поэзии и доминация
«нелитературных» жанров — все это конвенция, которая имитировала отсутст-
вие конвенции и которая на первых порах, благодаря сосуществующему еще
романтизму, воспринималась не как притворная не-конвенция, а как самая прав-
дивая картина мира. Но всякую конвенцию как конвенцию выдает ее селектив-
ность, ибо иначе она не была бы в состоянии играть роль моделирующей систе-
мы. То, чего она сознательно н е изображает, те средства, которыми она
сознательно н е пользуется (т. е. негативная поэтика — см. 1.5), не толь-
ко компрометирует ее как конвенцию, но и конституирует, сообщает ее смысл.
Без негативной поэтики реконструируемые моделирующие системы и не полны,
и не до конца понятны. Негативные поэтики еще не разработаны, и мы чаще
встречаемся только с позитивными реконструкциями. Все это — задача будуще-
го. В настоящее время будет уже неким шагом вперед, если мы, сталкиваясь с
той или иной моделирующей системой, по крайней мере учтем вопрос о ее «не-
гативе», а не только о ее действительном или же ею самой сочиненном против-
нике. Так, часть негативной поэтики реализма мы обнаружим, несомненно, в
предшествующем ему романтизме и в сменившем его символизме, остальное же
должно вычитываться из него самого и из его эпохи.
Заканчивая этот затянувшийся этюд о составе персонажей в литературном
произведении, остановимся еще на такой особой фигуре, как плут, шут, дурак,
чудак и прочие его варианты. Этот тип персонажа отличается своей
внесистемностью или иносистемностью по отношению ко
всем остальным действующим лицам произведения. Внесистемность снимает с
этого персонажа обязанность подчиняться действующим в окружающем его ми-
ре законам, равно как и не позволяет этим законам рапространиться на этот пер-
сонаж. В любом положении он занимает поэтому позицию постороннего наблю-
дателя, наблюдателя, которому наблюдаемый мир открывается по крайней мере
на одну семиотическую ступень выше, чем непосредственно участникам мира,
системы (ср.: Степанов 1971, с. 107-116). Иначе говоря, этому наблюдателю от-
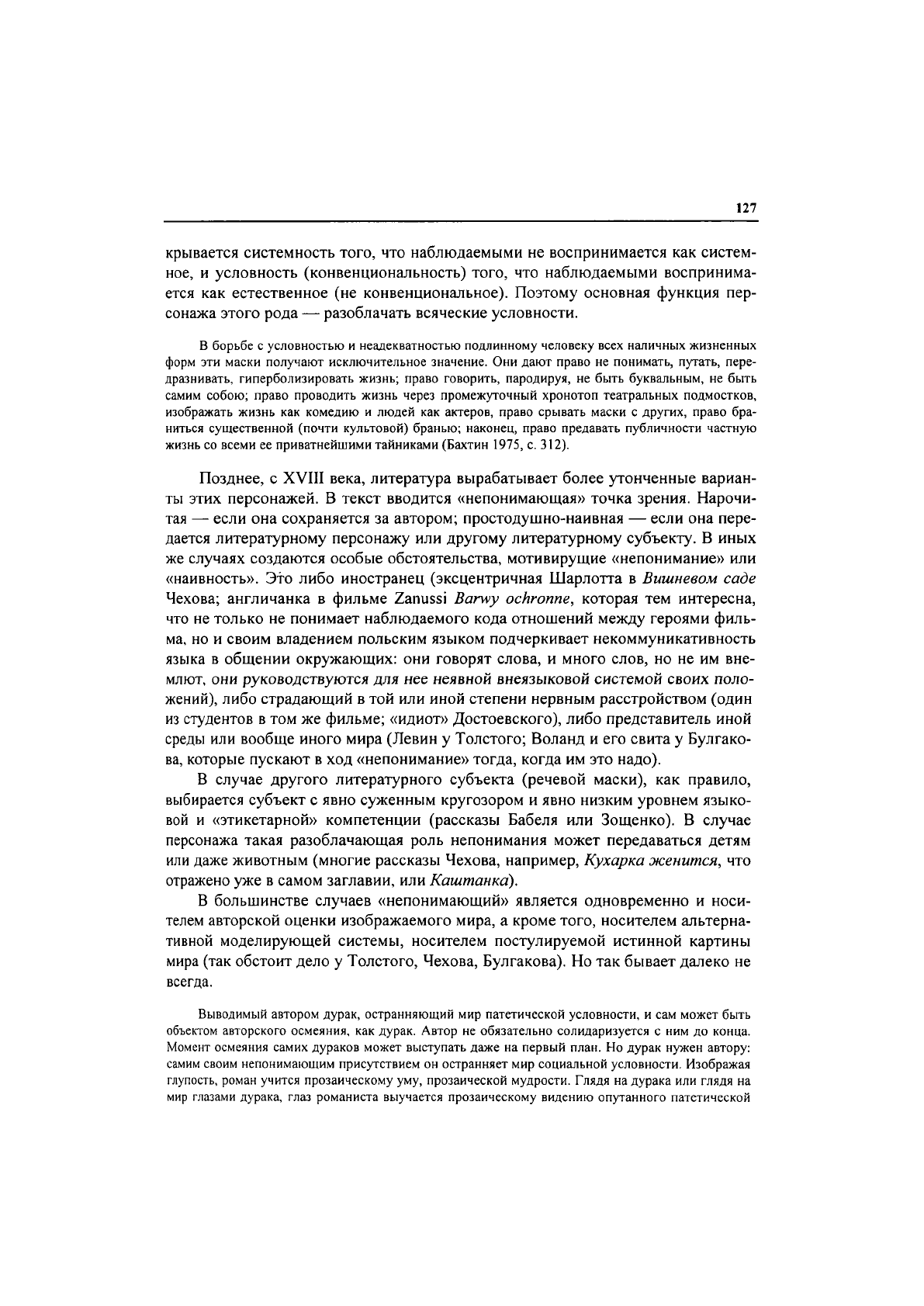
127
крывается системность того, что наблюдаемыми не воспринимается как систем-
ное, и условность (конвенциональность) того, что наблюдаемыми воспринима-
ется как естественное (не конвенциональное). Поэтому основная функция пер-
сонажа этого рода — разоблачать всяческие условности.
В борьбе с условностью и неадекватностью подлинному человеку всех наличных жизненных
форм эти маски получают исключительное значение. Они дают право не понимать, путать, пере-
дразнивать, гиперболизировать жизнь; право говорить, пародируя, не быть буквальным, не быть
самим собою; право проводить жизнь через промежуточный хронотоп театральных подмостков,
изображать жизнь как комедию и людей как актеров, право срывать маски с других, право бра-
ниться существенной (почти культовой) бранью; наконец, право предавать публичности частную
жизнь со всеми ее приватнейшими тайниками (Бахтин 1975, с. 312).
Позднее, с XVIII века, литература вырабатывает более утонченные вариан-
ты этих персонажей. В текст вводится «непонимающая» точка зрения. Нарочи-
тая — если она сохраняется за автором; простодушно-наивная — если она пере-
дается литературному персонажу или другому литературному субъекту. В иных
же случаях создаются особые обстоятельства, мотивирущие «непонимание» или
«наивность». Это либо иностранец (эксцентричная Шарлотта в Вишневом саде
Чехова; англичанка в фильме Zanussi Barwy ochronne, которая тем интересна,
что не только не понимает наблюдаемого кода отношений между героями филь-
ма, но и своим владением польским языком подчеркивает некоммуникативность
языка в общении окружающих: они говорят слова, и много слов, но не им вне-
млют, они руководствуются для нее неявной внеязыковой системой своих поло-
жений), либо страдающий в той или иной степени нервным расстройством (один
из студентов в том же фильме; «идиот» Достоевского), либо представитель иной
среды или вообще иного мира (Левин у Толстого; Воланд и его свита у Булгако-
ва, которые пускают в ход «непонимание» тогда, когда им это надо).
В случае другого литературного субъекта (речевой маски), как правило,
выбирается субъект с явно суженным кругозором и явно низким уровнем языко-
вой и «этикетарной» компетенции (рассказы Бабеля или Зощенко). В случае
персонажа такая разоблачающая роль непонимания может передаваться детям
или даже животным (многие рассказы Чехова, например, Кухарка женится, что
отражено уже в самом заглавии, или Каштанка).
В большинстве случаев «непонимающий» является одновременно и носи-
телем авторской оценки изображаемого мира, а кроме того, носителем альтерна-
тивной моделирующей системы, носителем постулируемой истинной картины
мира (так обстоит дело у Толстого, Чехова, Булгакова). Но так бывает далеко не
всегда.
Выводимый автором дурак, остранняющий мир патетической условности, и сам может быть
объектом авторского осмеяния, как дурак. Автор не обязательно солидаризуется с ним до конца.
Момент осмеяния самих дураков может выступать даже на первый план. Но дурак нужен автору:
самим своим непонимающим присутствием он остранняет мир социальной условности. Изображая
глупость, роман учится прозаическому уму, прозаической мудрости. Глядя на дурака или глядя на
мир глазами дурака, глаз романиста выучается прозаическому видению опутанного патетической
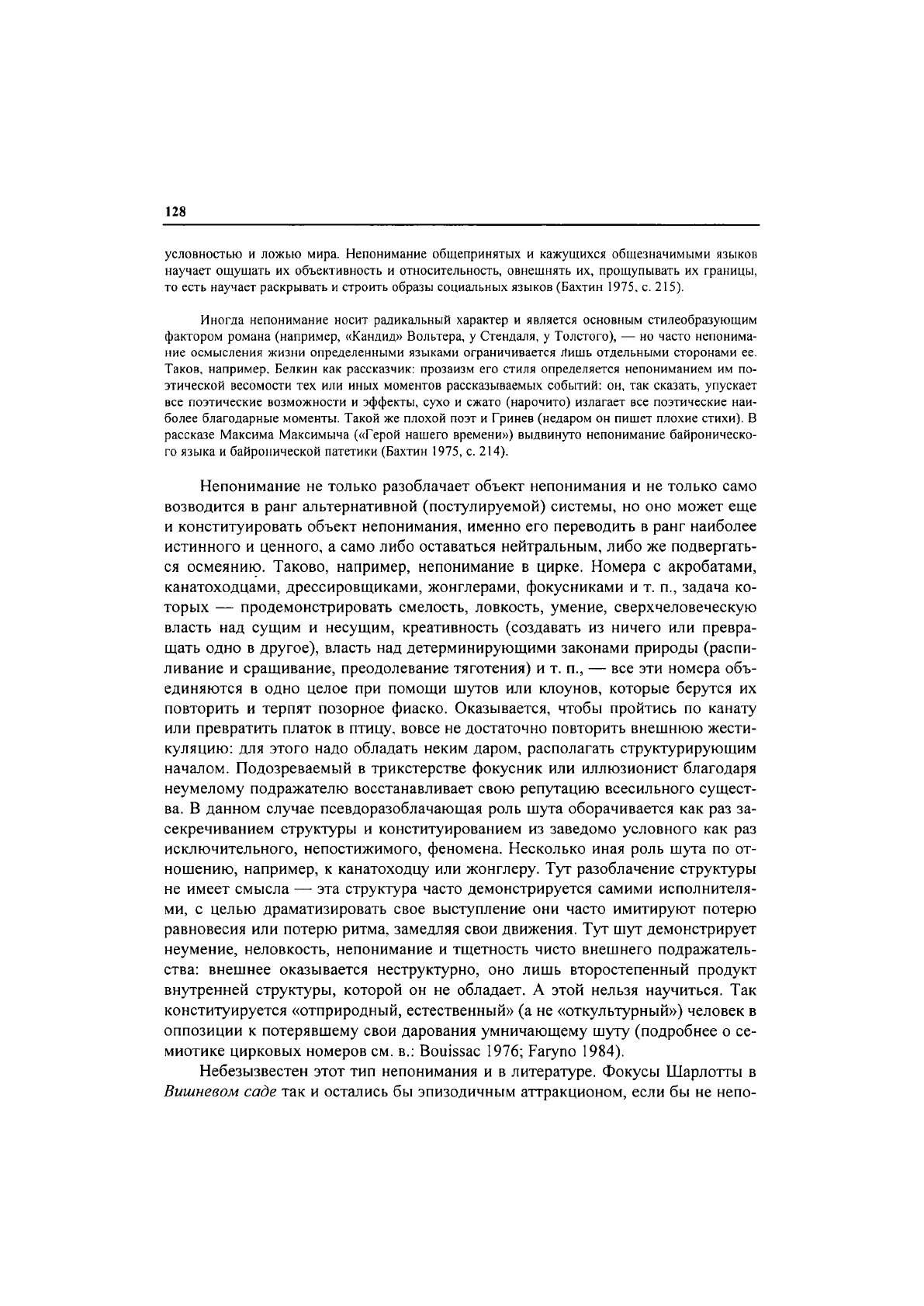
128
условностью и ложью мира. Непонимание общепринятых и кажущихся общезначимыми языков
научает ощущать их объективность и относительность, овнешнять их, прощупывать их границы,
то есть научает раскрывать и строить образы социальных языков (Бахтин 1975, с. 215).
Иногда непонимание носит радикальный характер и является основным стилеобразующим
фактором романа (например, «Кандид» Вольтера, у Стендаля, у Толстого), — но часто непонима-
ние осмысления жизни определенными языками ограничивается Лишь отдельными сторонами ее.
Таков, например, Белкин как рассказчик: прозаизм его стиля определяется непониманием им по-
этической весомости тех или иных моментов рассказываемых событий: он, так сказать, упускает
все поэтические возможности и эффекты, сухо и сжато (нарочито) излагает все поэтические наи-
более благодарные моменты. Такой же плохой поэт и Гринев (недаром он пишет плохие стихи). В
рассказе Максима Максимыча («Герой нашего времени») выдвинуто непонимание байроническо-
го языка и байронической патетики (Бахтин 1975, с. 214).
Непонимание не только разоблачает объект непонимания и не только само
возводится в ранг альтернативной (постулируемой) системы, но оно может еще
и конституировать объект непонимания, именно его переводить в ранг наиболее
истинного и ценного, а само либо оставаться нейтральным, либо же подвергать-
ся осмеянию. Таково, например, непонимание в цирке. Номера с акробатами,
канатоходцами, дрессировщиками, жонглерами, фокусниками и т. п., задача ко-
торых — продемонстрировать смелость, ловкость, умение, сверхчеловеческую
власть над сущим и несущим, креативность (создавать из ничего или превра-
щать одно в другое), власть над детерминирующими законами природы (распи-
ливание и сращивание, преодолевание тяготения) и т. п., — все эти номера объ-
единяются в одно целое при помощи шутов или клоунов, которые берутся их
повторить и терпят позорное фиаско. Оказывается, чтобы пройтись по канату
или превратить платок в птицу, вовсе не достаточно повторить внешнюю жести-
куляцию: для этого надо обладать неким даром, располагать структурирующим
началом. Подозреваемый в трикстерстве фокусник или иллюзионист благодаря
неумелому подражателю восстанавливает свою репутацию всесильного сущест-
ва. В данном случае псевдоразоблачающая роль шута оборачивается как раз за-
секречиванием структуры и конституированием из заведомо условного как раз
исключительного, непостижимого, феномена. Несколько иная роль шута по от-
ношению, например, к канатоходцу или жонглеру. Тут разоблачение структуры
не имеет смысла — эта структура часто демонстрируется самими исполнителя-
ми, с целью драматизировать свое выступление они часто имитируют потерю
равновесия или потерю ритма, замедляя свои движения. Тут шут демонстрирует
неумение, неловкость, непонимание и тщетность чисто внешнего подражатель-
ства: внешнее оказывается неструктурно, оно лишь второстепенный продукт
внутренней структуры, которой он не обладает. А этой нельзя научиться. Так
конституируется «отприродный, естественный» (а не «откультурный») человек в
оппозиции к потерявшему свои дарования умничающему шуту (подробнее о се-
миотике цирковых номеров см. в.: Bouissac 1976; Faryno 1984).
Небезызвестен этот тип непонимания и в литературе. Фокусы Шарлотты в
Вишневом саде так и остались бы эпизодичным аттракционом, если бы не непо-
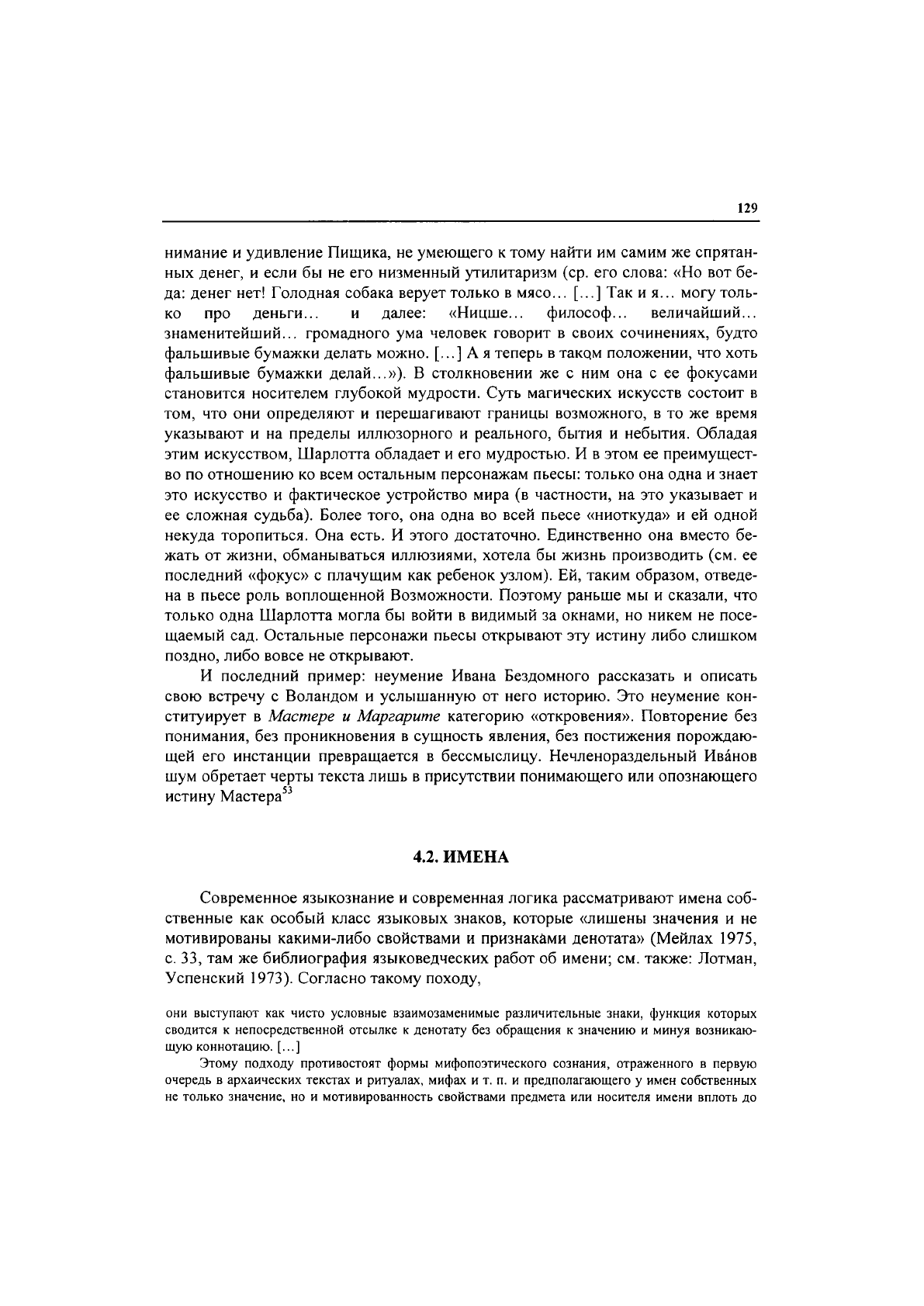
129
нимание и удивление Пищика, не умеющего к тому найти им самим же спрятан-
ных денег, и если бы не его низменный утилитаризм (ср. его слова: «Но вот бе-
да: денег нет! Голодная собака верует только в мясо... [...] Так и я... могу толь-
ко про деньги... и далее: «Ницше... философ... величайший...
знаменитейший... громадного ума человек говорит в своих сочинениях, будто
фальшивые бумажки делать можно. [...] А я теперь в таксам положении, что хоть
фальшивые бумажки делай...»). В столкновении же с ним она с ее фокусами
становится носителем глубокой мудрости. Суть магических искусств состоит в
том, что они определяют и перешагивают границы возможного, в то же время
указывают и на пределы иллюзорного и реального, бытия и небытия. Обладая
этим искусством, Шарлотта обладает и его мудростью. И в этом ее преимущест-
во по отношению ко всем остальным персонажам пьесы: только она одна и знает
это искусство и фактическое устройство мира (в частности, на это указывает и
ее сложная судьба). Более того, она одна во всей пьесе «ниоткуда» и ей одной
некуда торопиться. Она есть. И этого достаточно. Единственно она вместо бе-
жать от жизни, обманываться иллюзиями, хотела бы жизнь производить (см. ее
последний «фокус» с плачущим как ребенок узлом). Ей, таким образом, отведе-
на в пьесе роль воплощенной Возможности. Поэтому раньше мы и сказали, что
только одна Шарлотта могла бы войти в видимый за окнами, но никем не посе-
щаемый сад. Остальные персонажи пьесы открывают эту истину либо слишком
поздно, либо вовсе не открывают.
И последний пример: неумение Ивана Бездомного рассказать и описать
свою встречу с Воландом и услышанную от него историю. Это неумение кон-
ституирует в Мастере и Маргарите категорию «откровения». Повторение без
понимания, без проникновения в сущность явления, без постижения порождаю-
щей его инстанции превращается в бессмыслицу. Нечленораздельный Иванов
шум обретает черты текста лишь в присутствии понимающего или опознающего
истину Мастера
53
4.2. ИМЕНА
Современное языкознание и современная логика рассматривают имена соб-
ственные как особый класс языковых знаков, которые «лишены значения и не
мотивированы какими-либо свойствами и признаками денотата» (Мейлах 1975,
с. 33, там же библиография языковедческих работ об имени; см. также: Лотман,
Успенский 1973). Согласно такому походу,
они выступают как чисто условные взаимозаменимые различительные знаки, функция которых
сводится к непосредственной отсылке к денотату без обращения к значению и минуя возникаю-
щую коннотацию. [...]
Этому подходу противостоят формы мифопоэтического сознания, отраженного в первую
очередь в архаических текстах и ритуалах, мифах и т. п. и предполагающего у имен собственных
не только значение, но и мотивированность свойствами предмета или носителя имени вплоть до
