Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

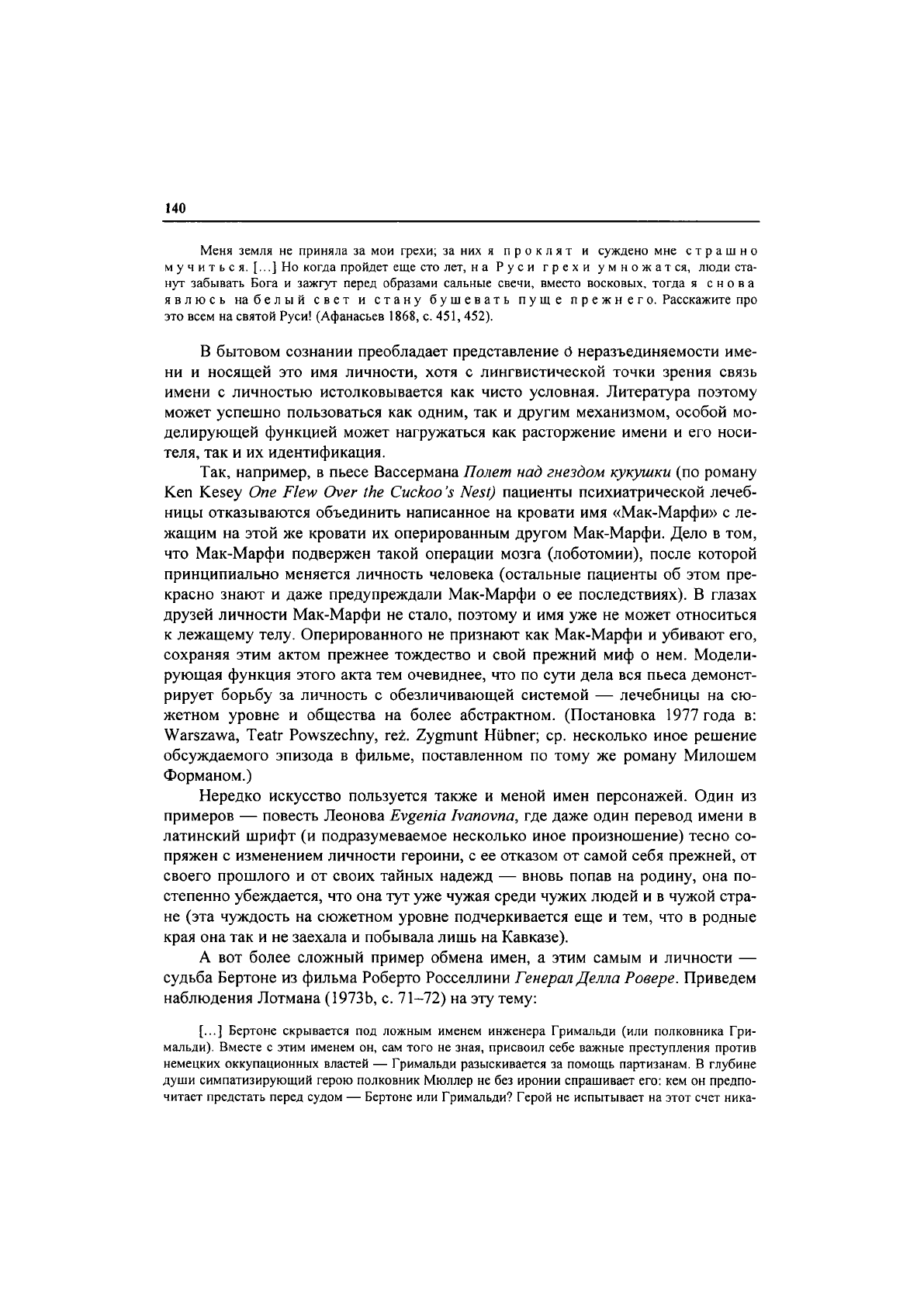
140
Меня земля не приняла за мои грехи; за них я проклят и суждено мне страшно
мучиться. [...] Но когда пройдет еще сто лет, на Руси грехи умножат ся, люди ста-
нут забывать Бога и зажгут перед образами сальные свечи, вместо восковых, тогда я снова
явлюсь на белый свет и стану бушевать пуще прежнего. Расскажите про
это всем на святой Руси! (Афанасьев 1868, с. 451, 452).
В бытовом сознании преобладает представление ó неразъединяемости име-
ни и носящей это имя личности, хотя с лингвистической точки зрения связь
имени с личностью истолковывается как чисто условная. Литература поэтому
может успешно пользоваться как одним, так и другим механизмом, особой мо-
делирующей функцией может нагружаться как расторжение имени и его носи-
теля, так и их идентификация.
Так, например, в пьесе Вассермана Полет над гнездом кукушки (по роману
Ken Kesey One Flew Over the Cuckoo
's
Nest) пациенты психиатрической лечеб-
ницы отказываются объединить написанное на кровати имя «Мак-Марфи» с ле-
жащим на этой же кровати их оперированным другом Мак-Марфи. Дело в том,
что Мак-Марфи подвержен такой операции мозга (лоботомии), после которой
принципиально меняется личность человека (остальные пациенты об этом пре-
красно знают и даже предупреждали Мак-Марфи о ее последствиях). В глазах
друзей личности Мак-Марфи не стало, поэтому и имя уже не может относиться
к лежащему телу. Оперированного не признают как Мак-Марфи и убивают его,
сохраняя этим актом прежнее тождество и свой прежний миф о нем. Модели-
рующая функция этого акта тем очевиднее, что по сути дела вся пьеса демонст-
рирует борьбу за личность с обезличивающей системой — лечебницы на сю-
жетном уровне и общества на более абстрактном. (Постановка 1977 года в:
Warszawa, Teatr Powszechny, reż. Zygmunt Hübner; ср. несколько иное решение
обсуждаемого эпизода в фильме, поставленном по тому же роману Милошем
Форманом.)
Нередко искусство пользуется также и меной имен персонажей. Один из
примеров — повесть Леонова Evgenia Іѵапоѵпа, где даже один перевод имени в
латинский шрифт (и подразумеваемое несколько иное произношение) тесно со-
пряжен с изменением личности героини, с ее отказом от самой себя прежней, от
своего прошлого и от своих тайных надежд — вновь попав на родину, она по-
степенно убеждается, что она тут уже чужая среди чужих людей и в чужой стра-
не (эта чуждость на сюжетном уровне подчеркивается еще и тем, что в родные
края она так и не заехала и побывала лишь на Кавказе).
А вот более сложный пример обмена имен, а этим самым и личности —
судьба Бертоне из фильма Роберто Росселлини Генерал Делла Ровере. Приведем
наблюдения Лотмана (1973b, с. 71-72) на эту тему:
[...] Бертоне скрывается под ложным именем инженера Гримальди (или полковника Гри-
мальди). Вместе с этим именем он, сам того не зная, присвоил себе важные преступления против
немецких оккупационных властей — Гримальди разыскивается за помощь партизанам. В глубине
души симпатизирующий герою полковник Мюллер не без иронии спрашивает его: кем он предпо-
читает предстать перед судом — Бертоне или Гримальди? Герой не испытывает на этот счет ника-
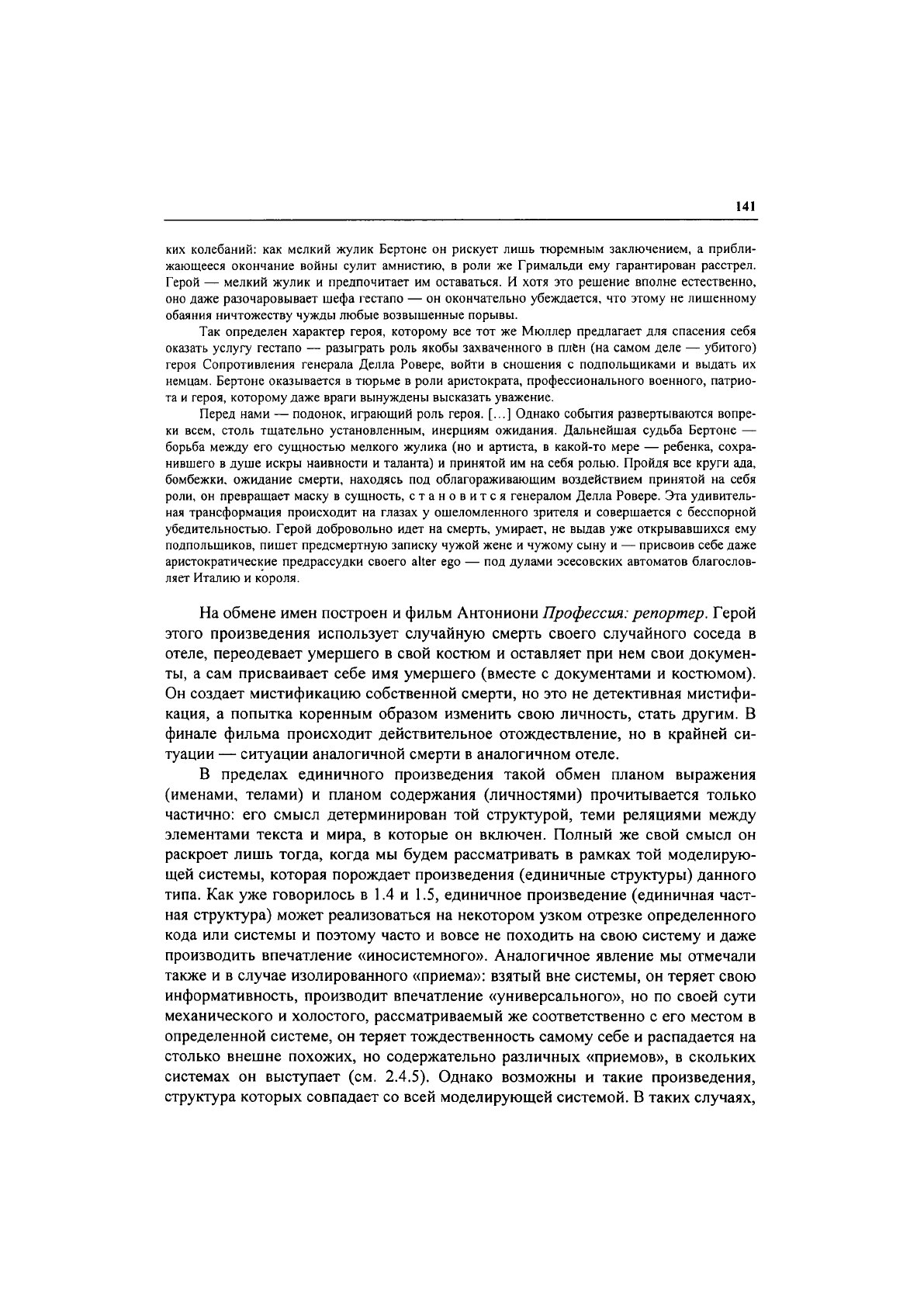
141
ких колебаний: как мелкий жулик Бертоне он рискует лишь тюремным заключением, а прибли-
жающееся окончание войны сулит амнистию, в роли же Гримальди ему гарантирован расстрел.
Герой — мелкий жулик и предпочитает им оставаться. И хотя это решение вполне естественно,
оно даже разочаровывает шефа гестапо — он окончательно убеждается, что этому не лишенному
обаяния ничтожеству чужды любые возвышенные порывы.
Так определен характер героя, которому все тот же Мюллер предлагает для спасения себя
оказать услугу гестапо — разыграть роль якобы захваченного в плЬн (на самом деле — убитого)
героя Сопротивления генерала Делла Ровере, войти в сношения с подпольщиками и выдать их
немцам. Бертоне оказывается в тюрьме в роли аристократа, профессионального военного, патрио-
та и героя, которому даже враги вынуждены высказать уважение.
Перед нами — подонок, играющий роль героя. [...] Однако события развертываются вопре-
ки всем, столь тщательно установленным, инерциям ожидания. Дальнейшая судьба Бертоне —
борьба между его сущностью мелкого жулика (но и артиста, в какой-то мере — ребенка, сохра-
нившего в душе искры наивности и таланта) и принятой им на себя ролью. Пройдя все круги ада,
бомбежки, ожидание смерти, находясь под облагораживающим воздействием принятой на себя
роли, он превращает маску в сущность, становится генералом Делла Ровере. Эта удивитель-
ная трансформация происходит на глазах у ошеломленного зрителя и совершается с бесспорной
убедительностью. Герой добровольно идет на смерть, умирает, не выдав уже открывавшихся ему
подпольщиков, пишет предсмертную записку чужой жене и чужому сыну и — присвоив себе даже
аристократические предрассудки своего alter ego — под дулами эсесовских автоматов благослов-
ляет Италию и короля.
На обмене имен построен и фильм Антониони Профессия: репортер. Герой
этого произведения использует случайную смерть своего случайного соседа в
отеле, переодевает умершего в свой костюм и оставляет при нем свои докумен-
ты, а сам присваивает себе имя умершего (вместе с документами и костюмом).
Он создает мистификацию собственной смерти, но это не детективная мистифи-
кация, а попытка коренным образом изменить свою личность, стать другим. В
финале фильма происходит действительное отождествление, но в крайней си-
туации — ситуации аналогичной смерти в аналогичном отеле.
В пределах единичного произведения такой обмен планом выражения
(именами, телами) и планом содержания (личностями) прочитывается только
частично: его смысл детерминирован той структурой, теми реляциями между
элементами текста и мира, в которые он включен. Полный же свой смысл он
раскроет лишь тогда, когда мы будем рассматривать в рамках той моделирую-
щей системы, которая порождает произведения (единичные структуры) данного
типа. Как уже говорилось в 1.4 и 1.5, единичное произведение (единичная част-
ная структура) может реализоваться на некотором узком отрезке определенного
кода или системы и поэтому часто и вовсе не походить на свою систему и даже
производить впечатление «иносистемного». Аналогичное явление мы отмечали
также и в случае изолированного «приема»: взятый вне системы, он теряет свою
информативность, производит впечатление «универсального», но по своей сути
механического и холостого, рассматриваемый же соответственно с его местом в
определенной системе, он теряет тождественность самому себе и распадается на
столько внешне похожих, но содержательно различных «приемов», в скольких
системах он выступает (см. 2.4.5). Однако возможны и такие произведения,
структура которых совпадает со всей моделирующей системой. В таких случаях,
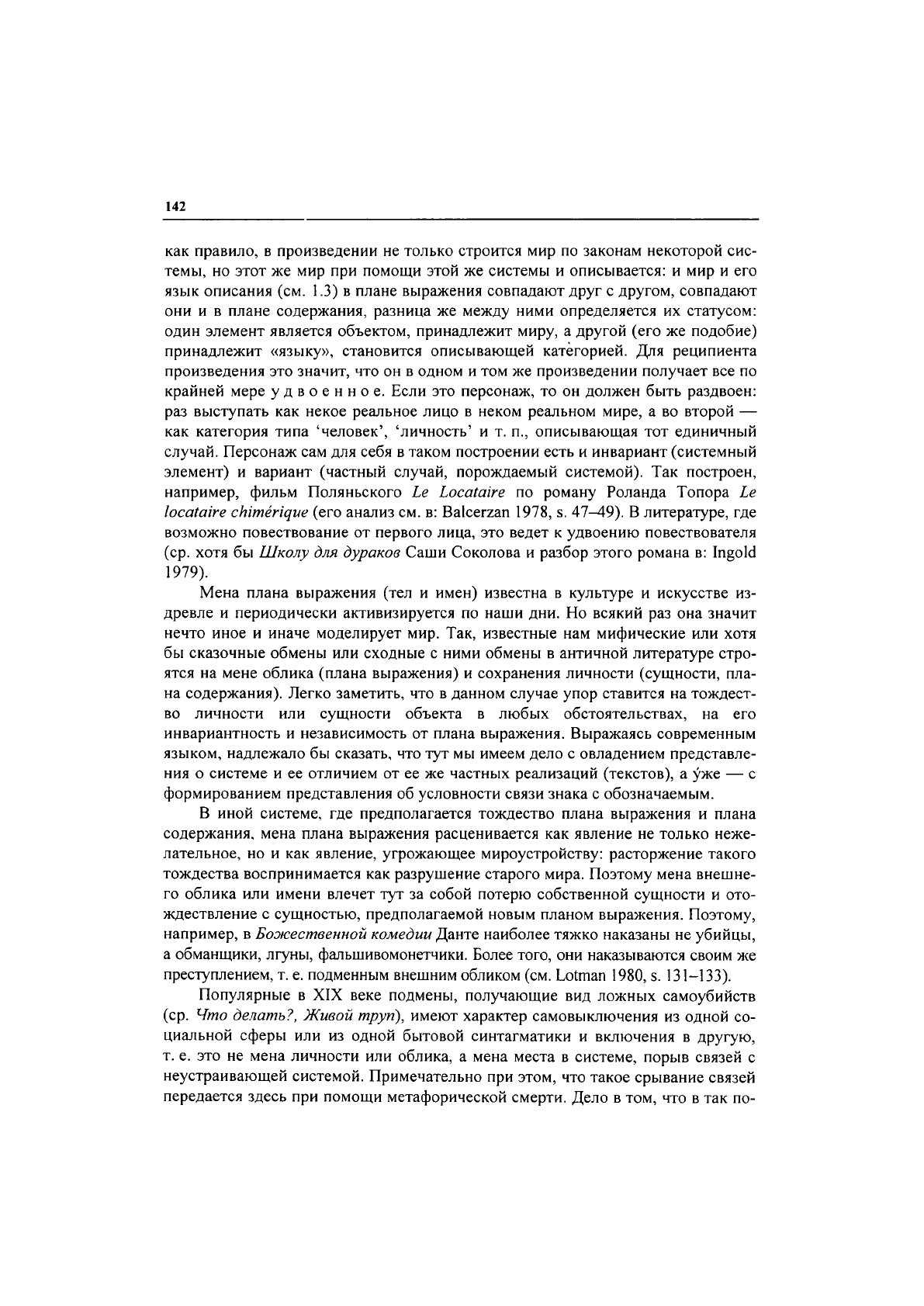
142
как правило, в произведении не только строится мир по законам некоторой сис-
темы, но этот же мир при помощи этой же системы и описывается: и мир и его
язык описания (см. 1.3) в плане выражения совпадают друг с другом, совпадают
они и в плане содержания, разница же между ними определяется их статусом:
один элемент является объектом, принадлежит миру, а другой (его же подобие)
принадлежит «языку», становится описывающей категорией. Для реципиента
произведения это значит, что он в одном и том же произведении получает все по
крайней мере удвоенное. Если это персонаж, то он должен быть раздвоен:
раз выступать как некое реальное лицо в неком реальном мире, а во второй —
как категория типа 'человек', 'личность' и т. п., описывающая тот единичный
случай. Персонаж сам для себя в таком построении есть и инвариант (системный
элемент) и вариант (частный случай, порождаемый системой). Так построен,
например, фильм Поляньского Le Locataire по роману Роланда Топора Le
locataire chimerique (его анализ см. в: Balcerzan 1978, s. 47-49). В литературе, где
возможно повествование от первого лица, это ведет к удвоению повествователя
(ср. хотя бы Школу для дураков Саши Соколова и разбор этого романа в: Ingold
1979).
Мена плана выражения (тел и имен) известна в культуре и искусстве из-
древле и периодически активизируется по наши дни. Но всякий раз она значит
нечто иное и иначе моделирует мир. Так, известные нам мифические или хотя
бы сказочные обмены или сходные с ними обмены в античной литературе стро-
ятся на мене облика (плана выражения) и сохранения личности (сущности, пла-
на содержания). Легко заметить, что в данном случае упор ставится на тождест-
во личности или сущности объекта в любых обстоятельствах, на его
инвариантность и независимость от плана выражения. Выражаясь современным
языком, надлежало бы сказать, что тут мы имеем дело с овладением представле-
ния о системе и ее отличием от ее же частных реализаций (текстов), а уже — с
формированием представления об условности связи знака с обозначаемым.
В иной системе, где предполагается тождество плана выражения и плана
содержания, мена плана выражения расценивается как явление не только неже-
лательное, но и как явление, угрожающее мироустройству: расторжение такого
тождества воспринимается как разрушение старого мира. Поэтому мена внешне-
го облика или имени влечет тут за собой потерю собственной сущности и ото-
ждествление с сущностью, предполагаемой новым планом выражения. Поэтому,
например, в Божественной комедии Данте наиболее тяжко наказаны не убийцы,
а обманщики, лгуны, фальшивомонетчики. Более того, они наказываются своим же
преступлением, т. е. подменным внешним обликом (см. Lotman 1980, s. 131-133).
Популярные в XIX веке подмены, получающие вид ложных самоубийств
(ср. Что делать?, Живой труп), имеют характер самовыключения из одной со-
циальной сферы или из одной бытовой синтагматики и включения в другую,
т. е. это не мена личности или облика, а мена места в системе, порыв связей с
неустраивающей системой. Примечательно при этом, что такое срывание связей
передается здесь при помощи метафорической смерти. Дело в том, что в так по-

143
строенной культуре, как уже говорилось, «нечто значить, быть кем-то, сущест-
вовать» значит «быть частью чего-то более важного», а «находиться вне этого
более важного, не быть его частью» значит «не существовать» (см. 4.1). Лич-
ность как таковая самостоятельного значения здесь не имеет, она ценна и зна-
чима за счет своего вхождения в некую синтагматику. Поэтому и нарушение
обязующих в такой «синтагме» функций (норм) выталкивает нарушителя за
пределы этого социума и часто кончается физической смертью (см. судьбу Ан-
ны Карениной). Личность теряет здесь свое право на «личность», она регламен-
тируется социумом. Так личность отчуждается от социального индивидуума.
Распространенные в XX веке детективы обыгрывают все три эти модели.
При этом статус «личности» передается здесь обществу (самому институту пра-
восудия или же носителю общественных норм типа частного детектива или во-
все частного лица, как у Агаты Кристи), жертва, как правило, играет роль двой-
ника «общественной личности», ее варианта, в результате чего строится картина
«самозащиты» системы от ее нарушителей. Преступник, хотя и получает иногда
черты яркой личности, личностью не является: ему свойственно пребывать вне
санкционированной социальной «синтагмы», менять облик и вместе с ним ме-
нять и свое «Я», которое неустойчиво, не обладает тождеством самому себе.
Преступник часто наказывается тем, что, присваивая себе чужие документы и
чужой внешний вид (обычно — своей жертвы), присваивает и преступления их
владельца. Короче говоря, сам того не ведая, детектив удерживает в нашей па-
мяти прежние представления о личности, о ее связи с ее физическим носителем
и о ее связи с социумом. Детектив историчен (преходящ), как и любой другой
жанр. Поэтому позволительно усматривать в нем подготовительную фазу куль-
туры к новому понятию личности, своего рода пересмотр или ревизию накоп-
ленного опыта. В этом плане, по-видимому, следует рассматривать и те примеры
с обменом именами и личностями, которые мы тут приводили. Они, вероятнее
всего, должны рассматриваться как более или менее выразительные проявления
нарцистической тенденции в культуре и как преддверие новой диахронической
системы (см.: Дёринг-Смирнова, Смирнов 1982, с. 128-130 и Смирнов 1983,
с. 21-45).
Пример Полета над кукушкиным гнездом показывает, что личность пере-
стала быть собственностью ее носителя, она превратилась не только в объект,
аналогичный любым другим, но и в «изделие»: ее можно изымать, разбирать на
части и заново, по усмотрению системы, складывать. Пример фильма Полянь-
ского показывает, как это делается. Личностью стало не уникальное, а унифици-
рованное, личность уже не творческая инстанция, а продукт самовоспроизводя-
щейся безличной системы. Личностью стала сама система. Итак, если
позитивизм показал унифицирующий механизм на уровне общества как текста,
то современная культура показывает унификацию на уровне системы. Эта си-
стема, оказывается, уже не нуждается даже в текстах, в своих реализациях. На-
оборот, заинтересована в тождестве всех своих «знаков», чем по сути дела уп-
раздняет и самое себя. Такова, в частности, суть снятия исключительно всех
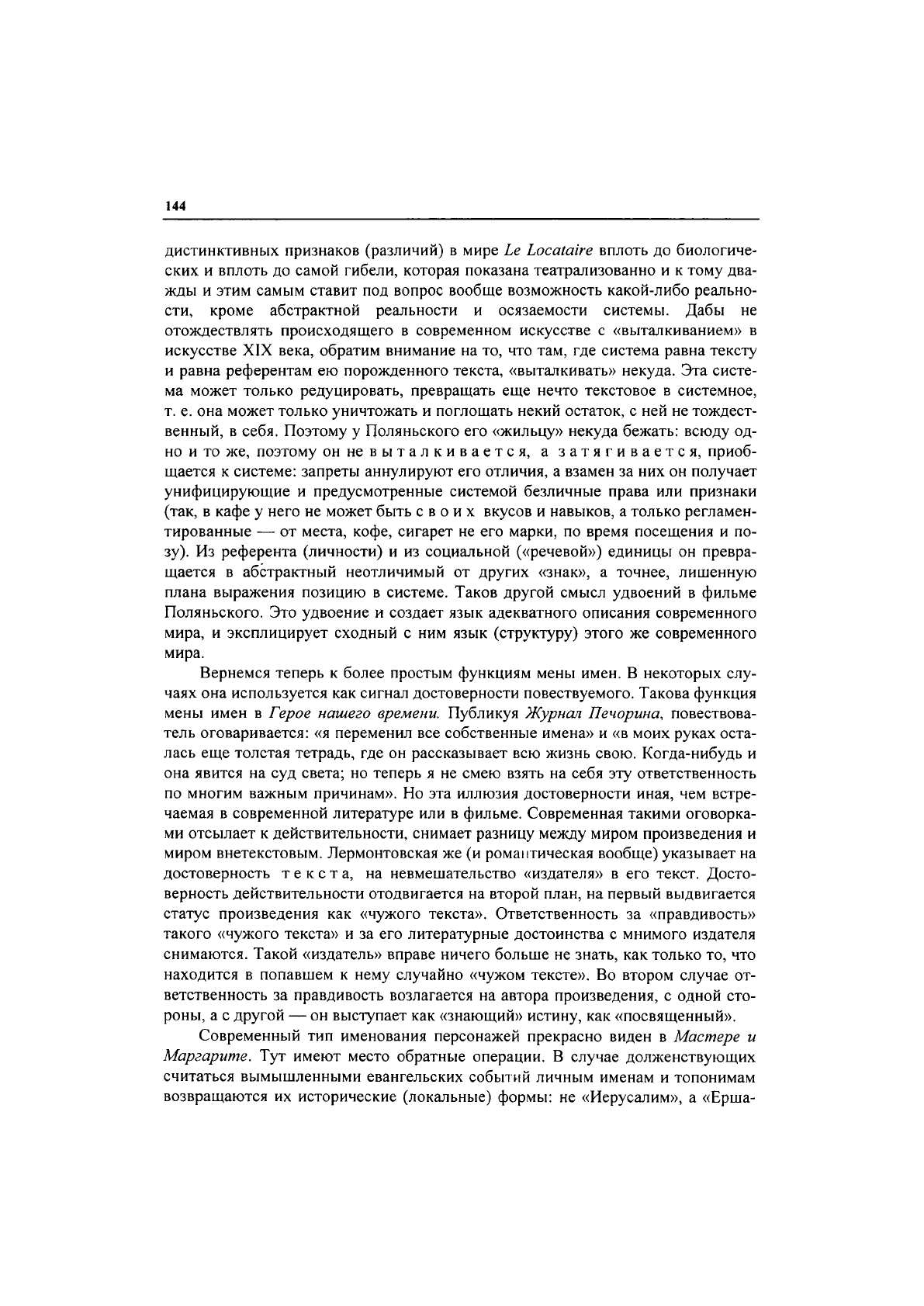
144
дистинктивных признаков (различий) в мире Le Locataire вплоть до биологиче-
ских и вплоть до самой гибели, которая показана театрализованно и к тому два-
жды и этим самым ставит под вопрос вообще возможность какой-либо реально-
сти, кроме абстрактной реальности и осязаемости системы. Дабы не
отождествлять происходящего в современном искусстве с «выталкиванием» в
искусстве XIX века, обратим внимание на то, что там, где система равна тексту
и равна референтам ею порожденного текста, «выталкивать» некуда. Эта систе-
ма может только редуцировать, превращать еще нечто текстовое в системное,
т. е. она может только уничтожать и поглощать некий остаток, с ней не тождест-
венный, в себя. Поэтому у Поляньского его «жильцу» некуда бежать: всюду од-
но и то же, поэтому он не выталкивается, а затягивается, приоб-
щается к системе: запреты аннулируют его отличия, а взамен за них он получает
унифицирующие и предусмотренные системой безличные права или признаки
(так, в кафе у него не может быть своих вкусов и навыков, а только регламен-
тированные — от места, кофе, сигарет не его марки, по время посещения и по-
зу). Из референта (личности) и из социальной («речевой») единицы он превра-
щается в абстрактный неотличимый от других «знак», а точнее, лишенную
плана выражения позицию в системе. Таков другой смысл удвоений в фильме
Поляньского. Это удвоение и создает язык адекватного описания современного
мира, и эксплицирует сходный с ним язык (структуру) этого же современного
мира.
Вернемся теперь к более простым функциям мены имен. В некоторых слу-
чаях она используется как сигнал достоверности повествуемого. Такова функция
мены имен в Герое нашего времени. Публикуя Журнал Печорина, повествова-
тель оговаривается: «я переменил все собственные имена» и «в моих руках оста-
лась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и
она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность
по многим важным причинам». Но эта иллюзия достоверности иная, чем встре-
чаемая в современной литературе или в фильме. Современная такими оговорка-
ми отсылает к действительности, снимает разницу между миром произведения и
миром внетекстовым. Лермонтовская же (и романтическая вообще) указывает на
достоверность текста, на невмешательство «издателя» в его текст. Досто-
верность действительности отодвигается на второй план, на первый выдвигается
статус произведения как «чужого текста». Ответственность за «правдивость»
такого «чужого текста» и за его литературные достоинства с мнимого издателя
снимаются. Такой «издатель» вправе ничего больше не знать, как только то, что
находится в попавшем к нему случайно «чужом тексте». Во втором случае от-
ветственность за правдивость возлагается на автора произведения, с одной сто-
роны, а с другой — он выступает как «знающий» истину, как «посвященный».
Современный тип именования персонажей прекрасно виден в Мастере и
Маргарите. Тут имеют место обратные операции. В случае долженствующих
считаться вымышленными евангельских событий личным именам и топонимам
возвращаются их исторические (локальные) формы: не «Иерусалим», а «Ерша-
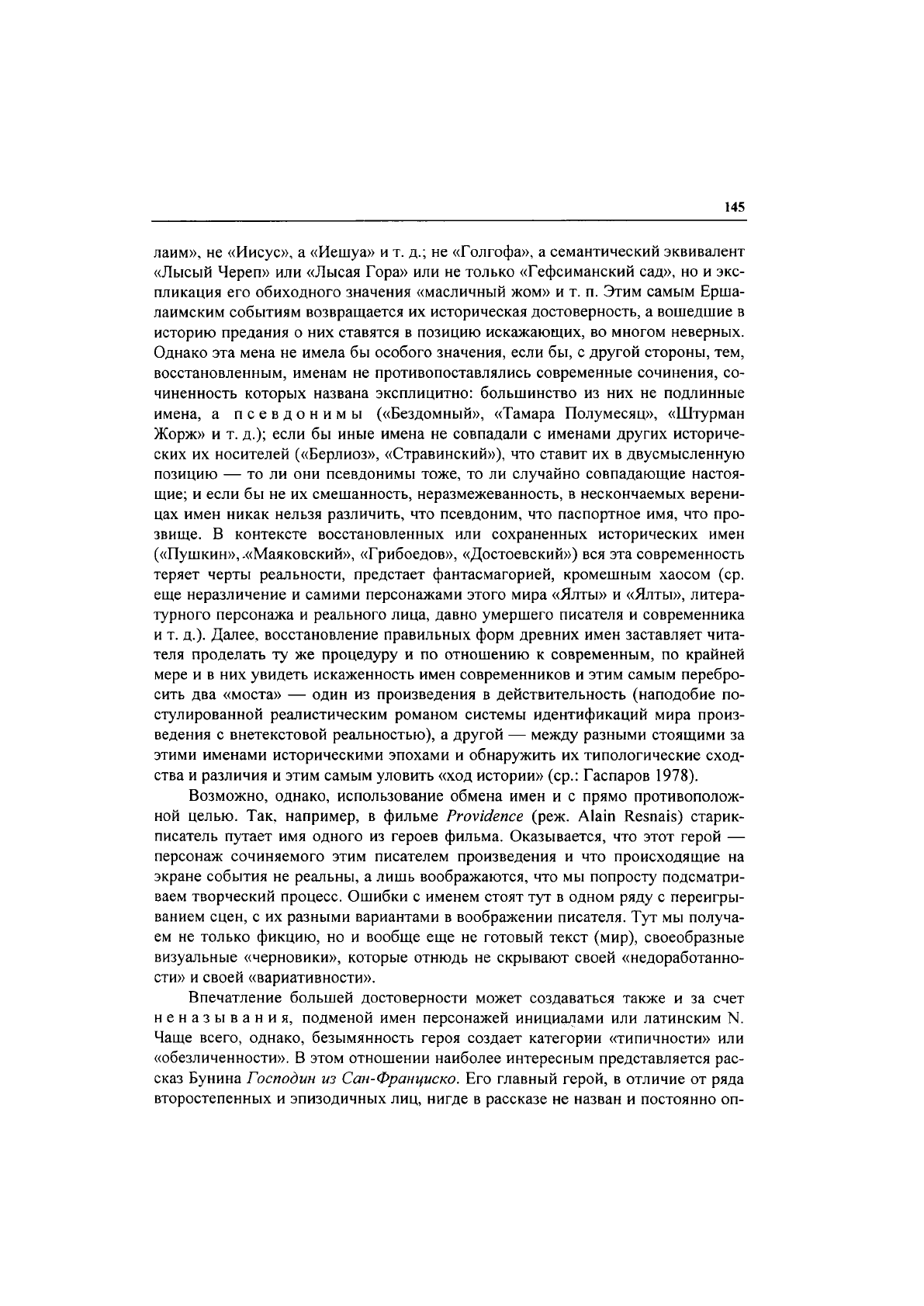
145
лайм», не «Иисус», а «Иешуа» и т. д.; не «Голгофа», а семантический эквивалент
«Лысый Череп» или «Лысая Гора» или не только «Гефсиманский сад», но и экс-
пликация его обиходного значения «масличный жом» и т. п. Этим самым Ерша-
лаимским событиям возвращается их историческая достоверность, а вошедшие в
историю предания о них ставятся в позицию искажающих, во многом неверных.
Однако эта мена не имела бы особого значения, если бы, с другой стороны, тем,
восстановленным, именам не противопоставлялись современные сочинения, со-
чиненность которых названа эксплицитно: большинство из них не подлинные
имена, а псевдонимы («Бездомный», «Тамара Полумесяц», «Штурман
Жорж» и т. д.); если бы иные имена не совпадали с именами других историче-
ских их носителей («Берлиоз», «Стравинский»), что ставит их в двусмысленную
позицию — то ли они псевдонимы тоже, то ли случайно совпадающие настоя-
щие; и если бы не их смешанность, неразмежеванность, в нескончаемых верени-
цах имен никак нельзя различить, что псевдоним, что паспортное имя, что про-
звище. В контексте восстановленных или сохраненных исторических имен
(«Пушкин»,-«Маяковский», «Грибоедов», «Достоевский») вся эта современность
теряет черты реальности, предстает фантасмагорией, кромешным хаосом (ср.
еще неразличение и самими персонажами этого мира «Ялты» и «Ялты», литера-
турного персонажа и реального лица, давно умершего писателя и современника
и т. д.). Далее, восстановление правильных форм древних имен заставляет чита-
теля проделать ту же процедуру и по отношению к современным, по крайней
мере и в них увидеть искаженность имен современников и этим самым перебро-
сить два «моста» — один из произведения в действительность (наподобие по-
стулированной реалистическим романом системы идентификаций мира произ-
ведения с внетекстовой реальностью), а другой — между разными стоящими за
этими именами историческими эпохами и обнаружить их типологические сход-
ства и различия и этим самым уловить «ход истории» (ср.: Гаспаров 1978).
Возможно, однако, использование обмена имен и с прямо противополож-
ной целью. Так, например, в фильме Providence (реж. Alain Resnais) старик-
писатель путает имя одного из героев фильма. Оказывается, что этот герой —
персонаж сочиняемого этим писателем произведения и что происходящие на
экране события не реальны, а лишь воображаются, что мы попросту подсматри-
ваем творческий процесс. Ошибки с именем стоят тут в одном ряду с переигры-
ванием сцен, с их разными вариантами в воображении писателя. Тут мы получа-
ем не только фикцию, но и вообще еще не готовый текст (мир), своеобразные
визуальные «черновики», которые отнюдь не скрывают своей «недоработанно-
сти» и своей «вариативности».
Впечатление большей достоверности может создаваться также и за счет
неназывания, подменой имен персонажей инициалами или латинским N.
Чаще всего, однако, безымянность героя создает категории «типичности» или
«обезличенности». В этом отношении наиболее интересным представляется рас-
сказ Бунина Господин из Сан-Франциско. Его главный герой, в отличие от ряда
второстепенных и эпизодичных лиц, нигде в рассказе не назван и постоянно оп-
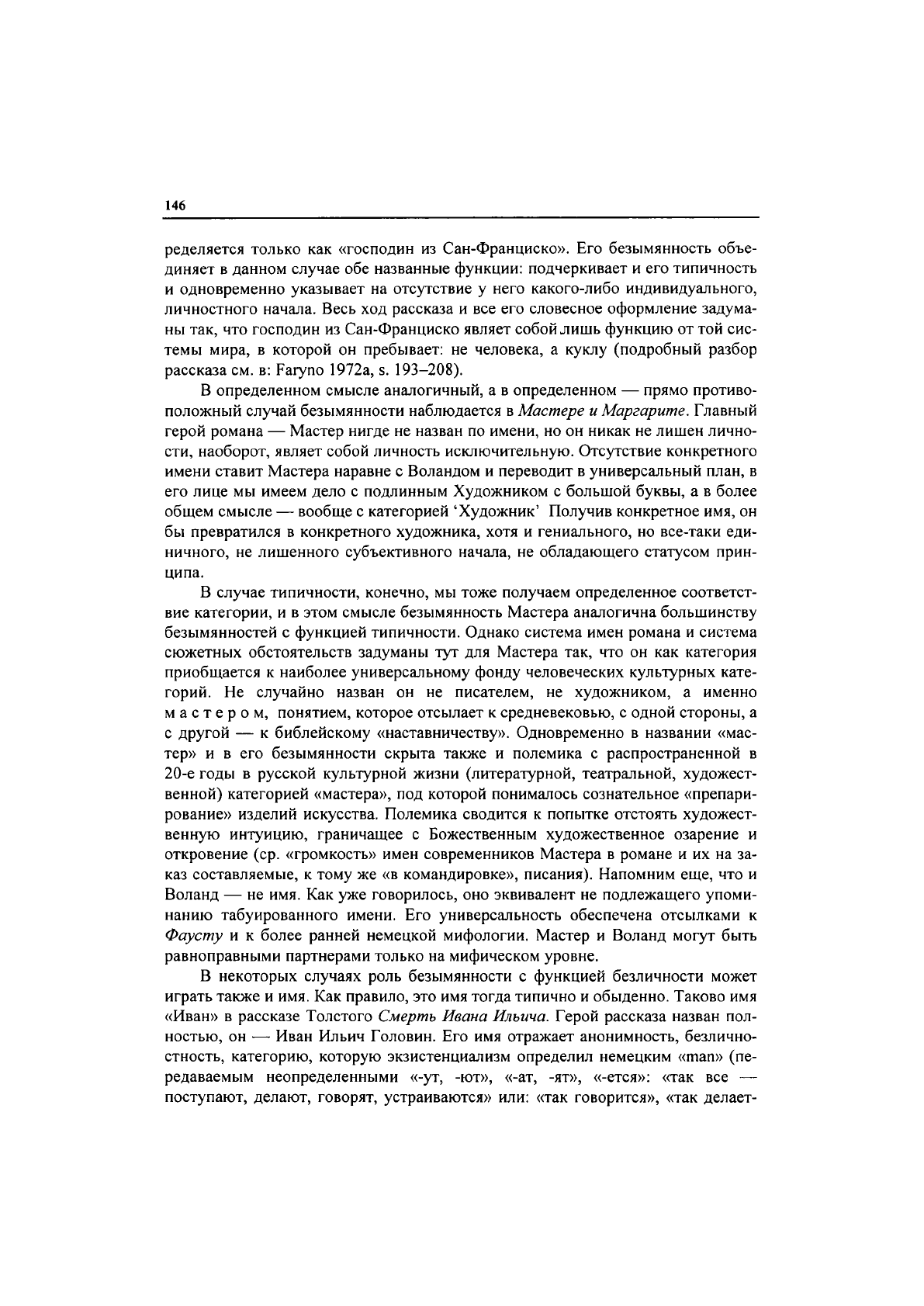
146
ределяется только как «господин из Сан-Франциско». Его безымянность объе-
диняет в данном случае обе названные функции: подчеркивает и его типичность
и одновременно указывает на отсутствие у него какого-либо индивидуального,
личностного начала. Весь ход рассказа и все его словесное оформление задума-
ны так, что господин из Сан-Франциско являет собой лишь функцию от той сис-
темы мира, в которой он пребывает: не человека, а куклу (подробный разбор
рассказа см. в: Faryno 1972а, s. 193-208).
В определенном смысле аналогичный, а в определенном — прямо противо-
положный случай безымянности наблюдается в Мастере и Маргарите. Главный
герой романа — Мастер нигде не назван по имени, но он никак не лишен лично-
сти, наоборот, являет собой личность исключительную. Отсутствие конкретного
имени ставит Мастера наравне с Воландом и переводит в универсальный план, в
его лице мы имеем дело с подлинным Художником с большой буквы, а в более
общем смысле — вообще с категорией 'Художник' Получив конкретное имя, он
бы превратился в конкретного художника, хотя и гениального, но все-таки еди-
ничного, не лишенного субъективного начала, не обладающего статусом прин-
ципа.
В случае типичности, конечно, мы тоже получаем определенное соответст-
вие категории, и в этом смысле безымянность Мастера аналогична большинству
безымянностей с функцией типичности. Однако система имен романа и система
сюжетных обстоятельств задуманы тут для Мастера так, что он как категория
приобщается к наиболее универсальному фонду человеческих культурных кате-
горий. Не случайно назван он не писателем, не художником, а именно
мастером, понятием, которое отсылает к средневековью, с одной стороны, а
с другой — к библейскому «наставничеству». Одновременно в названии «мас-
тер» и в его безымянности скрыта также и полемика с распространенной в
20-е годы в русской культурной жизни (литературной, театральной, художест-
венной) категорией «мастера», под которой понималось сознательное «препари-
рование» изделий искусства. Полемика сводится к попытке отстоять художест-
венную интуицию, граничащее с Божественным художественное озарение и
откровение (ср. «громкость» имен современников Мастера в романе и их на за-
каз составляемые, к тому же «в командировке», писания). Напомним еще, что и
Воланд — не имя. Как уже говорилось, оно эквивалент не подлежащего упоми-
нанию табуированного имени. Его универсальность обеспечена отсылками к
Фаусту и к более ранней немецкой мифологии. Мастер и Воланд могут быть
равноправными партнерами только на мифическом уровне.
В некоторых случаях роль безымянности с функцией безличности может
играть также и имя. Как правило, это имя тогда типично и обыденно. Таково имя
«Иван» в рассказе Толстого Смерть Ивана Ильича. Герой рассказа назван пол-
ностью, он — Иван Ильич Головин. Его имя отражает анонимность, безлично-
стность, категорию, которую экзистенциализм определил немецким «man» (пе-
редаваемым неопределенными «-ут, -ют», «-ат, -ят», «-ется»: «так все —
поступают, делают, говорят, устраиваются» или: «так говорится», «так делает-
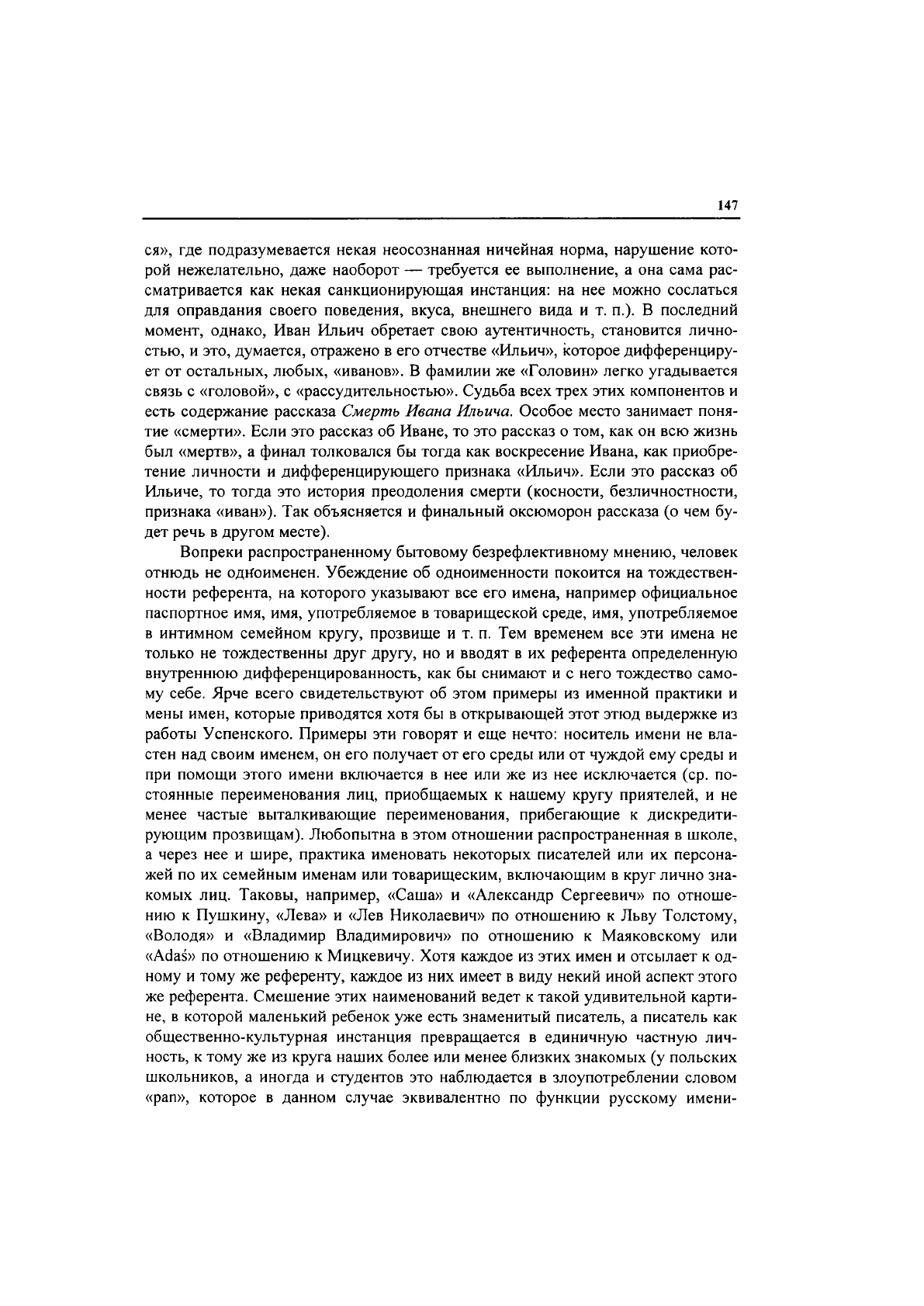
147
ся», где подразумевается некая неосознанная ничейная норма, нарушение кото-
рой нежелательно, даже наоборот — требуется ее выполнение, а она сама рас-
сматривается как некая санкционирующая инстанция: на нее можно сослаться
для оправдания своего поведения, вкуса, внешнего вида и т. п.). В последний
момент, однако, Иван Ильич обретает свою аутентичность, становится лично-
стью, и это, думается, отражено в его отчестве «Ильич», которое дифференциру-
ет от остальных, любых, «Иванов». В фамилии же «Головин» легко угадывается
связь с «головой», с «рассудительностью». Судьба всех трех этих компонентов и
есть содержание рассказа Смерть Ивана Ильича. Особое место занимает поня-
тие «смерти». Если это рассказ об Иване, то это рассказ о том, как он всю жизнь
был «мертв», а финал толковался бы тогда как воскресение Ивана, как приобре-
тение личности и дифференцирующего признака «Ильич». Если это рассказ об
Ильиче, то тогда это история преодоления смерти (косности, безличностности,
признака «иван»). Так объясняется и финальный оксюморон рассказа (о чем бу-
дет речь в другом месте).
Вопреки распространенному бытовому безрефлективному мнению, человек
отнюдь не одКоименен. Убеждение об одноименности покоится на тождествен-
ности референта, на которого указывают все его имена, например официальное
паспортное имя, имя, употребляемое в товарищеской среде, имя, употребляемое
в интимном семейном кругу, прозвище и т. п. Тем временем все эти имена не
только не тождественны друг другу, но и вводят в их референта определенную
внутреннюю дифференцированность, как бы снимают и с него тождество само-
му себе. Ярче всего свидетельствуют об этом примеры из именной практики и
мены имен, которые приводятся хотя бы в открывающей этот этюд выдержке из
работы Успенского. Примеры эти говорят и еще нечто: носитель имени не вла-
стен над своим именем, он его получает от его среды или от чуждой ему среды и
при помощи этого имени включается в нее или же из нее исключается (ср. по-
стоянные переименования лиц, приобщаемых к нашему кругу приятелей, и не
менее частые выталкивающие переименования, прибегающие к дискредити-
рующим прозвищам). Любопытна в этом отношении распространенная в школе,
а через нее и шире, практика именовать некоторых писателей или их персона-
жей по их семейным именам или товарищеским, включающим в круг лично зна-
комых лиц. Таковы, например, «Саша» и «Александр Сергеевич» по отноше-
нию к Пушкину, «Лева» и «Лев Николаевич» по отношению к Льву Толстому,
«Володя» и «Владимир Владимирович» по отношению к Маяковскому или
«Adaś» по отношению к Мицкевичу. Хотя каждое из этих имен и отсылает к од-
ному и тому же референту, каждое из них имеет в виду некий иной аспект этого
же референта. Смешение этих наименований ведет к такой удивительной карти-
не, в которой маленький ребенок уже есть знаменитый писатель, а писатель как
общественно-культурная инстанция превращается в единичную частную лич-
ность, к тому же из круга наших более или менее близких знакомых (у польских
школьников, а иногда и студентов это наблюдается в злоупотреблении словом
«рап», которое в данном случае эквивалентно по функции русскому имени-
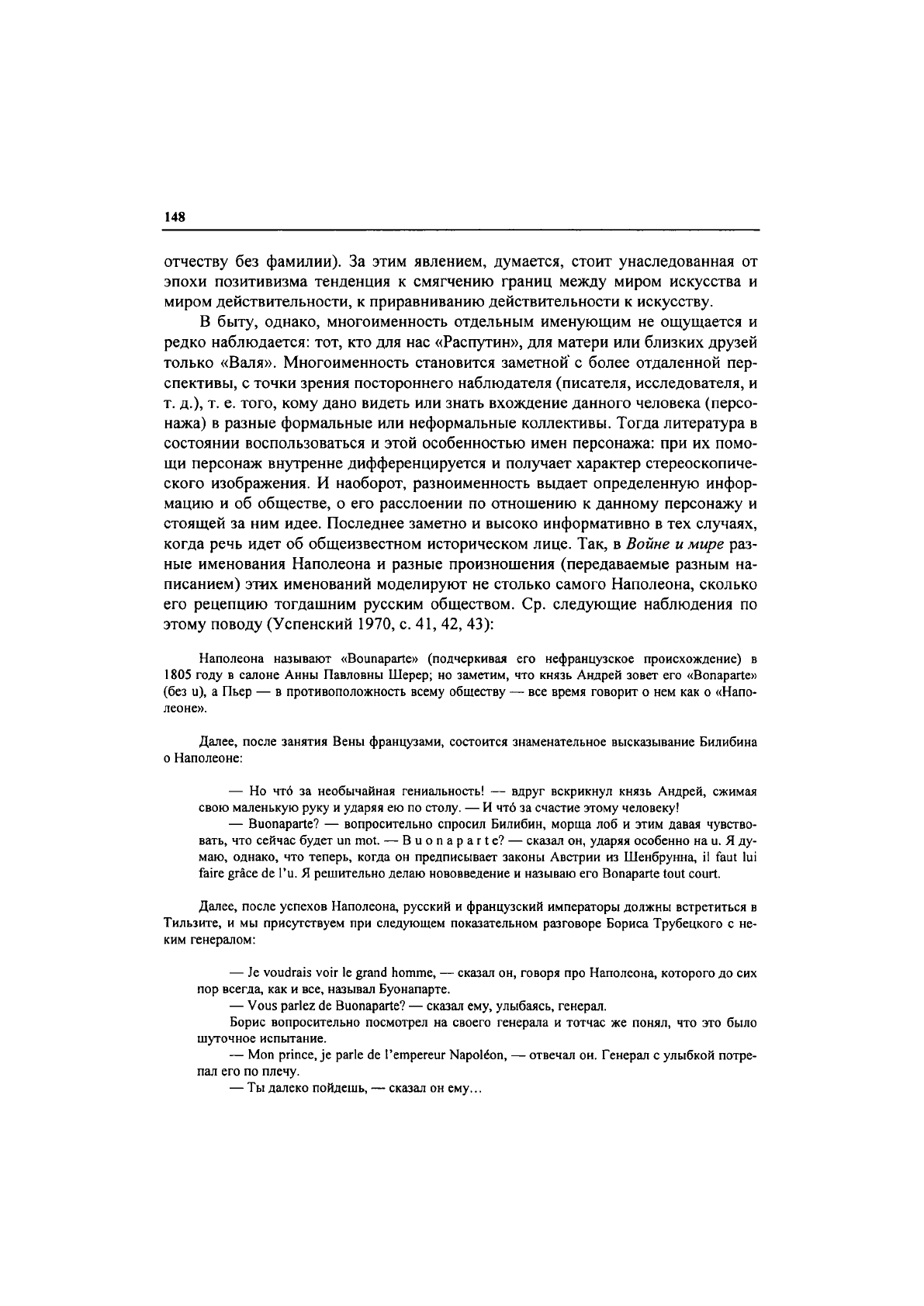
148
отчеству без фамилии). За этим явлением, думается, стоит унаследованная от
эпохи позитивизма тенденция к смягчению границ между миром искусства и
миром действительности, к приравниванию действительности к искусству.
В быту, однако, многоименность отдельным именующим не ощущается и
редко наблюдается: тот, кто для нас «Распутин», для матери или близких друзей
только «Валя». Многоименность становится заметной с более отдаленной пер-
спективы, с точки зрения постороннего наблюдателя (писателя, исследователя, и
т. д.), т. е. того, кому дано видеть или знать вхождение данного человека (персо-
нажа) в разные формальные или неформальные коллективы. Тогда литература в
состоянии воспользоваться и этой особенностью имен персонажа: при их помо-
щи персонаж внутренне дифференцируется и получает характер стереоскопиче-
ского изображения. И наоборот, разноименность выдает определенную инфор-
мацию и об обществе, о его расслоении по отношению к данному персонажу и
стоящей за ним идее. Последнее заметно и высоко информативно в тех случаях,
когда речь идет об общеизвестном историческом лице. Так, в Войне и мире раз-
ные именования Наполеона и разные произношения (передаваемые разным на-
писанием) этих именований моделируют не столько самого Наполеона, сколько
его рецепцию тогдашним русским обществом. Ср. следующие наблюдения по
этому поводу (Успенский 1970, с. 41, 42, 43):
Наполеона называют «Bounaparte» (подчеркивая его нефранцузское происхождение) в
1805 году в салоне Анны Павловны Шерер; но заметим, что князь Андрей зовет его «Bonaparte»
(без и), а Пьер — в противоположность всему обществу — все время говорит о нем как о «Напо-
леоне».
Далее, после занятия Вены французами, состоится знаменательное высказывание Билибина
о Наполеоне:
— Но чт0 за необычайная гениальность! — вдруг вскрикнул князь Андрей, сжимая
свою маленькую руку и ударяя ею по столу. — И что за счастие этому человеку!
— Buonaparte? — вопросительно спросил Билибин, морща лоб и этим давая чувство-
вать, что сейчас будет un mot. — Buonaparte? — сказал он, ударяя особенно на и. Я ду-
маю, однако, что теперь, когда он предписывает законы Австрии из Шенбрунна, ii faut lui
faire grace de Г u. Я решительно делаю нововведение и называю его Bonaparte tout court.
Далее, после успехов Наполеона, русский и французский императоры должны встретиться в
Тильзите, и мы присутствуем при следующем показательном разговоре Бориса Трубецкого с не-
ким генералом:
— Je voudrais voir le grand homme, — сказал он, говоря про Наполеона, которого до сих
пор всегда, как и все, называл Буонапарте.
— Vous parlez de Buonaparte? — сказал ему, улыбаясь, генерал.
Борис вопросительно посмотрел на своего генерала и тотчас же понял, что это было
шуточное испытание.
— Mon prince, je parle de l'empereur Napolćon, — отвечал он. Генерал с улыбкой потре-
пал его по плечу.
— Ты далеко пойдешь, — сказал он ему...
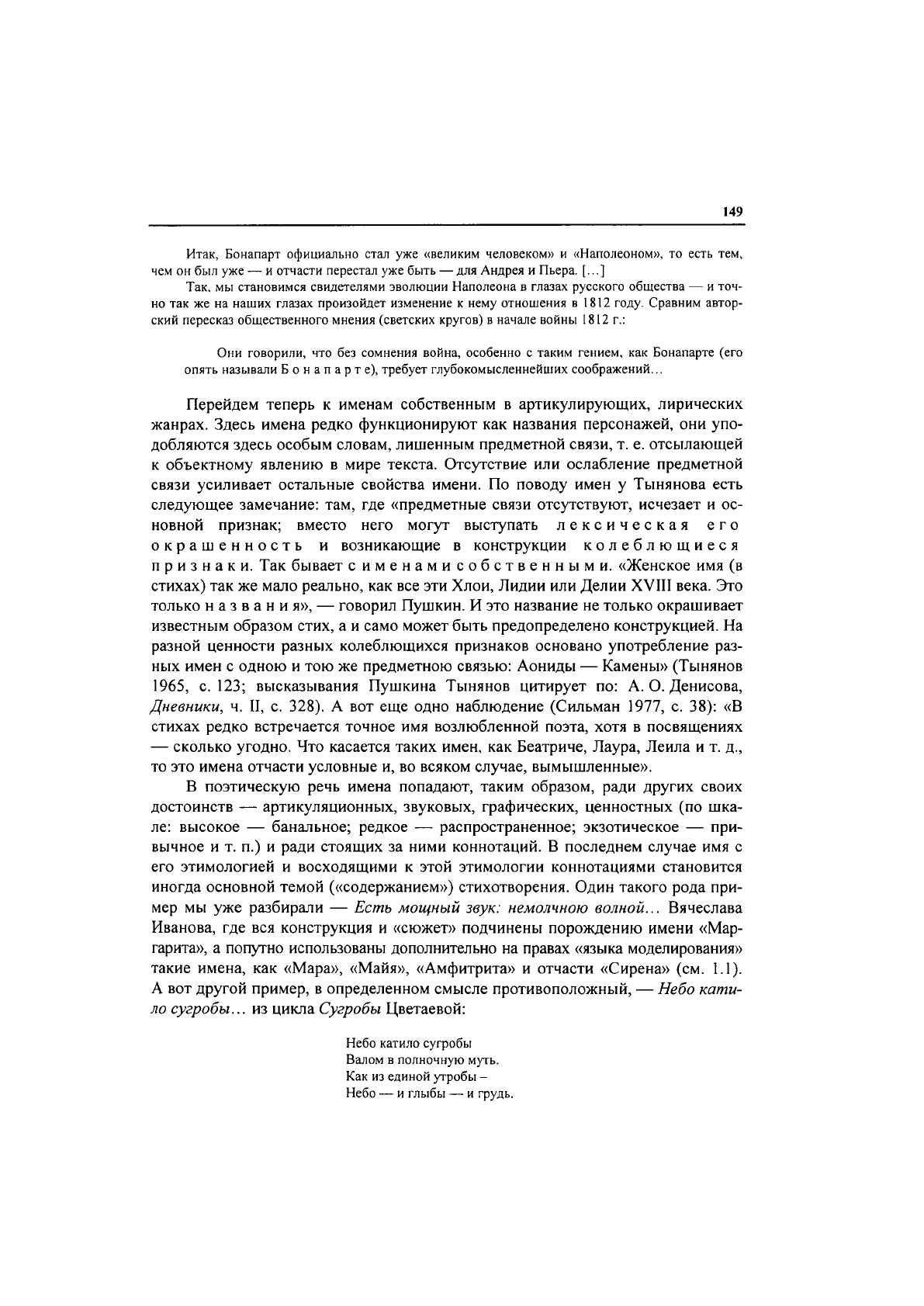
149
Итак, Бонапарт официально стал уже «великим человеком» и «Наполеоном», то есть тем,
чем он был уже — и отчасти перестал уже быть — для Андрея и Пьера. [...]
Так, мы становимся свидетелями эволюции Наполеона в глазах русского общества — и точ-
но так же на наших глазах произойдет изменение к нему отношения в 1812 году. Сравним автор-
ский пересказ общественного мнения (светских кругов) в начале войны 1812г.:
Они говорили, что без сомнения война, особенно с таким гением, как Бонапарте (его
опять называли Бонапарте), требует глубокомысленнейших соображений...
Перейдем теперь к именам собственным в артикулирующих, лирических
жанрах. Здесь имена редко функционируют как названия персонажей, они упо-
добляются здесь особым словам, лишенным предметной связи, т. е. отсылающей
к объектному явлению в мире текста. Отсутствие или ослабление предметной
связи усиливает остальные свойства имени. По поводу имен у Тынянова есть
следующее замечание: там, где «предметные связи отсутствуют, исчезает и ос-
новной признак; вместо него могут выступать лексическая его
окрашенность и возникающие в конструкции колеблющиеся
признаки. Так бывает с именами собственными. «Женское имя (в
стихах) так же мало реально, как все эти Хлои, Лидии или Делии XVIII века. Это
только н а з в а н и я», — говорил Пушкин. И это название не только окрашивает
известным образом стих, а и само может быть предопределено конструкцией. На
разной ценности разных колеблющихся признаков основано употребление раз-
ных имен с одною и тою же предметною связью: Аониды — Камены» (Тынянов
1965, с. 123; высказывания Пушкина Тынянов цитирует по: А.О.Денисова,
Дневники, ч. II, с. 328). А вот еще одно наблюдение (Сильман 1977, с. 38): «В
стихах редко встречается точное имя возлюбленной поэта, хотя в посвящениях
— сколько угодно. Что касается таких имен, как Беатриче, Лаура, Лейла и т. д.,
то это имена отчасти условные и, во всяком случае, вымышленные».
В поэтическую речь имена попадают, таким образом, ради других своих
достоинств — артикуляционных, звуковых, графических, ценностных (по шка-
ле: высокое — банальное; редкое — распространенное; экзотическое — при-
вычное и т. п.) и ради стоящих за ними коннотаций. В последнем случае имя с
его этимологией и восходящими к этой этимологии коннотациями становится
иногда основной темой («содержанием») стихотворения. Один такого рода при-
мер мы уже разбирали — Есть мощный звук: немолчною волной... Вячеслава
Иванова, где вся конструкция и «сюжет» подчинены порождению имени «Мар-
гарита», а попутно использованы дополнительно на правах «языка моделирования»
такие имена, как «Мара», «Майя», «Амфитрита» и отчасти «Сирена» (см. 1.1).
А вот другой пример, в определенном смысле противоположный, — Небо кати-
ло сугробы... из цикла Сугробы Цветаевой:
Небо катило сугробы
Валом в полночную муть.
Как из единой утробы -
Небо — и глыбы — и грудь.
