Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

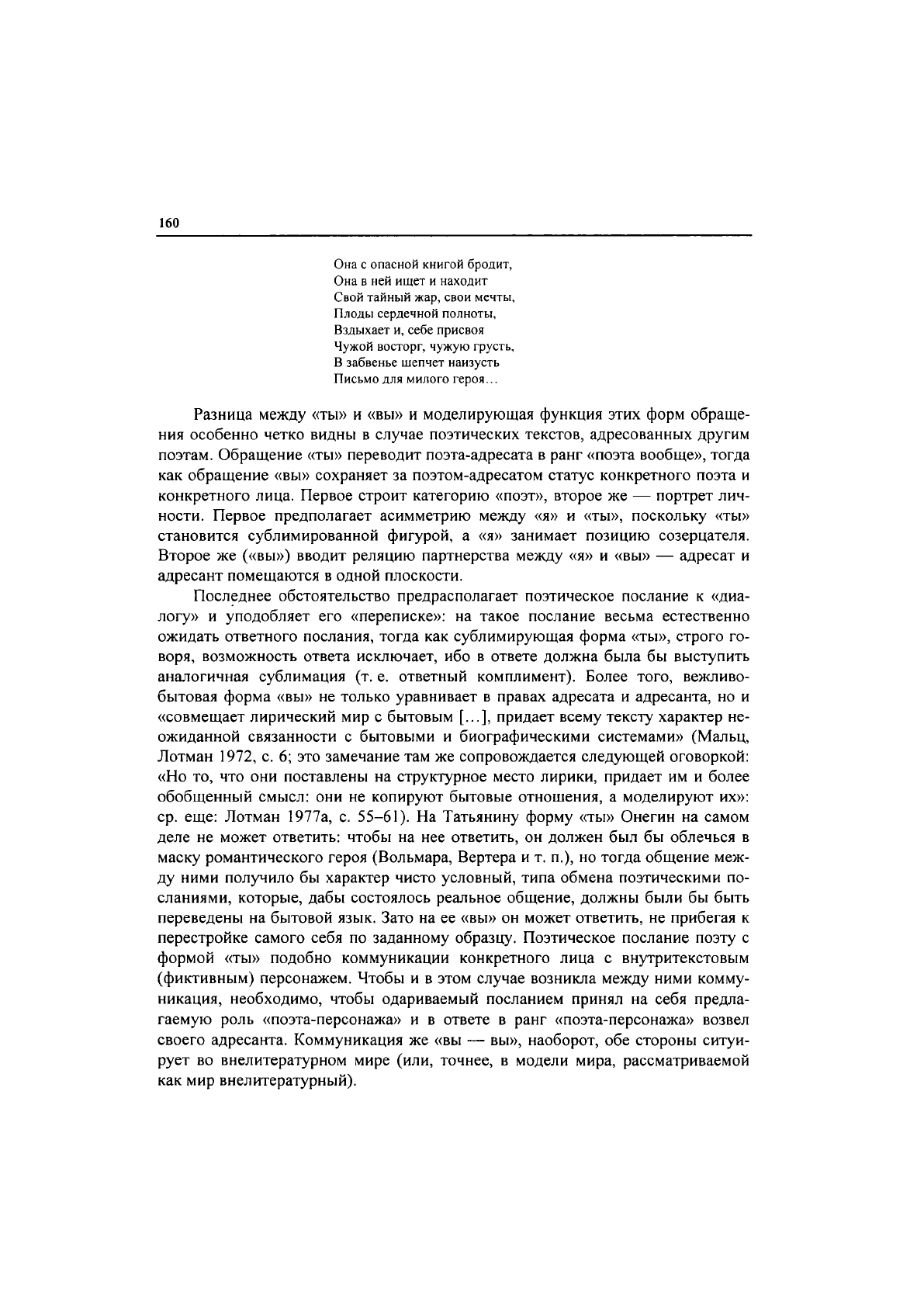
160
Она с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Разница между «ты» и «вы» и моделирующая функция этих форм обраще-
ния особенно четко видны в случае поэтических текстов, адресованных другим
поэтам. Обращение «ты» переводит поэта-адресата в ранг «поэта вообще», тогда
как обращение «вы» сохраняет за поэтом-адресатом статус конкретного поэта и
конкретного лица. Первое строит категорию «поэт», второе же — портрет лич-
ности. Первое предполагает асимметрию между «я» и «ты», поскольку «ты»
становится сублимированной фигурой, а «я» занимает позицию созерцателя.
Второе же («вы») вводит реляцию партнерства между «я» и «вы» — адресат и
адресант помещаются в одной плоскости.
Последнее обстоятельство предрасполагает поэтическое послание к «диа-
логу» и уподобляет его «переписке»: на такое послание весьма естественно
ожидать ответного послания, тогда как сублимирующая форма «ты», строго го-
воря, возможность ответа исключает, ибо в ответе должна была бы выступить
аналогичная сублимация (т. е. ответный комплимент). Более того, вежливо-
бытовая форма «вы» не только уравнивает в правах адресата и адресанта, но и
«совмещает лирический мир с бытовым [...], придает всему тексту характер не-
ожиданной связанности с бытовыми и биографическими системами» (Мальц,
Лотман 1972, с. 6; это замечание там же сопровождается следующей оговоркой:
«Но то, что они поставлены на структурное место лирики, придает им и более
обобщенный смысл: они не копируют бытовые отношения, а моделируют их»:
ср. еще: Лотман 1977а, с. 55-61). На Татьянину форму «ты» Онегин на самом
деле не может ответить: чтобы на нее ответить, он должен был бы облечься в
маску романтического героя (Вольмара, Вертера и т. п.), но тогда общение меж-
ду ними получило бы характер чисто условный, типа обмена поэтическими по-
сланиями, которые, дабы состоялось реальное общение, должны были бы быть
переведены на бытовой язык. Зато на ее «вы» он может ответить, не прибегая к
перестройке самого себя по заданному образцу. Поэтическое послание поэту с
формой «ты» подобно коммуникации конкретного лица с внутритекстовым
(фиктивным) персонажем. Чтобы и в этом случае возникла между ними комму-
никация, необходимо, чтобы одариваемый посланием принял на себя предла-
гаемую роль «поэта-персонажа» и в ответе в ранг «поэта-персонажа» возвел
своего адресанта. Коммуникация же «вы — вы», наоборот, обе стороны ситуи-
рует во внелитературном мире (или, точнее, в модели мира, рассматриваемой
как мир внелитературный).
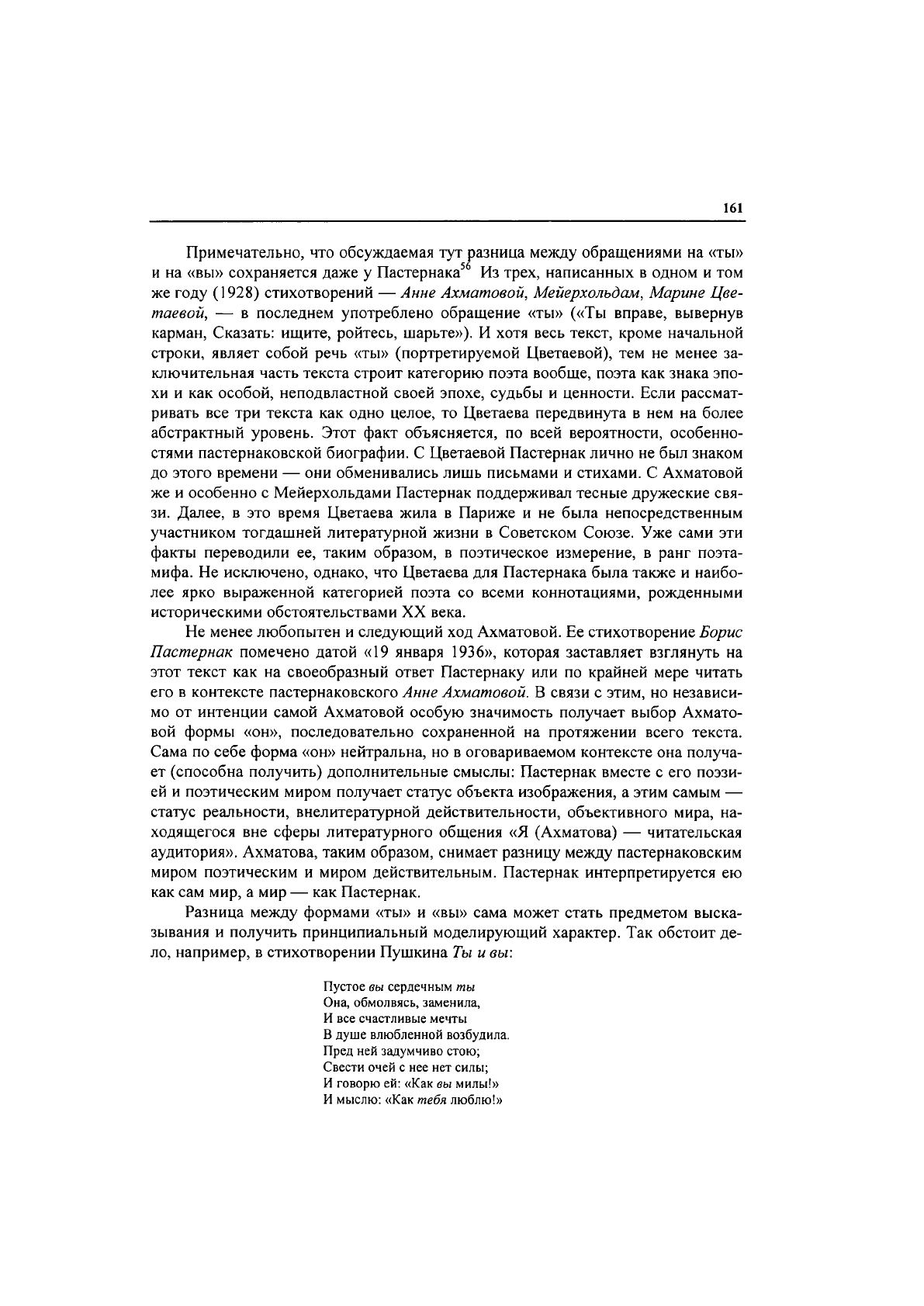
161
Примечательно, что обсуждаемая тут разница между обращениями на «ты»
и на «вы» сохраняется даже у Пастернака
56
Из трех, написанных в одном и том
же году (1928) стихотворений — Анне Ахматовой, Мейерхольдам, Марине Цве-
таевой, — в последнем употреблено обращение «ты» («Ты вправе, вывернув
карман, Сказать: ищите, ройтесь, шарьте»). И хотя весь текст, кроме начальной
строки, являет собой речь «ты» (портретируемой Цветаевой), тем не менее за-
ключительная часть текста строит категорию поэта вообще, поэта как знака эпо-
хи и как особой, неподвластной своей эпохе, судьбы и ценности. Если рассмат-
ривать все три текста как одно целое, то Цветаева передвинута в нем на более
абстрактный уровень. Этот факт объясняется, по всей вероятности, особенно-
стями пастернаковской биографии. С Цветаевой Пастернак лично не был знаком
до этого времени — они обменивались лишь письмами и стихами. С Ахматовой
же и особенно с Мейерхольдами Пастернак поддерживал тесные дружеские свя-
зи. Далее, в это время Цветаева жила в Париже и не была непосредственным
участником тогдашней литературной жизни в Советском Союзе. Уже сами эти
факты переводили ее, таким образом, в поэтическое измерение, в ранг поэта-
мифа. Не исключено, однако, что Цветаева для Пастернака была также и наибо-
лее ярко выраженной категорией поэта со всеми коннотациями, рожденными
историческими обстоятельствами XX века.
Не менее любопытен и следующий ход Ахматовой. Ее стихотворение Борис
Пастернак помечено датой «19 января 1936», которая заставляет взглянуть на
этот текст как на своеобразный ответ Пастернаку или по крайней мере читать
его в контексте пастернаковского Анне Ахматовой. В связи с этим, но независи-
мо от интенции самой Ахматовой особую значимость получает выбор Ахмато-
вой формы «он», последовательно сохраненной на протяжении всего текста.
Сама по себе форма «он» нейтральна, но в оговариваемом контексте она получа-
ет (способна получить) дополнительные смыслы: Пастернак вместе с его поэзи-
ей и поэтическим миром получает статус объекта изображения, а этим самым —
статус реальности, внелитературной действительности, объективного мира, на-
ходящегося вне сферы литературного общения «Я (Ахматова) — читательская
аудитория». Ахматова, таким образом, снимает разницу между пастернаковским
миром поэтическим и миром действительным. Пастернак интерпретируется ею
как сам мир, а мир — как Пастернак.
Разница между формами «ты» и «вы» сама может стать предметом выска-
зывания и получить принципиальный моделирующий характер. Так обстоит де-
ло, например, в стихотворении Пушкина Ты и вы:
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: «Как вы милы!»
И мыслю: «Как тебя люблю!»
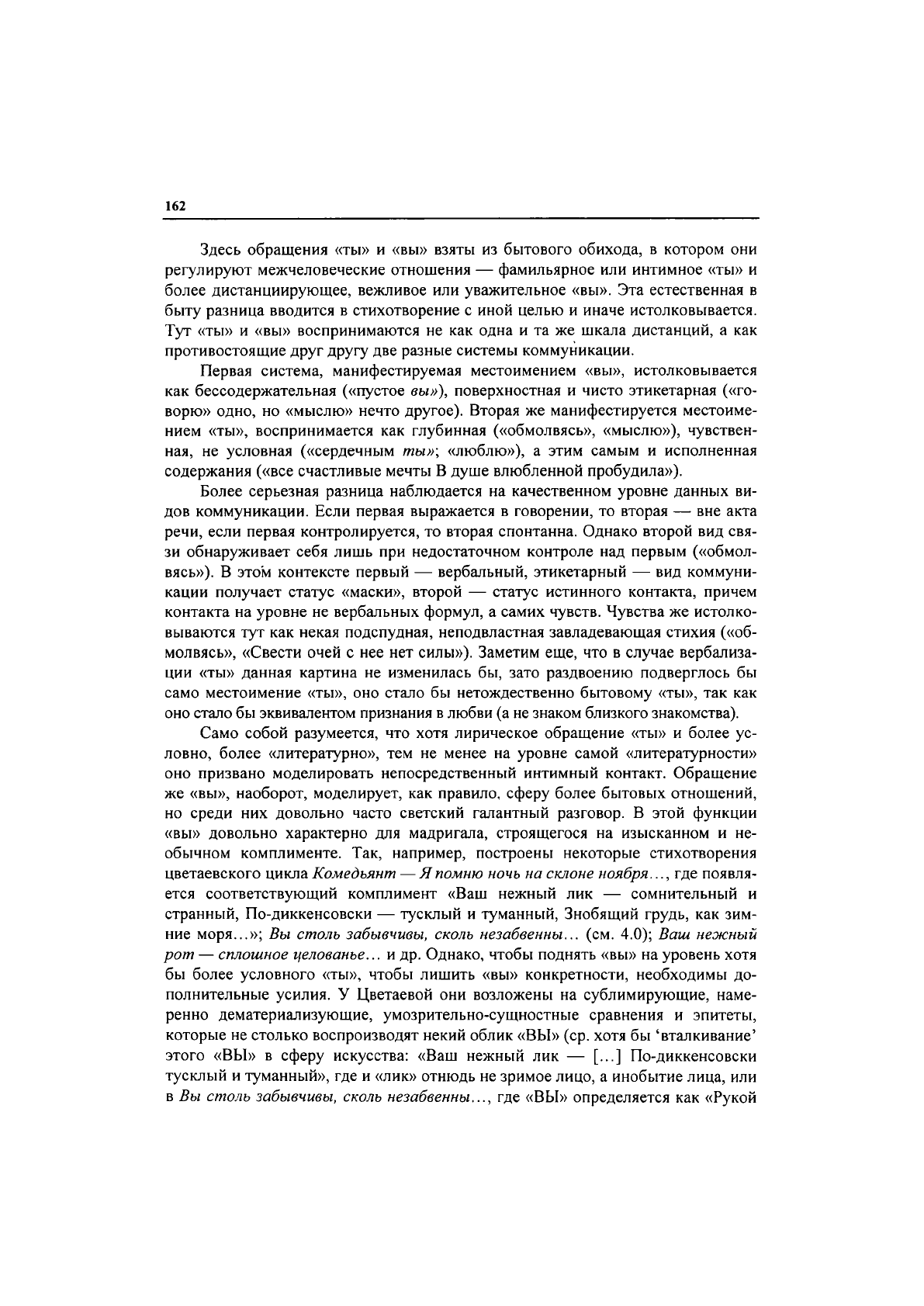
162
Здесь обращения «ты» и «вы» взяты из бытового обихода, в котором они
регулируют межчеловеческие отношения — фамильярное или интимное «ты» и
более дистанциирующее, вежливое или уважительное «вы». Эта естественная в
быту разница вводится в стихотворение с иной целью и иначе истолковывается.
Тут «ты» и «вы» воспринимаются не как одна и та же шкала дистанций, а как
противостоящие друг другу две разные системы коммуникации.
Первая система, манифестируемая местоимением «вы», истолковывается
как бессодержательная («пустое вы»), поверхностная и чисто этикетарная («го-
ворю» одно, но «мыслю» нечто другое). Вторая же манифестируется местоиме-
нием «ты», воспринимается как глубинная («обмолвясь», «мыслю»), чувствен-
ная, не условная («сердечным ты»\ «люблю»), а этим самым и исполненная
содержания («все счастливые мечты В душе влюбленной пробудила»).
Более серьезная разница наблюдается на качественном уровне данных ви-
дов коммуникации. Если первая выражается в говорении, то вторая — вне акта
речи, если первая контролируется, то вторая спонтанна. Однако второй вид свя-
зи обнаруживает себя лишь при недостаточном контроле над первым («обмол-
вясь»). В этом контексте первый — вербальный, этикетарный — вид коммуни-
кации получает статус «маски», второй — статус истинного контакта, причем
контакта на уровне не вербальных формул, а самих чувств. Чувства же истолко-
вываются тут как некая подспудная, неподвластная завладевающая стихия («об-
молвясь», «Свести очей с нее нет силы»). Заметим еще, что в случае вербализа-
ции «ты» данная картина не изменилась бы, зато раздвоению подверглось бы
само местоимение «ты», оно стало бы нетождественно бытовому «ты», так как
оно стало бы эквивалентом признания в любви (а не знаком близкого знакомства).
Само собой разумеется, что хотя лирическое обращение «ты» и более ус-
ловно, более «литературно», тем не менее на уровне самой «литературности»
оно призвано моделировать непосредственный интимный контакт. Обращение
же «вы», наоборот, моделирует, как правило, сферу более бытовых отношений,
но среди них довольно часто светский галантный разговор. В этой функции
«вы» довольно характерно для мадригала, строящегося на изысканном и не-
обычном комплименте. Так, например, построены некоторые стихотворения
цветаевского цикла Комедьянт — Я помню ночь на склоне ноября..., где появля-
ется соответствующий комплимент «Ваш нежный лик — сомнительный и
странный, По-диккенсовски — тусклый и туманный, Знобящий грудь, как зим-
ние моря...»; Вы столь забывчивы, сколь незабвенны... (см. 4.0); Ваш нежный
рот — сплошное целованье... и др. Однако, чтобы поднять «вы» на уровень хотя
бы более условного «ты», чтобы лишить «вы» конкретности, необходимы до-
полнительные усилия. У Цветаевой они возложены на сублимирующие, наме-
ренно дематериализующие, умозрительно-сущностные сравнения и эпитеты,
которые не столько воспроизводят некий облик «ВЫ» (ср. хотя бы 'вталкивание'
этого «ВЫ» в сферу искусства: «Ваш нежный лик — [...] По-диккенсовски
тусклый и туманный», где и «лик» отнюдь не зримое лицо, а инобытие лица, или
в Вы столь забывчивы, сколь незабвенны..., где «ВЫ» определяется как «Рукой
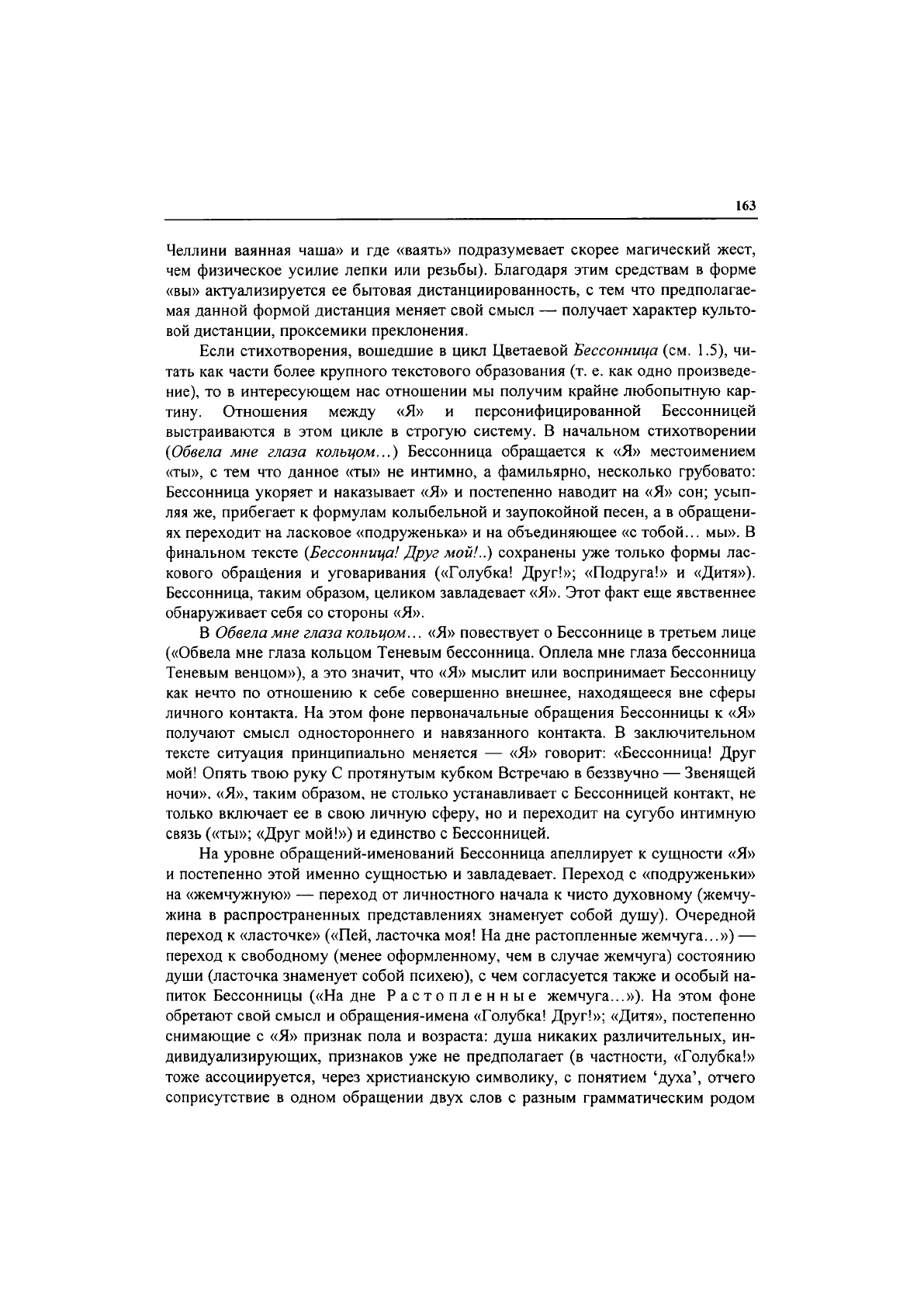
163
Челлини ваянная чаша» и где «ваять» подразумевает скорее магический жест,
чем физическое усилие лепки или резьбы). Благодаря этим средствам в форме
«вы» актуализируется ее бытовая дистанциированность, с тем что предполагае-
мая данной формой дистанция меняет свой смысл — получает характер культо-
вой дистанции, проксемики преклонения.
Если стихотворения, вошедшие в цикл Цветаевой Бессонница (см. 1.5), чи-
тать как части более крупного текстового образования (т. е. как одно произведе-
ние), то в интересующем нас отношении мы получим крайне любопытную кар-
тину. Отношения между «Я» и персонифицированной Бессонницей
выстраиваются в этом цикле в строгую систему. В начальном стихотворении
(Обвела мне глаза кольцом...) Бессонница обращается к «Я» местоимением
«ты», с тем что данное «ты» не интимно, а фамильярно, несколько грубовато:
Бессонница укоряет и наказывает «Я» и постепенно наводит на «Я» сон; усып-
ляя же, прибегает к формулам колыбельной и заупокойной песен, а в обращени-
ях переходит на ласковое «подруженька» и на объединяющее «с тобой... мы». В
финальном тексте (Бессонница! Друг мой!..) сохранены уже только формы лас-
кового обращения и уговаривания («Голубка! Друг!»; «Подруга!» и «Дитя»).
Бессонница, таким образом, целиком завладевает «Я». Этот факт еще явственнее
обнаруживает себя со стороны «Я».
В Обвела мне глаза кольцом... «Я» повествует о Бессоннице в третьем лице
(«Обвела мне глаза кольцом Теневым бессонница. Оплела мне глаза бессонница
Теневым венцом»), а это значит, что «Я» мыслит или воспринимает Бессонницу
как нечто по отношению к себе совершенно внешнее, находящееся вне сферы
личного контакта. На этом фоне первоначальные обращения Бессонницы к «Я»
получают смысл одностороннего и навязанного контакта. В заключительном
тексте ситуация принципиально меняется — «Я» говорит: «Бессонница! Друг
мой! Опять твою руку С протянутым кубком Встречаю в беззвучно — Звенящей
ночи». «Я», таким образом, не столько устанавливает с Бессонницей контакт, не
только включает ее в свою личную сферу, но и переходит на сугубо интимную
связь («ты»; «Друг мой!») и единство с Бессонницей.
На уровне обращений-именований Бессонница апеллирует к сущности «Я»
и постепенно этой именно сущностью и завладевает. Переход с «подруженьки»
на «жемчужную» — переход от личностного начала к чисто духовному (жемчу-
жина в распространенных представлениях знаменует собой душу). Очередной
переход к «ласточке» («Пей, ласточка моя! На дне растопленные жемчуга...») —
переход к свободному (менее оформленному, чем в случае жемчуга) состоянию
души (ласточка знаменует собой психею), с чем согласуется также и особый на-
питок Бессонницы («На дне Растопленные жемчуга...»). На этом фоне
обретают свой смысл и обращения-имена «Голубка! Друг!»; «Дитя», постепенно
снимающие с «Я» признак пола и возраста: душа никаких различительных, ин-
дивидуализирующих, признаков уже не предполагает (в частности, «Голубка!»
тоже ассоциируется, через христианскую символику, с понятием 'духа', отчего
соприсутствие в одном обращении двух слов с разным грамматическим родом

164
«Голубка! Друг!» подразумевает вообще отсутствие какого-либо рода).
Аналогичным образом лишается признака 'пола' и Бессонница: она и
«Бессонница», и «Друг мой!», и «любовник». Более того, она сама есть соблаз-
няющий напиток из «Растопленных жемчугов» (ср. «Опять твою руку С
протянутым кубком Встречаю» и «Из двух горстей Моих — прельстись! — ис-
пей!», где «кубок» уже не предмет, а «горсти» Бессонницы). Обращение-имя
«Подруга!», употребленное Бессонницей, ставит знак равенства между ней и
«Я» и означает приобщение «Я» к Бессоннице-'потоку душ' (с другой точки
зрения, мы бы могли сказать, что тут имеет место воссоединение «Я»-'Марины'
со своей предвечной сущностью акватического характера или обретение своей
'морской сущности' и воссоединение с мировым потоком logoi — см. 4.2). В
результате данная Бессонница носит характер водительницы душ, психопомпа
(ср. в центральных стихотворениях, в 5: «Нынче я гость небесный В стране тво-
ей...»; в 6: «Сегодня ночью я одна в ночи — Бессонная, бездомная черница! —
[...] Бессонница меня толкнула в путь» и в финальном уговаривании
Бессонницей «Я»: «Прельстись! Приголубь! Не в высь, А в глубь — Веду...»).
Чтобы закончить этот беглый разбор Бессонницы (более детальный см. в: Faryno
1978а), доскажем еще, что и вне форм обращения «Я» на своем 'бессонном'
пути постепенно лишается всяких воспринимаемых индивидуализирующих
признаков и приближается к собственной акватической сущности (истончается
тело: «Ах, нынче ветру до зари — дуть. Сквозь стенки тонкие груди — в грудь»;
отсекается всякая чувственность — «черница», т. е. монашка; обретается 'голая
душа': «И душный ветер прямо в душу дует» и выявляется связь с 'морем': «я
только Раковина, где еще не умолк океан»).
В главе Ночь (продолжение) в сцене свидания Ставрогина с Марьей Тимо-
феевной некоторое время Марья Тимофеевна обращается к Ставрогину на «вы»
и «князь», а Ставрогин к ней на «вы» и «Марья Тимофеевна», но к концу свида-
ния оба вдруг переходят на бранное «ты». Эти обращения значимы и сами по
себе и в соотнесении с именованиями данных персонажей в этой главе повест-
вователем (Хроникером), который называет их тут «Николай Всеволодович» и
«Марья Тимофеевна» (попутно отметим, что и само повествование не совсем
нейтрально: на протяжении романа Хроникер говорит, например, о Ставрогине
то «Николай Всеволодович», то «Ставрогин», а чередование именований героя
диктуется тут отнюдь не «эстетическими» соображениями, а проявляемыми в
данные моменты свойствами персонажа, который бывает то «Всеволодовичем»,
то «Ставрогиным», то «Николаем Всеволодовичем», т. е. обнаруживает то одно,
то другое начало своей сущности — см. 4.2).
В основе отмеченного перехода на бранное «ты» покоится не ссора, а
встреча, обернувшаяся не-встречей. Когда Марья Тимофеевна говорит Ставро-
гину «вы» и «князь», то она имеет в виду ту сущность, которая соответствует
имени «Ставрогин» и культовому аспекту имени «Николай». Убедившись же,
что эта сущность отсутствует, что ее посетитель лишь «похож» на «Ставрогина»
и «Николая» — 'Nikolaos'a' и лишь «может, и родственник ему», переходит на
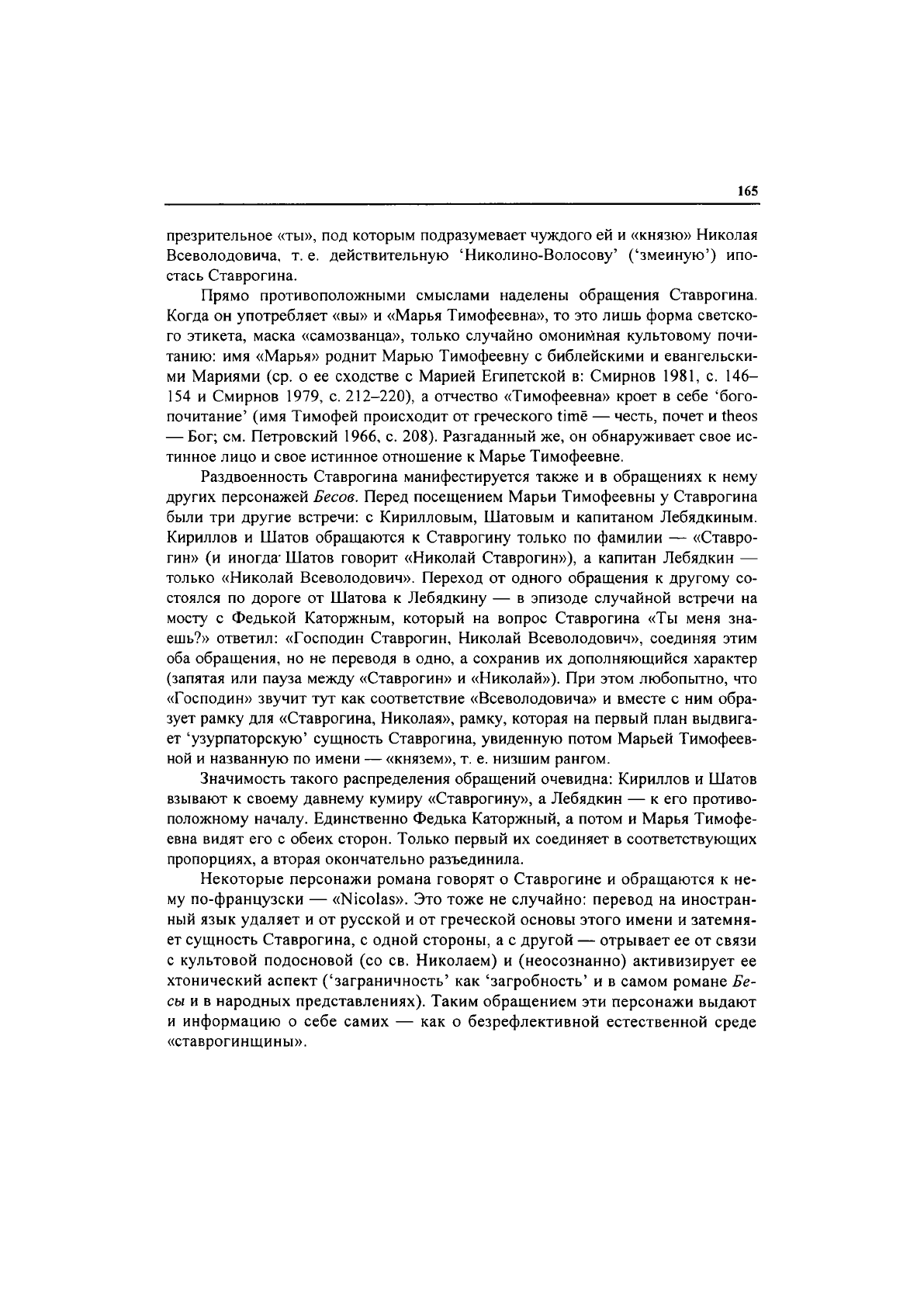
165
презрительное «ты», под которым подразумевает чуждого ей и «князю» Николая
Всеволодовича, т. е. действительную 'Николино-Волосову' ('змеиную') ипо-
стась Ставрогина.
Прямо противоположными смыслами наделены обращения Ставрогина.
Когда он употребляет «вы» и «Марья Тимофеевна», то это лишь форма светско-
го этикета, маска «самозванца», только случайно омониіѵіная культовому почи-
танию: имя «Марья» роднит Марью Тимофеевну с библейскими и евангельски-
ми Мариями (ср. о ее сходстве с Марией Египетской в: Смирнов 1981, с. 146-
154 и Смирнов 1979, с. 212-220), а отчество «Тимофеевна» кроет в себе 'бого-
почитание' (имя Тимофей происходит от греческого time — честь, почет и theos
— Бог; см. Петровский 1966, с. 208). Разгаданный же, он обнаруживает свое ис-
тинное лицо и свое истинное отношение к Марье Тимофеевне.
Раздвоенность Ставрогина манифестируется также и в обращениях к нему
других персонажей Бесов. Перед посещением Марьи Тимофеевны у Ставрогина
были три другие встречи: с Кирилловым, Шатовым и капитаном Лебядкиным.
Кириллов и Шатов обращаются к Ставрогину только по фамилии — «Ставро-
гин» (и иногда' Шатов говорит «Николай Ставрогин»), а капитан Лебядкин —
только «Николай Всеволодович». Переход от одного обращения к другому со-
стоялся по дороге от Шатова к Лебядкину — в эпизоде случайной встречи на
мосту с Федькой Каторжным, который на вопрос Ставрогина «Ты меня зна-
ешь?» ответил: «Господин Ставрогин, Николай Всеволодович», соединяя этим
оба обращения, но не переводя в одно, а сохранив их дополняющийся характер
(запятая или пауза между «Ставрогин» и «Николай»). При этом любопытно, что
«Господин» звучит тут как соответствие «Всеволодовича» и вместе с ним обра-
зует рамку для «Ставрогина, Николая», рамку, которая на первый план выдвига-
ет 'узурпаторскую' сущность Ставрогина, увиденную потом Марьей Тимофеев-
ной и названную по имени — «князем», т. е. низшим рангом.
Значимость такого распределения обращений очевидна: Кириллов и Шатов
взывают к своему давнему кумиру «Ставрогину», а Лебядкин — к его противо-
положному началу. Единственно Федька Каторжный, а потом и Марья Тимофе-
евна видят его с обеих сторон. Только первый их соединяет в соответствующих
пропорциях, а вторая окончательно разъединила.
Некоторые персонажи романа говорят о Ставрогине и обращаются к не-
му по-французски — «Nicolas». Это тоже не случайно: перевод на иностран-
ный язык удаляет и от русской и от греческой основы этого имени и затемня-
ет сущность Ставрогина, с одной стороны, а с другой — отрывает ее от связи
с культовой подосновой (со св. Николаем) и (неосознанно) активизирует ее
хтонический аспект ('заграничность' как 'загробность' и в самом романе Бе-
сы и в народных представлениях). Таким обращением эти персонажи выдают
и информацию о себе самих — как о безрефлективной естественной среде
«ставрогинщины».
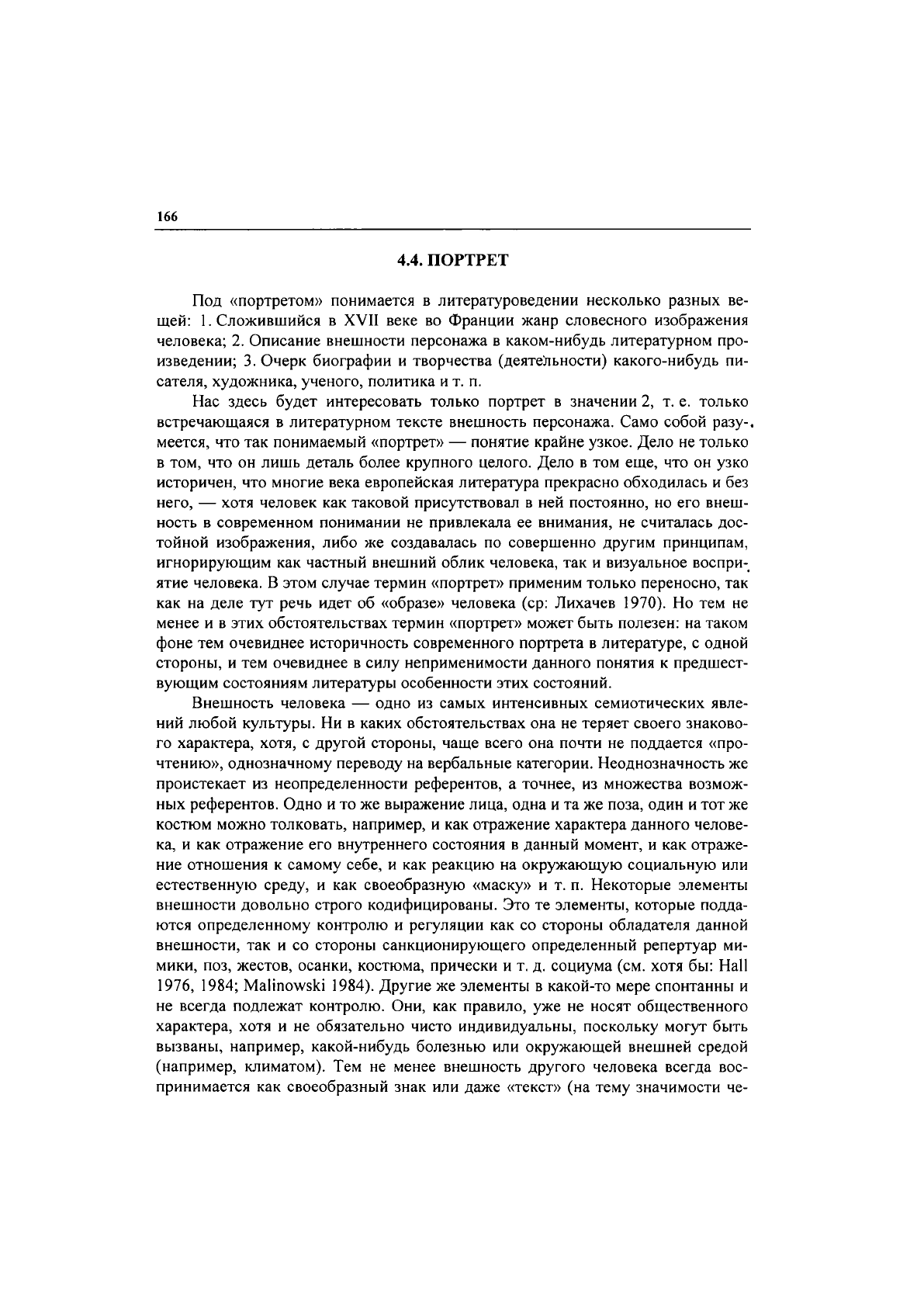
166
4.4. ПОРТРЕТ
Под «портретом» понимается в литературоведении несколько разных ве-
щей: 1. Сложившийся в XVII веке во Франции жанр словесного изображения
человека; 2. Описание внешности персонажа в каком-нибудь литературном про-
изведении; 3. Очерк биографии и творчества (деятельности) какого-нибудь пи-
сателя, художника, ученого, политика и т. п.
Нас здесь будет интересовать только портрет в значении 2, т. е. только
встречающаяся в литературном тексте внешность персонажа. Само собой разу-,
меется, что так понимаемый «портрет» — понятие крайне узкое. Дело не только
в том, что он лишь деталь более крупного целого. Дело в том еще, что он узко
историчен, что многие века европейская литература прекрасно обходилась и без
него, — хотя человек как таковой присутствовал в ней постоянно, но его внеш-
ность в современном понимании не привлекала ее внимания, не считалась дос-
тойной изображения, либо же создавалась по совершенно другим принципам,
игнорирующим как частный внешний облик человека, так и визуальное воспри-
ятие человека. В этом случае термин «портрет» применим только переносно, так
как на деле тут речь идет об «образе» человека (ср: Лихачев 1970). Но тем не
менее и в этих обстоятельствах термин «портрет» может быть полезен: на таком
фоне тем очевиднее историчность современного портрета в литературе, с одной
стороны, и тем очевиднее в силу неприменимости данного понятия к предшест-
вующим состояниям литературы особенности этих состояний.
Внешность человека — одно из самых интенсивных семиотических явле-
ний любой культуры. Ни в каких обстоятельствах она не теряет своего знаково-
го характера, хотя, с другой стороны, чаще всего она почти не поддается «про-
чтению», однозначному переводу на вербальные категории. Неоднозначность же
проистекает из неопределенности референтов, а точнее, из множества возмож-
ных референтов. Одно и то же выражение лица, одна и та же поза, один и тот же
костюм можно толковать, например, и как отражение характера данного челове-
ка, и как отражение его внутреннего состояния в данный момент, и как отраже-
ние отношения к самому себе, и как реакцию на окружающую социальную или
естественную среду, и как своеобразную «маску» и т. п. Некоторые элементы
внешности довольно строго кодифицированы. Это те элементы, которые подда-
ются определенному контролю и регуляции как со стороны обладателя данной
внешности, так и со стороны санкционирующего определенный репертуар ми-
мики, поз, жестов, осанки, костюма, прически и т. д. социума (см. хотя бы: Hall
1976, 1984; Malinowski 1984). Другие же элементы в какой-то мере спонтанны и
не всегда подлежат контролю. Они, как правило, уже не носят общественного
характера, хотя и не обязательно чисто индивидуальны, поскольку могут быть
вызваны, например, какой-нибудь болезнью или окружающей внешней средой
(например, климатом). Тем не менее внешность другого человека всегда вос-
принимается как своеобразный знак или даже «текст» (на тему значимости че-
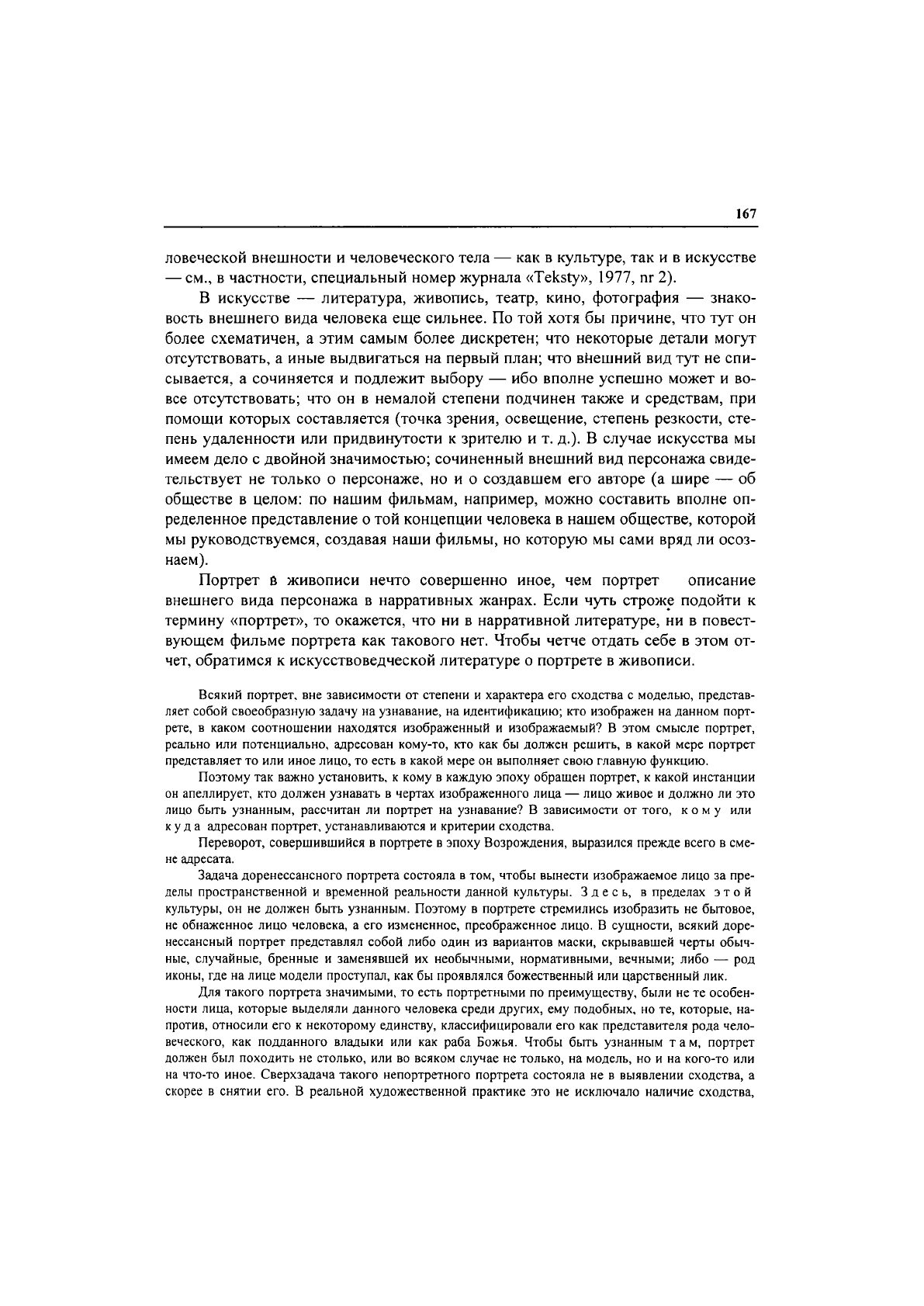
167
ловеческой внешности и человеческого тела — как в культуре, так и в искусстве
— см., в частности, специальный номер журнала «Teksty», 1977, nr 2).
В искусстве — литература, живопись, театр, кино, фотография — знако-
вость внешнего вида человека еще сильнее. По той хотя бы причине, что тут он
более схематичен, а этим самым более дискретен; что некоторые детали могут
отсутствовать, а иные выдвигаться на первый план; что внешний вид тут не спи-
сывается, а сочиняется и подлежит выбору — ибо вполне успешно может и во-
все отсутствовать; что он в немалой степени подчинен также и средствам, при
помощи которых составляется (точка зрения, освещение, степень резкости, сте-
пень удаленности или придвинутости к зрителю и т. д.). В случае искусства мы
имеем дело с двойной значимостью; сочиненный внешний вид персонажа свиде-
тельствует не только о персонаже, но и о создавшем его авторе (а шире — об
обществе в целом: по нашим фильмам, например, можно составить вполне оп-
ределенное представление о той концепции человека в нашем обществе, которой
мы руководствуемся, создавая наши фильмы, но которую мы сами вряд ли осоз-
наем).
Портрет ß живописи нечто совершенно иное, чем портрет описание
внешнего вида персонажа в нарративных жанрах. Если чуть строже подойти к
термину «портрет», то окажется, что ни в нарративной литературе, ни в повест-
вующем фильме портрета как такового нет. Чтобы четче отдать себе в этом от-
чет, обратимся к искусствоведческой литературе о портрете в живописи.
Всякий портрет, вне зависимости от степени и характера его сходства с моделью, представ-
ляет собой своеобразную задачу на узнавание, на идентификацию; кто изображен на данном порт-
рете, в каком соотношении находятся изображенный и изображаемый? В этом смысле портрет,
реально или потенциально, адресован кому-то, кто как бы должен решить, в какой мере портрет
представляет то или иное лицо, то есть в какой мере он выполняет свою главную функцию.
Поэтому так важно установить, к кому в каждую эпоху обращен портрет, к какой инстанции
он апеллирует, кто должен узнавать в чертах изображенного лица — лицо живое и должно ли это
лицо быть узнанным, рассчитан ли портрет на узнавание? В зависимости от того, кому или
куда адресован портрет, устанавливаются и критерии сходства.
Переворот, совершившийся в портрете в эпоху Возрождения, выразился прежде всего в сме-
не адресата.
Задача доренессансного портрета состояла в том, чтобы вынести изображаемое лицо за пре-
делы пространственной и временной реальности данной культуры. Здесь, в пределах этой
культуры, он не должен быть узнанным. Поэтому в портрете стремились изобразить не бытовое,
не обнаженное лицо человека, а его измененное, преображенное лицо. В сущности, всякий доре-
нессансный портрет представлял собой либо один из вариантов маски, скрывавшей черты обыч-
ные, случайные, бренные и заменявшей их необычными, нормативными, вечными; либо — род
иконы, где на лице модели проступал, как бы проявлялся божественный или царственный лик.
Для такого портрета значимыми, то есть портретными по преимуществу, были не те особен-
ности лица, которые выделяли данного человека среди других, ему подобных, но те, которые, на-
против, относили его к некоторому единству, классифицировали его как представителя рода чело-
веческого, как подданного владыки или как раба Божья. Чтобы быть узнанным там, портрет
должен был походить не столько, или во всяком случае не только, на модель, но и на кого-то или
на что-то иное. Сверхзадача такого непортретного портрета состояла не в выявлении сходства, а
скорее в снятии его. В реальной художественной практике это не исключало наличие сходства,
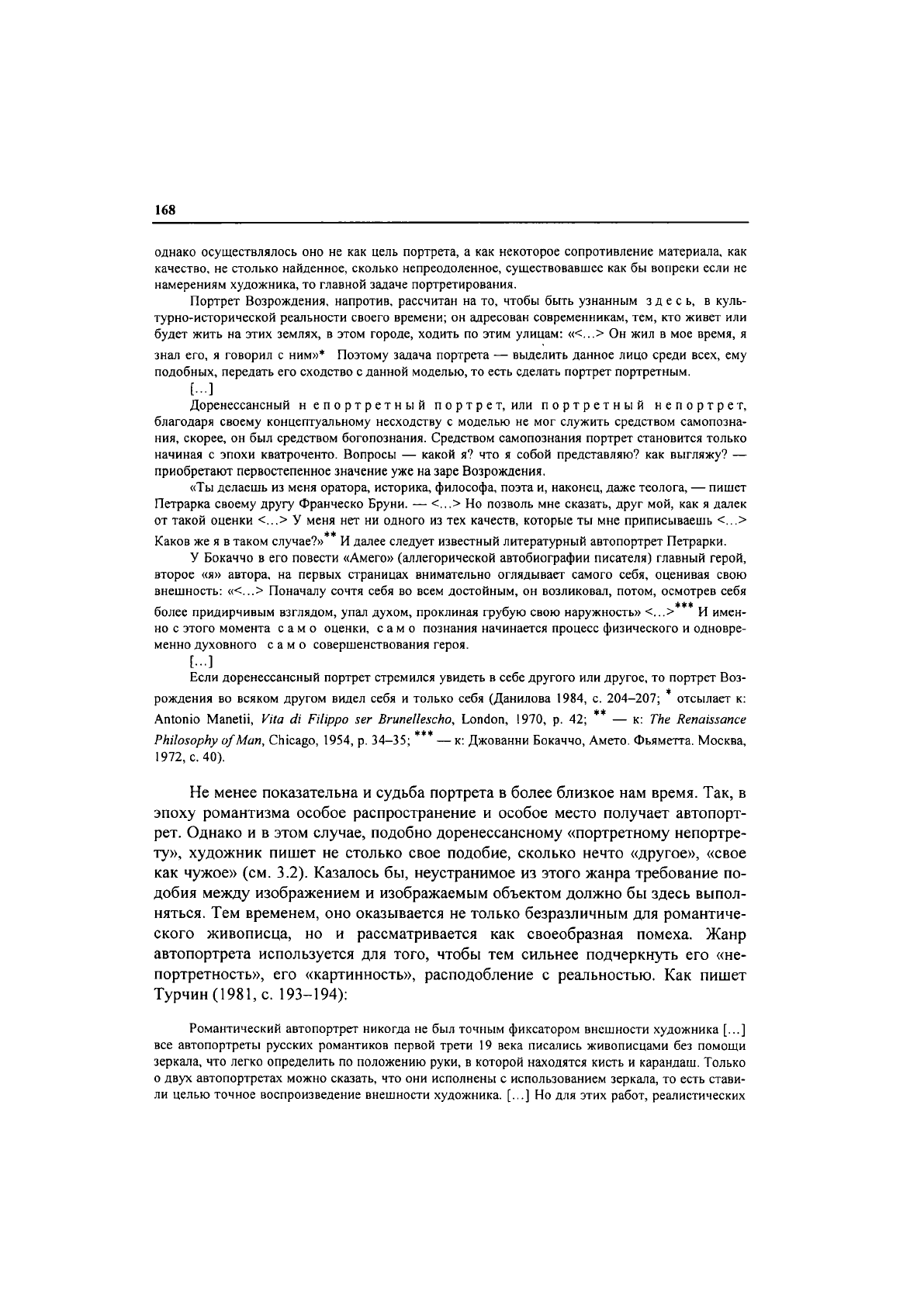
168
однако осуществлялось оно не как цель портрета, а как некоторое сопротивление материала, как
качество, не столько найденное, сколько непреодоленное, существовавшее как бы вопреки если не
намерениям художника, то главной задаче портретирования.
Портрет Возрождения, напротив, рассчитан на то, чтобы быть узнанным здесь, в куль-
турно-исторической реальности своего времени; он адресован современникам, тем, кто живет или
будет жить на этих землях, в этом городе, ходить по этим улицам: «<...> Он жил в мое время, я
знал его, я говорил с ним»* Поэтому задача портрета — выделить данное лицо среди всех, ему
подобных, передать его сходство с данной моделью, то есть сделать портрет портретным.
[...]
Доренессансный н епортретный портрет, или портретный непортрет,
благодаря своему концептуальному несходству с моделью не мог служить средством самопозна-
ния, скорее, он был средством богопознания. Средством самопознания портрет становится только
начиная с эпохи кватроченто. Вопросы — какой я? что я собой представляю? как выгляжу? —
приобретают первостепенное значение уже на заре Возрождения.
«Ты делаешь из меня оратора, историка, философа, поэта и, наконец, даже теолога, — пишет
Петрарка своему другу Франческо Бруни. — <...> Но позволь мне сказать, друг мой, как я далек
от такой оценки <...> У меня нет ни одного из тех качеств, которые ты мне приписываешь <...>
**
Каков же я в таком случае?» И далее следует известный литературный автопортрет Петрарки.
У Бокаччо в его повести «Амего» (аллегорической автобиографии писателя) главный герой,
второе «я» автора, на первых страницах внимательно оглядывает самого себя, оценивая свою
внешность: «<...> Поначалу сочтя себя во всем достойным, он возликовал, потом, осмотрев себя
***
более придирчивым взглядом, упал духом, проклиная грубую свою наружность» <...> И имен-
но с этого момента само оценки, само познания начинается процесс физического и одновре-
менно духовного само совершенствования героя.
[••]
Если доренессансный портрет стремился увидеть в себе другого или другое, то портрет Воз-
рождения во всяком другом видел себя и только себя (Данилова 1984, с. 204-207; * отсылает к:
Antonio Manetii, Vita di Filippo ser Brunellescho, London, 1970, p. 42; ** — к: The Renaissance
***
Philosophy of Man, Chicago, 1954, p. 34-35; — к: Джованни Бокаччо, Амето. Фьяметта. Москва,
1972, с. 40).
Не менее показательна и судьба портрета в более близкое нам время. Так, в
эпоху романтизма особое распространение и особое место получает автопорт-
рет. Однако и в этом случае, подобно доренессансному «портретному непортре-
ту», художник пишет не столько свое подобие, сколько нечто «другое», «свое
как чужое» (см. 3.2). Казалось бы, неустранимое из этого жанра требование по-
добия между изображением и изображаемым объектом должно бы здесь выпол-
няться. Тем временем, оно оказывается не только безразличным для романтиче-
ского живописца, но и рассматривается как своеобразная помеха. Жанр
автопортрета используется для того, чтобы тем сильнее подчеркнуть его «не-
портретность», его «картинность», расподобление с реальностью. Как пишет
Турчин (1981, с. 193-194):
Романтический автопортрет никогда не был точным фиксатором внешности художника [...]
все автопортреты русских романтиков первой трети 19 века писались живописцами без помощи
зеркала, что легко определить по положению руки, в которой находятся кисть и карандаш. Только
о двух автопортретах можно сказать, что они исполнены с использованием зеркала, то есть стави-
ли целью точное воспроизведение внешности художника. [...] Но для этих работ, реалистических
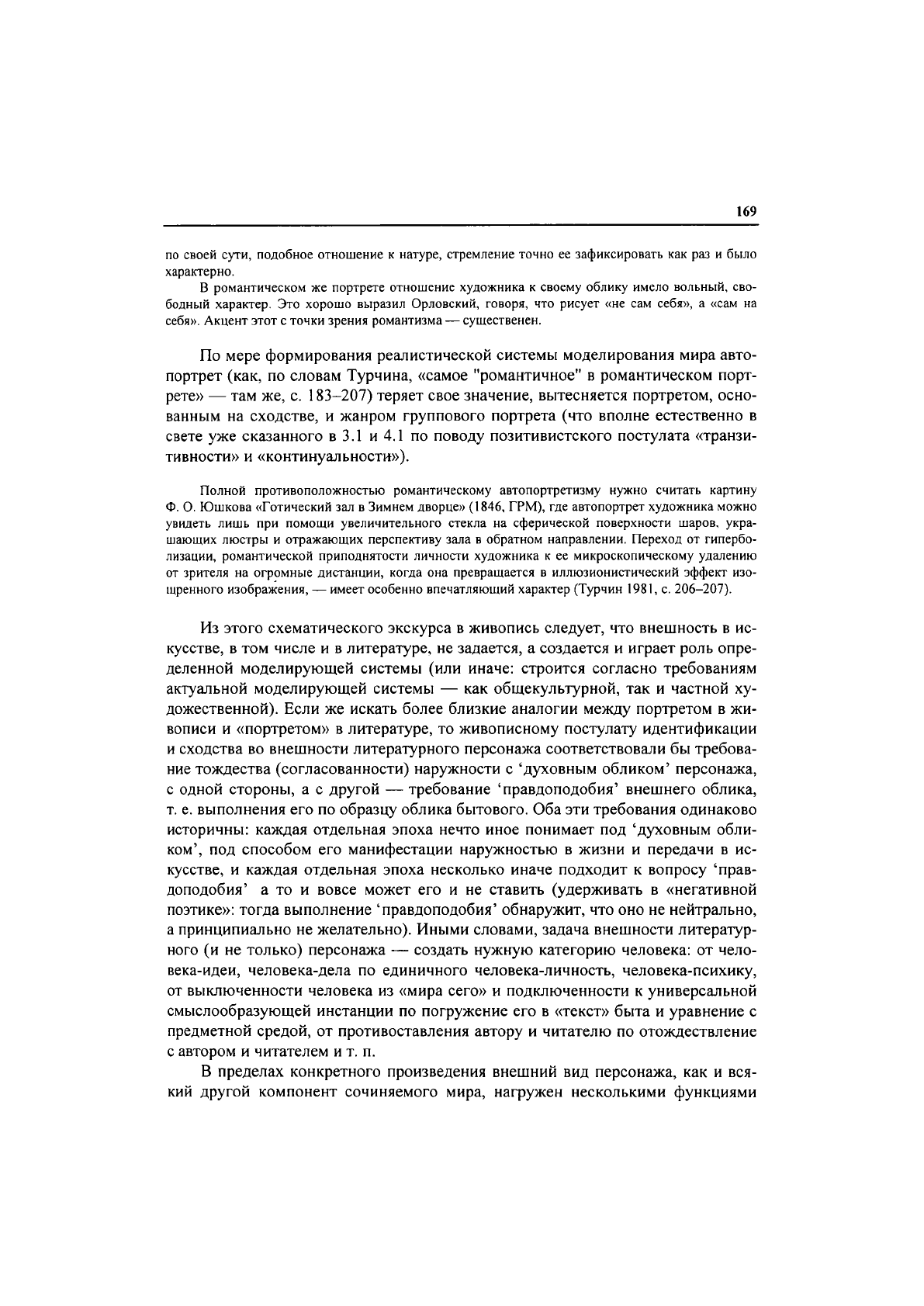
169
по своей сути, подобное отношение к натуре, стремление точно ее зафиксировать как раз и было
характерно.
В романтическом же портрете отношение художника к своему облику имело вольный, сво-
бодный характер. Это хорошо выразил Орловский, говоря, что рисует «не сам себя», а «сам на
себя». Акцент этот с точки зрения романтизма — существенен.
По мере формирования реалистической системы моделирования мира авто-
портрет (как, по словам Турчина, «самое "романтичное" в романтическом порт-
рете» — там же, с. 183-207) теряет свое значение, вытесняется портретом, осно-
ванным на сходстве, и жанром группового портрета (что вполне естественно в
свете уже сказанного в 3.1 и 4.1 по поводу позитивистского постулата «транзи-
тивности» и «континуальности»).
Полной противоположностью романтическому автопортретизму нужно считать картину
Ф. О. Юшкова «Готический зал в Зимнем дворце» (1846, ГРМ), где автопортрет художника можно
увидеть лишь при помощи увеличительного стекла на сферической поверхности шаров, укра-
шающих люстры и отражающих перспективу зала в обратном направлении. Переход от гипербо-
лизации, романтической приподнятости личности художника к ее микроскопическому удалению
от зрителя на огромные дистанции, когда она превращается в иллюзионистический эффект изо-
щренного изображения, — имеет особенно впечатляющий характер (Турчин 1981, с. 206-207).
Из этого схематического экскурса в живопись следует, что внешность в ис-
кусстве, в том числе и в литературе, не задается, а создается и играет роль опре-
деленной моделирующей системы (или иначе: строится согласно требованиям
актуальной моделирующей системы — как общекультурной, так и частной ху-
дожественной). Если же искать более близкие аналогии между портретом в жи-
вописи и «портретом» в литературе, то живописному постулату идентификации
и сходства во внешности литературного персонажа соответствовали бы требова-
ние тождества (согласованности) наружности с 'духовным обликом' персонажа,
с одной стороны, а с другой — требование 'правдоподобия' внешнего облика,
т. е. выполнения его по образцу облика бытового. Оба эти требования одинаково
историчны: каждая отдельная эпоха нечто иное понимает под 'духовным обли-
ком', под способом его манифестации наружностью в жизни и передачи в ис-
кусстве, и каждая отдельная эпоха несколько иначе подходит к вопросу 'прав-
доподобия' а то и вовсе может его и не ставить (удерживать в «негативной
поэтике»: тогда выполнение 'правдоподобия' обнаружит, что оно не нейтрально,
а принципиально не желательно). Иными словами, задача внешности литератур-
ного (и не только) персонажа — создать нужную категорию человека: от чело-
века-идеи, человека-дела по единичного человека-личность, человека-психику,
от выключенное™ человека из «мира сего» и подключенное™ к универсальной
смыслообразующей инстанции по погружение его в «текст» быта и уравнение с
предметной средой, от противоставления автору и читателю по отождествление
с автором и читателем и т. п.
В пределах конкретного произведения внешний вид персонажа, как и вся-
кий другой компонент сочиняемого мира, нагружен несколькими функциями
