Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

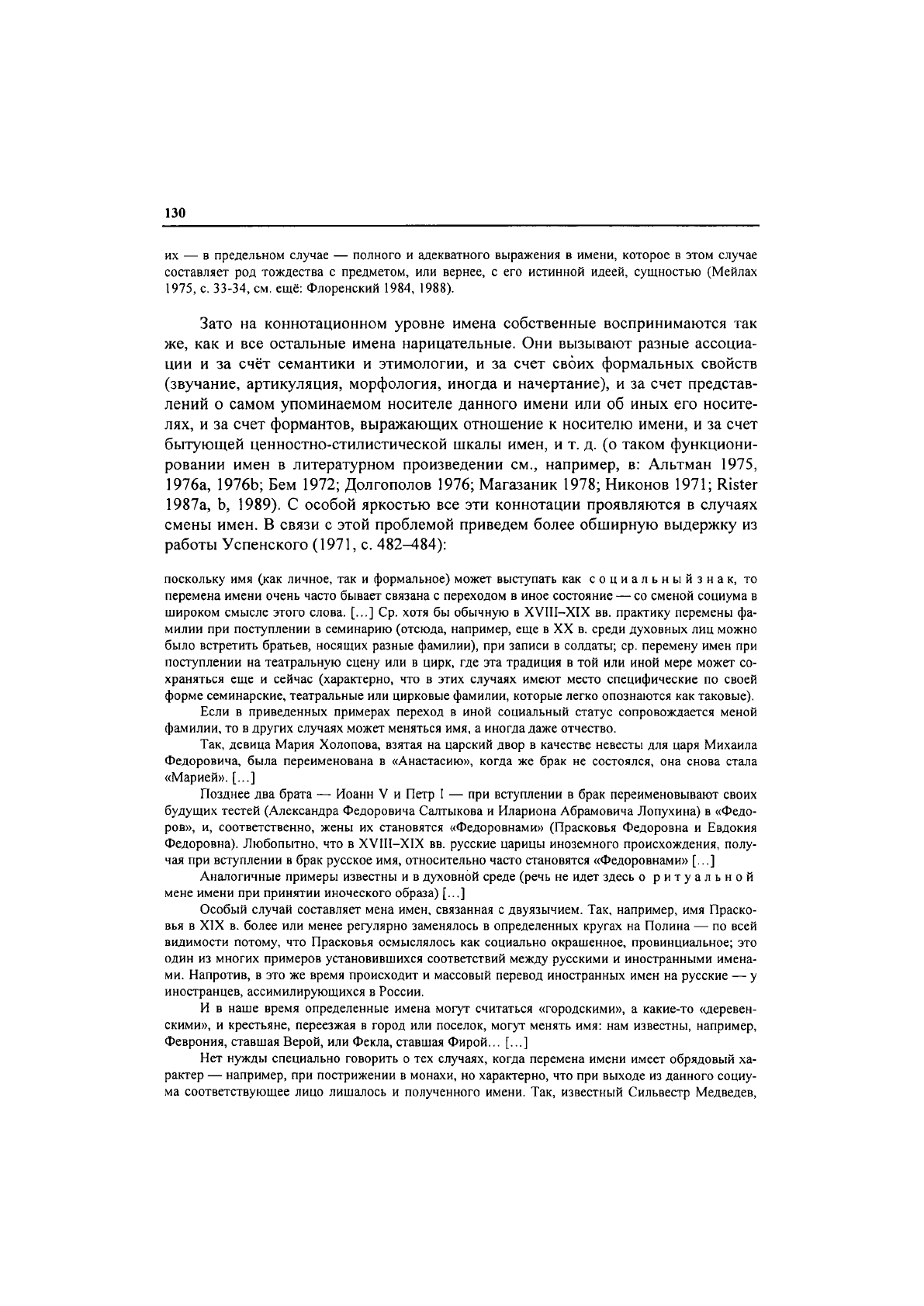
130
их — в предельном случае — полного и адекватного выражения в имени, которое в этом случае
составляет род тождества с предметом, или вернее, с его истинной идеей, сущностью (Мейлах
1975, с. 33-34, см. ещё: Флоренский 1984, 1988).
Зато на коннотационном уровне имена собственные воспринимаются так
же, как и все остальные имена нарицательные. Они вызывают разные ассоциа-
ции и за счёт семантики и этимологии, и за счет своих формальных свойств
(звучание, артикуляция, морфология, иногда и начертание), и за счет представ-
лений о самом упоминаемом носителе данного имени или об иных его носите-
лях, и за счет формантов, выражающих отношение к носителю имени, и за счет
бытующей ценностно-стилистической шкалы имен, и т. д. (о таком функциони-
ровании имен в литературном произведении см., например, в: Альтман 1975,
1976а, 1976b; Бем 1972; Долгополов 1976; Магазаник 1978; Никонов 1971; Rister
1987а, Ь, 1989). С особой яркостью все эти коннотации проявляются в случаях
смены имен. В связи с этой проблемой приведем более обширную выдержку из
работы Успенского (1971, с. 482-484):
поскольку имя (как личное, так и формальное) может выступать как социальный знак, то
перемена имени очень часто бывает связана с переходом в иное состояние — со сменой социума в
широком смысле этого слова. [...] Ср. хотя бы обычную в ХѴІІІ-ХІХ вв. практику перемены фа-
милии при поступлении в семинарию (отсюда, например, еще в XX в. среди духовных лиц можно
было встретить братьев, носящих разные фамилии), при записи в солдаты; ср. перемену имен при
поступлении на театральную сцену или в цирк, где эта традиция в той или иной мере может со-
храняться еще и сейчас (характерно, что в этих случаях имеют место специфические по своей
форме семинарские, театральные или цирковые фамилии, которые легко опознаются как таковые).
Если в приведенных примерах переход в иной социальный статус сопровождается меной
фамилии, то в других случаях может меняться имя, а иногда даже отчество.
Так, девица Мария Холопова, взятая на царский двор в качестве невесты для царя Михаила
Федоровича, была переименована в «Анастасию», когда же брак не состоялся, она снова стала
«Марией». [...]
Позднее два брата — Иоанн V и Петр I — при вступлении в брак переименовывают своих
будущих тестей (Александра Федоровича Салтыкова и Илариона Абрамовича Лопухина) в «Федо-
ров», и, соответственно, жены их становятся «Федоровнами» (Прасковья Федоровна и Евдокия
Федоровна). Любопытно, что в ХѴІІІ-ХІХ вв. русские царицы иноземного происхождения, полу-
чая при вступлении в брак русское имя, относительно часто становятся «Федоровнами» [...]
Аналогичные примеры известны и в духовной среде (речь не идет здесь о ритуальной
мене имени при принятии иноческого образа) [...]
Особый случай составляет мена имен, связанная с двуязычием. Так, например, имя Праско-
вья в XIX в. более или менее регулярно заменялось в определенных кругах на Полина — по всей
видимости потому, что Прасковья осмыслялось как социально окрашенное, провинциальное; это
один из многих примеров установившихся соответствий между русскими и иностранными имена-
ми. Напротив, в это же время происходит и массовый перевод иностранных имен на русские — у
иностранцев, ассимилирующихся в России.
И в наше время определенные имена могут считаться «городскими», а какие-то «деревен-
скими», и крестьяне, переезжая в город или поселок, могут менять имя: нам известны, например,
Феврония, ставшая Верой, или Фекла, ставшая Фирой... [...]
Нет нужды специально говорить о тех случаях, когда перемена имени имеет обрядовый ха-
рактер — например, при пострижении в монахи, но характерно, что при выходе из данного социу-
ма соответствующее лицо лишалось и полученного имени. Так, известный Сильвестр Медведев,
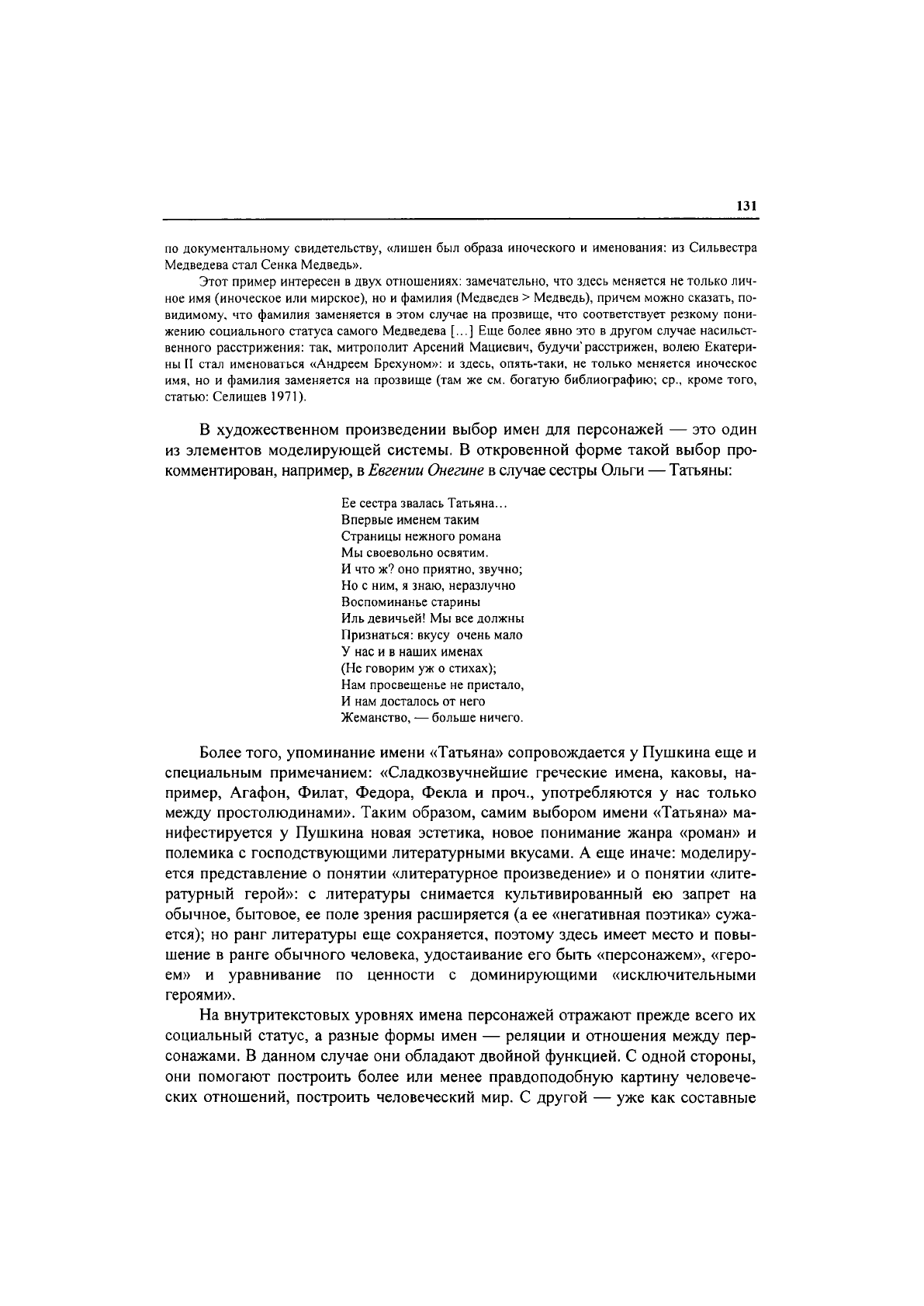
131
по документальному свидетельству, «лишен был образа иноческого и именования: из Сильвестра
Медведева стал Сенка Медведь».
Этот пример интересен в двух отношениях: замечательно, что здесь меняется не только лич-
ное имя (иноческое или мирское), но и фамилия (Медведев > Медведь), причем можно сказать, по-
видимому, что фамилия заменяется в этом случае на прозвище, что соответствует резкому пони-
жению социального статуса самого Медведева [...] Еще более явно это в другом случае насильст-
венного расстрижения: так, митрополит Арсений Мациевич, будучи'расстрижен, волею Екатери-
ны II стал именоваться «Андреем Брехуном»: и здесь, опять-таки, не только меняется иноческое
имя, но и фамилия заменяется на прозвище (там же см. богатую библиографию; ср., кроме того,
статью: Селищев 1971).
В художественном произведении выбор имен для персонажей — это один
из элементов моделирующей системы. В откровенной форме такой выбор про-
комментирован, например, в Евгении Онегине в случае сестры Ольги — Татьяны:
Ее сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежного романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего.
Более того, упоминание имени «Татьяна» сопровождается у Пушкина еще и
специальным примечанием: «Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, на-
пример, Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только
между простолюдинами». Таким образом, самим выбором имени «Татьяна» ма-
нифестируется у Пушкина новая эстетика, новое понимание жанра «роман» и
полемика с господствующими литературными вкусами. А еще иначе: моделиру-
ется представление о понятии «литературное произведение» и о понятии «лите-
ратурный герой»: с литературы снимается культивированный ею запрет на
обычное, бытовое, ее поле зрения расширяется (а ее «негативная поэтика» сужа-
ется); но ранг литературы еще сохраняется, поэтому здесь имеет место и повы-
шение в ранге обычного человека, удостаивание его быть «персонажем», «геро-
ем» и уравнивание по ценности с доминирующими «исключительными
героями».
На внутритекстовых уровнях имена персонажей отражают прежде всего их
социальный статус, а разные формы имен — реляции и отношения между пер-
сонажами. В данном случае они обладают двойной функцией. С одной стороны,
они помогают построить более или менее правдоподобную картину человече-
ских отношений, построить человеческий мир. С другой — уже как составные
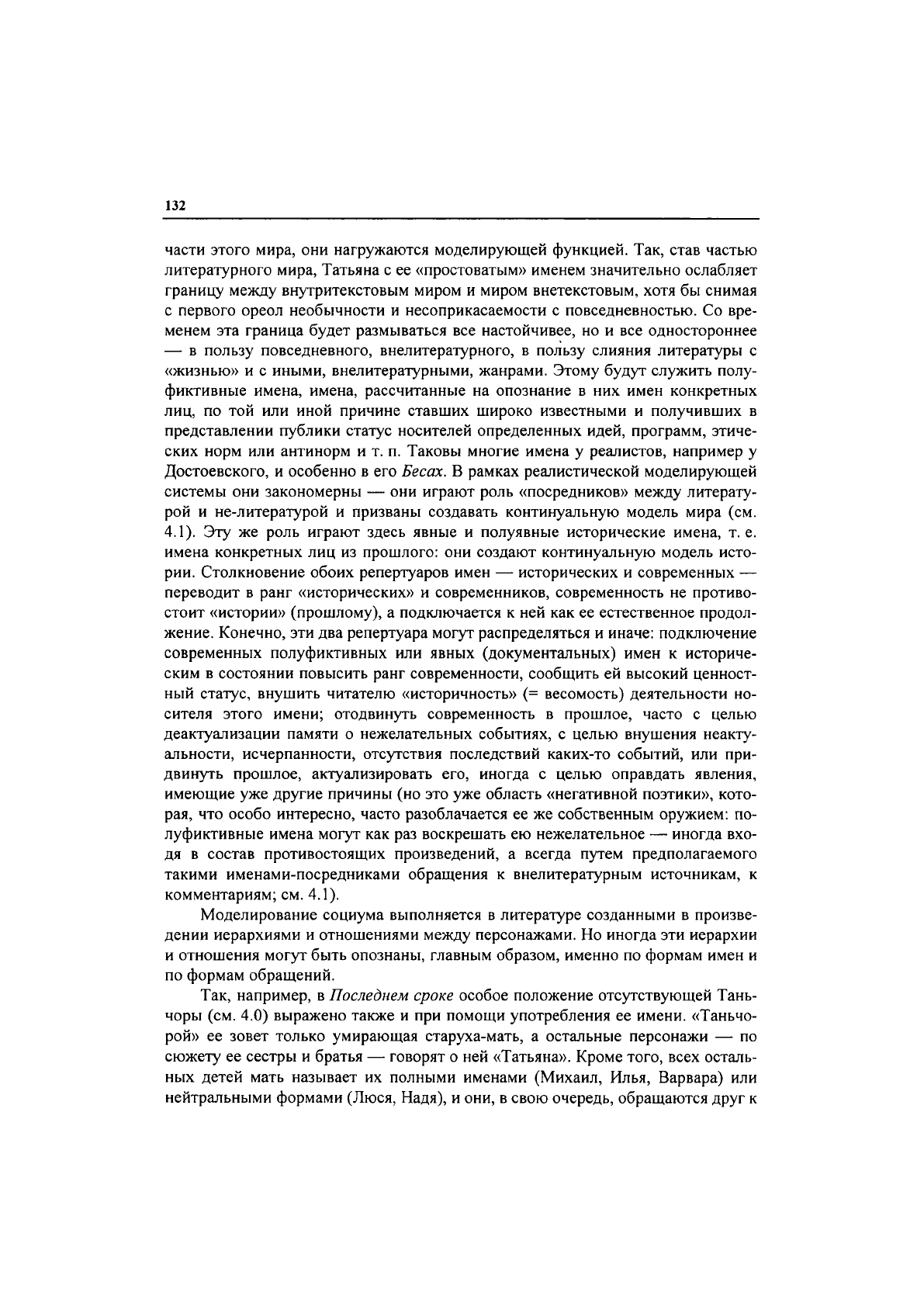
132
части этого мира, они нагружаются моделирующей функцией. Так, став частью
литературного мира, Татьяна с ее «простоватым» именем значительно ослабляет
границу между внутритекстовым миром и миром внетекстовым, хотя бы снимая
с первого ореол необычности и несоприкасаемости с повседневностью. Со вре-
менем эта граница будет размываться все настойчивее, но и все одностороннее
— в пользу повседневного, внелитературного, в пользу слияния литературы с
«жизнью» и с иными, внелитературными, жанрами. Этому будут служить полу-
фиктивные имена, имена, рассчитанные на опознание в них имен конкретных
лиц, по той или иной причине ставших широко известными и получивших в
представлении публики статус носителей определенных идей, программ, этиче-
ских норм или антинорм и т. п. Таковы многие имена у реалистов, например у
Достоевского, и особенно в его Бесах. В рамках реалистической моделирующей
системы они закономерны — они играют роль «посредников» между литерату-
рой и не-литературой и призваны создавать континуальную модель мира (см.
4.1). Эту же роль играют здесь явные и полуявные исторические имена, т.е.
имена конкретных лиц из прошлого: они создают континуальную модель исто-
рии. Столкновение обоих репертуаров имен — исторических и современных —
переводит в ранг «исторических» и современников, современность не противо-
стоит «истории» (прошлому), а подключается к ней как ее естественное продол-
жение. Конечно, эти два репертуара могут распределяться и иначе: подключение
современных полуфиктивных или явных (документальных) имен к историче-
ским в состоянии повысить ранг современности, сообщить ей высокий ценност-
ный статус, внушить читателю «историчность» (= весомость) деятельности но-
сителя этого имени; отодвинуть современность в прошлое, часто с целью
деактуализации памяти о нежелательных событиях, с целью внушения неакту-
альности, исчерпанности, отсутствия последствий каких-то событий, или при-
двинуть прошлое, актуализировать его, иногда с целью оправдать явления,
имеющие уже другие причины (но это уже область «негативной поэтики», кото-
рая, что особо интересно, часто разоблачается ее же собственным оружием: по-
луфиктивные имена могут как раз воскрешать ею нежелательное — иногда вхо-
дя в состав противостоящих произведений, а всегда путем предполагаемого
такими именами-посредниками обращения к внелитературным источникам, к
комментариям; см. 4.1).
Моделирование социума выполняется в литературе созданными в произве-
дении иерархиями и отношениями между персонажами. Но иногда эти иерархии
и отношения могут быть опознаны, главным образом, именно по формам имен и
по формам обращений.
Так, например, в Последнем сроке особое положение отсутствующей Тань-
чоры (см. 4.0) выражено также и при помощи употребления ее имени. «Таньчо-
рой» ее зовет только умирающая старуха-мать, а остальные персонажи — по
сюжету ее сестры и братья — говорят о ней «Татьяна». Кроме того, всех осталь-
ных детей мать называет их полными именами (Михаил, Илья, Варвара) или
нейтральными формами (Люся, Надя), и они, в свою очередь, обращаются друг к
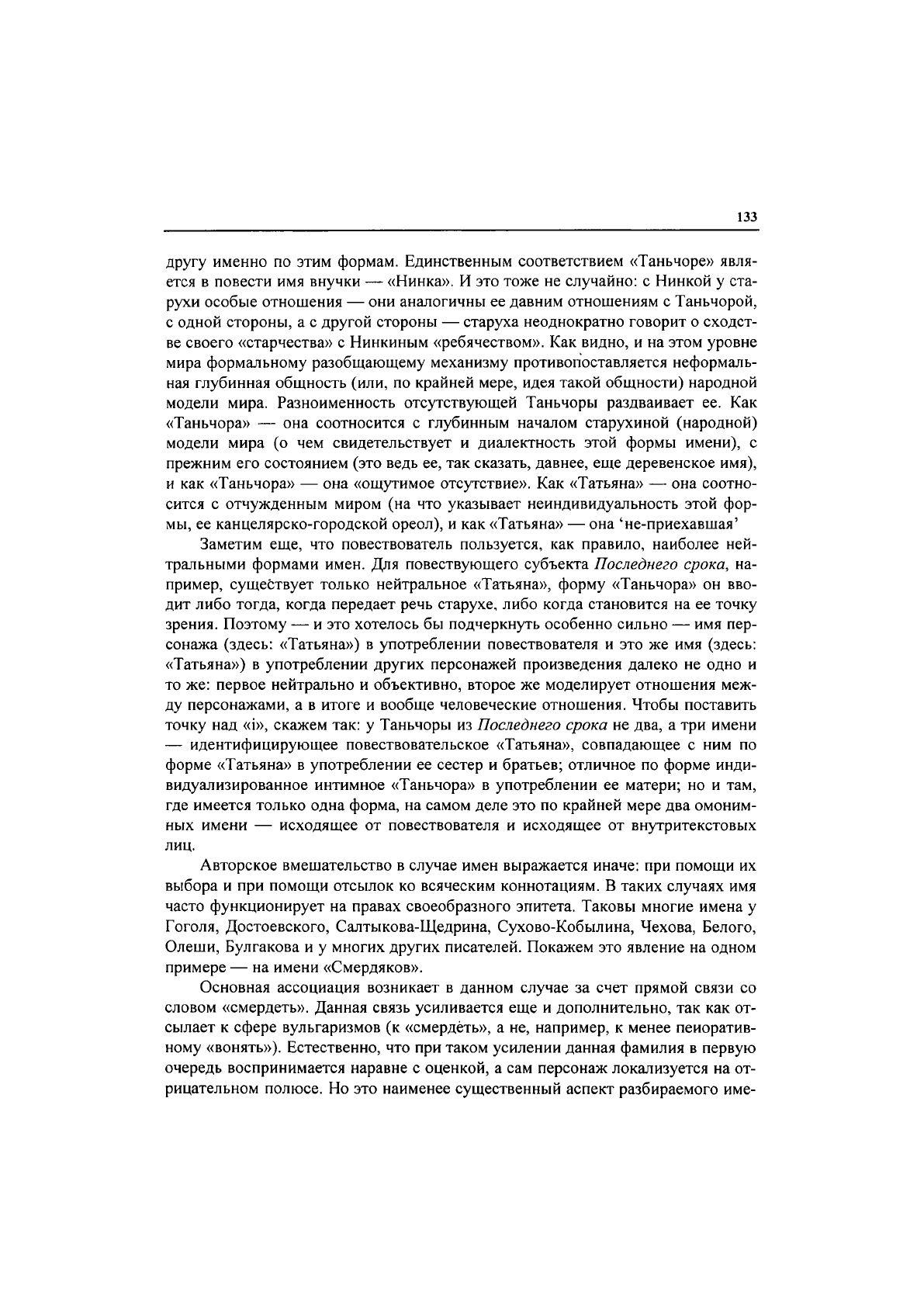
133
другу именно по этим формам. Единственным соответствием «Таньчоре» явля-
ется в повести имя внучки — «Нинка». И это тоже не случайно: с Нинкой у ста-
рухи особые отношения — они аналогичны ее давним отношениям с Таньчорой,
с одной стороны, а с другой стороны — старуха неоднократно говорит о сходст-
ве своего «старчества» с Нинкиным «ребячеством». Как видно, и на этом уровне
мира формальному разобщающему механизму противопоставляется неформаль-
ная глубинная общность (или, по крайней мере, идея такой общности) народной
модели мира. Разноименность отсутствующей Таньчоры раздваивает ее. Как
«Таньчора» — она соотносится с глубинным началом старухиной (народной)
модели мира (о чем свидетельствует и диалектность этой формы имени), с
прежним его состоянием (это ведь ее, так сказать, давнее, еще деревенское имя),
и как «Таньчора» — она «ощутимое отсутствие». Как «Татьяна» — она соотно-
сится с отчужденным миром (на что указывает неиндивидуальность этой фор-
мы, ее канцелярско-городской ореол), и как «Татьяна» — она 'не-приехавшая'
Заметим еще, что повествователь пользуется, как правило, наиболее ней-
тральными формами имен. Для повествующего субъекта Последнего срока, на-
пример, существует только нейтральное «Татьяна», форму «Таньчора» он вво-
дит либо тогда, когда передает речь старухе, либо когда становится на ее точку
зрения. Поэтому — и это хотелось бы подчеркнуть особенно сильно — имя пер-
сонажа (здесь: «Татьяна») в употреблении повествователя и это же имя (здесь:
«Татьяна») в употреблении других персонажей произведения далеко не одно и
то же: первое нейтрально и объективно, второе же моделирует отношения меж-
ду персонажами, а в итоге и вообще человеческие отношения. Чтобы поставить
точку над «і», скажем так: у Таньчоры из Последнего срока не два, а три имени
— идентифицирующее повествовательское «Татьяна», совпадающее с ним по
форме «Татьяна» в употреблении ее сестер и братьев; отличное по форме инди-
видуализированное интимное «Таньчора» в употреблении ее матери; но и там,
где имеется только одна форма, на самом деле это по крайней мере два омоним-
ных имени — исходящее от повествователя и исходящее от внутритекстовых
лиц.
Авторское вмешательство в случае имен выражается иначе: при помощи их
выбора и при помощи отсылок ко всяческим коннотациям. В таких случаях имя
часто функционирует на правах своеобразного эпитета. Таковы многие имена у
Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Сухово-Кобылина, Чехова, Белого,
Олеши, Булгакова и у многих других писателей. Покажем это явление на одном
примере — на имени «Смердяков».
Основная ассоциация возникает в данном случае за счет прямой связи со
словом «смердеть». Данная связь усиливается еще и дополнительно, так как от-
сылает к сфере вульгаризмов (к «смердеть», а не, например, к менее пейоратив-
ному «вонять»). Естественно, что при таком усилении данная фамилия в первую
очередь воспринимается наравне с оценкой, а сам персонаж локализуется на от-
рицательном полюсе. Но это наименее существенный аспект разбираемого име-
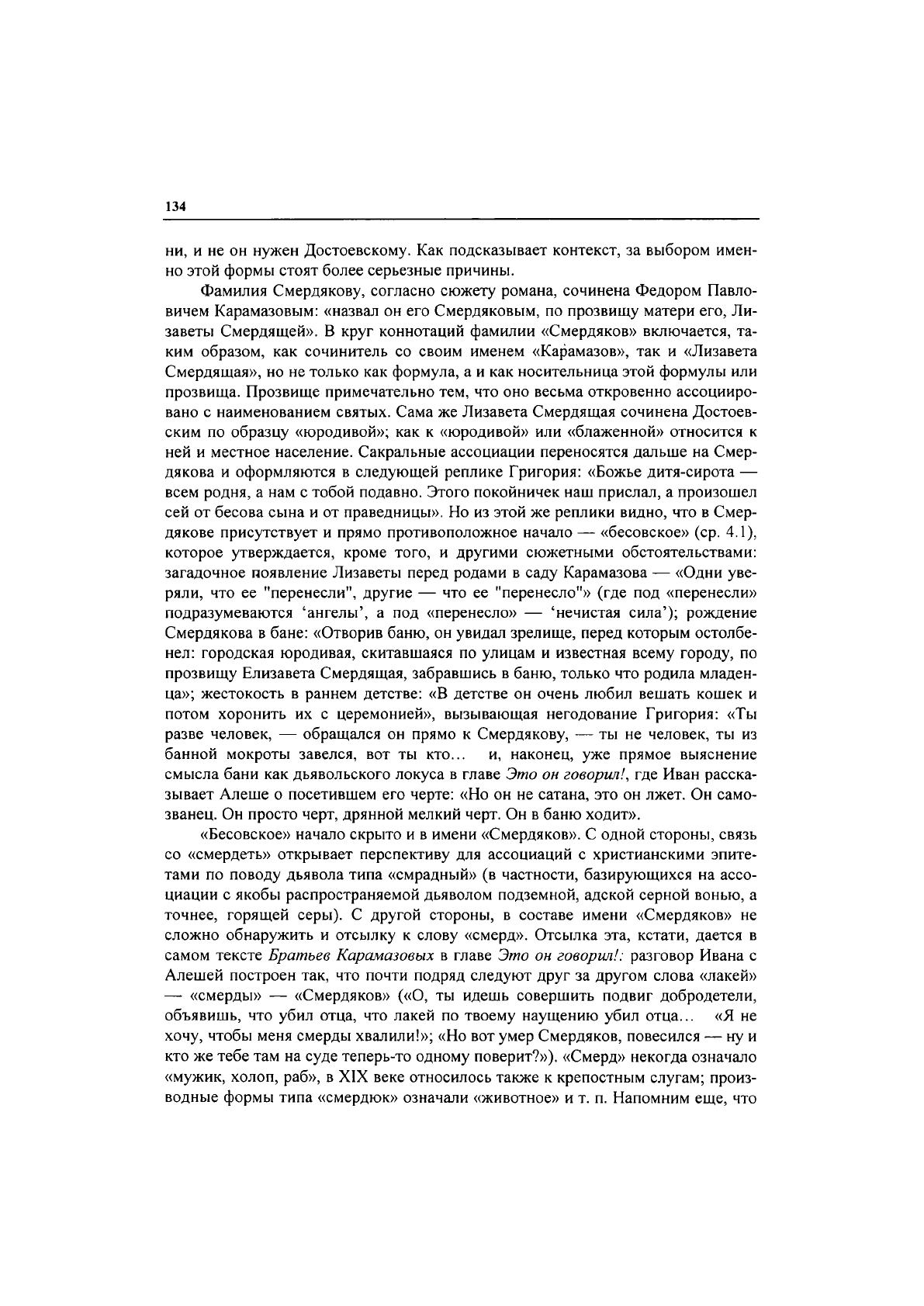
134
ни, и не он нужен Достоевскому. Как подсказывает контекст, за выбором имен-
но этой формы стоят более серьезные причины.
Фамилия Смердякову, согласно сюжету романа, сочинена Федором Павло-
вичем Карамазовым: «назвал он его Смердяковым, по прозвищу матери его, Ли-
заветы Смердящей». В круг коннотаций фамилии «Смердяков» включается, та-
ким образом, как сочинитель со своим именем «Карамазов», так и «Лизавета
Смердящая», но не только как формула, а и как носительница этой формулы или
прозвища. Прозвище примечательно тем, что оно весьма откровенно ассоцииро-
вано с наименованием святых. Сама же Лизавета Смердящая сочинена Достоев-
ским по образцу «юродивой»; как к «юродивой» или «блаженной» относится к
ней и местное население. Сакральные ассоциации переносятся дальше на Смер-
дякова и оформляются в следующей реплике Григория: «Божье дитя-сирота —
всем родня, а нам с тобой подавно. Этого покойничек наш прислал, а произошел
сей от бесова сына и от праведницы». Но из этой же реплики видно, что в Смер-
дякове присутствует и прямо противоположное начало — «бесовское» (ср. 4.1),
которое утверждается, кроме того, и другими сюжетными обстоятельствами:
загадочное появление Лизаветы перед родами в саду Карамазова — «Одни уве-
ряли, что ее "перенесли", другие — что ее "перенесло"» (где под «перенесли»
подразумеваются 'ангелы', а под «перенесло» — 'нечистая сила'); рождение
Смердякова в бане: «Отворив баню, он увидал зрелище, перед которым остолбе-
нел: городская юродивая, скитавшаяся по улицам и известная всему городу, по
прозвищу Елизавета Смердящая, забравшись в баню, только что родила младен-
ца»; жестокость в раннем детстве: «В детстве он очень любил вешать кошек и
потом хоронить их с церемонией», вызывающая негодование Григория: «Ты
разве человек, — обращался он прямо к Смердякову, — ты не человек, ты из
банной мокроты завелся, вот ты кто... и, наконец, уже прямое выяснение
смысла бани как дьявольского локуса в главе Это он говорил!, где Иван расска-
зывает Алеше о посетившем его черте: «Но он не сатана, это он лжет. Он само-
званец. Он просто черт, дрянной мелкий черт. Он в баню ходит».
«Бесовское» начало скрыто и в имени «Смердяков». С одной стороны, связь
со «смердеть» открывает перспективу для ассоциаций с христианскими эпите-
тами по поводу дьявола типа «смрадный» (в частности, базирующихся на ассо-
циации с якобы распространяемой дьяволом подземной, адской серной вонью, а
точнее, горящей серы). С другой стороны, в составе имени «Смердяков» не
сложно обнаружить и отсылку к слову «смерд». Отсылка эта, кстати, дается в
самом тексте Братьев Карамазовых в главе Это он говорил!: разговор Ивана с
Алешей построен так, что почти подряд следуют друг за другом слова «лакей»
— «смерды» — «Смердяков» («О, ты идешь совершить подвиг добродетели,
объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца... «Я не
хочу, чтобы меня смерды хвалили!»; «Но вот умер Смердяков, повесился — ну и
кто же тебе там на суде теперь-то одному поверит?»). «Смерд» некогда означало
«мужик, холоп, раб», в XIX веке относилось также к крепостным слугам; произ-
водные формы типа «смердюк» означали «животное» и т. п. Напомним еще, что
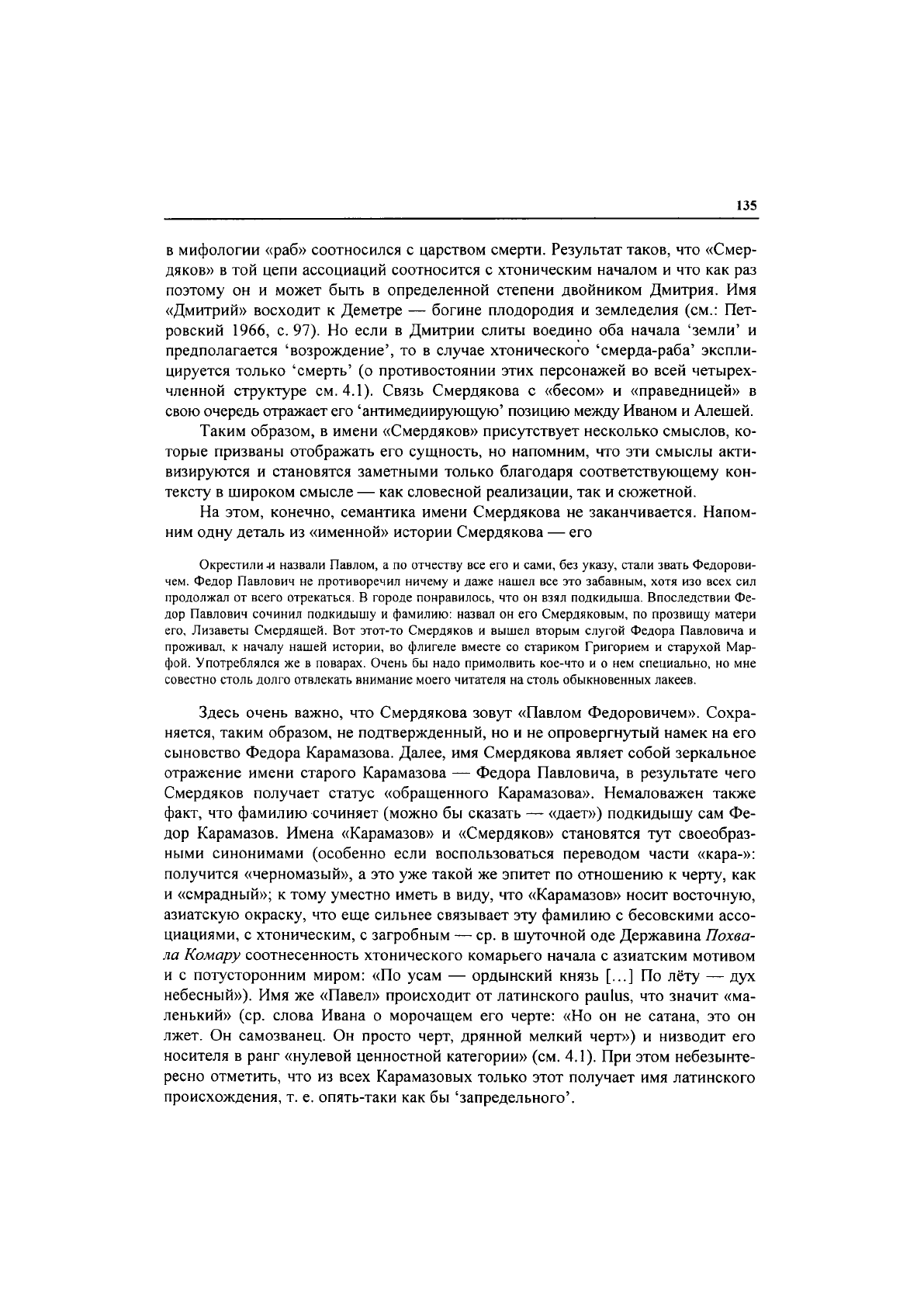
135
в мифологии «раб» соотносился с царством смерти. Результат таков, что «Смер-
дяков» в той цепи ассоциаций соотносится с хтоническим началом и что как раз
поэтому он и может быть в определенной степени двойником Дмитрия. Имя
«Дмитрий» восходит к Деметре — богине плодородия и земледелия (см.: Пет-
ровский 1966, с. 97). Но если в Дмитрии слиты воедино оба начала 'земли' и
предполагается 'возрождение', то в случае хтонического 'смерда-раба' экспли-
цируется только 'смерть' (о противостоянии этих персонажей во всей четырех-
членной структуре см. 4.1). Связь Смердякова с «бесом» и «праведницей» в
свою очередь отражает его 'антимедиирующую' позицию между Иваном и Алешей.
Таким образом, в имени «Смердяков» присутствует несколько смыслов, ко-
торые призваны отображать его сущность, но напомним, что эти смыслы акти-
визируются и становятся заметными только благодаря соответствующему кон-
тексту в широком смысле — как словесной реализации, так и сюжетной.
На этом, конечно, семантика имени Смердякова не заканчивается. Напом-
ним одну деталь из «именной» истории Смердякова — его
Окрестили-и назвали Павлом, а по отчеству все его и сами, без указу, стали звать Федорови-
чем. Федор Павлович не противоречил ничему и даже нашел все это забавным, хотя изо всех сил
продолжал от всего отрекаться. В городе понравилось, что он взял подкидыша. Впоследствии Фе-
дор Павлович сочинил подкидышу и фамилию: назвал он его Смердяковым, по прозвищу матери
его, Лизаветы Смердящей. Вот этот-то Смердяков и вышел вторым слугой Федора Павловича и
проживал, к началу нашей истории, во флигеле вместе со стариком Григорием и старухой Мар-
фой. Употреблялся же в поварах. Очень бы надо примолвить кое-что и о нем специально, но мне
совестно столь долго отвлекать внимание моего читателя на столь обыкновенных лакеев.
Здесь очень важно, что Смердякова зовут «Павлом Федоровичем». Сохра-
няется, таким образом, не подтвержденный, но и не опровергнутый намек на его
сыновство Федора Карамазова. Далее, имя Смердякова являет собой зеркальное
отражение имени старого Карамазова — Федора Павловича, в результате чего
Смердяков получает статус «обращенного Карамазова». Немаловажен также
факт, что фамилию сочиняет (можно бы сказать — «дает») подкидышу сам Фе-
дор Карамазов. Имена «Карамазов» и «Смердяков» становятся тут своеобраз-
ными синонимами (особенно если воспользоваться переводом части «кара-»:
получится «черномазый», а это уже такой же эпитет по отношению к черту, как
и «смрадный»; к тому уместно иметь в виду, что «Карамазов» носит восточную,
азиатскую окраску, что еще сильнее связывает эту фамилию с бесовскими ассо-
циациями, с хтоническим, с загробным — ср. в шуточной оде Державина Похва-
ла Комару соотнесенность хтонического комарьего начала с азиатским мотивом
и с потусторонним миром: «По усам — ордынский князь [...] По лёту — дух
небесный»). Имя же «Павел» происходит от латинского paulus, что значит «ма-
ленький» (ср. слова Ивана о морочащем его черте: «Но он не сатана, это он
лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной мелкий черт») и низводит его
носителя в ранг «нулевой ценностной категории» (см. 4.1). При этом небезынте-
ресно отметить, что из всех Карамазовых только этот получает имя латинского
происхождения, т. е. опять-таки как бы 'запредельного'.
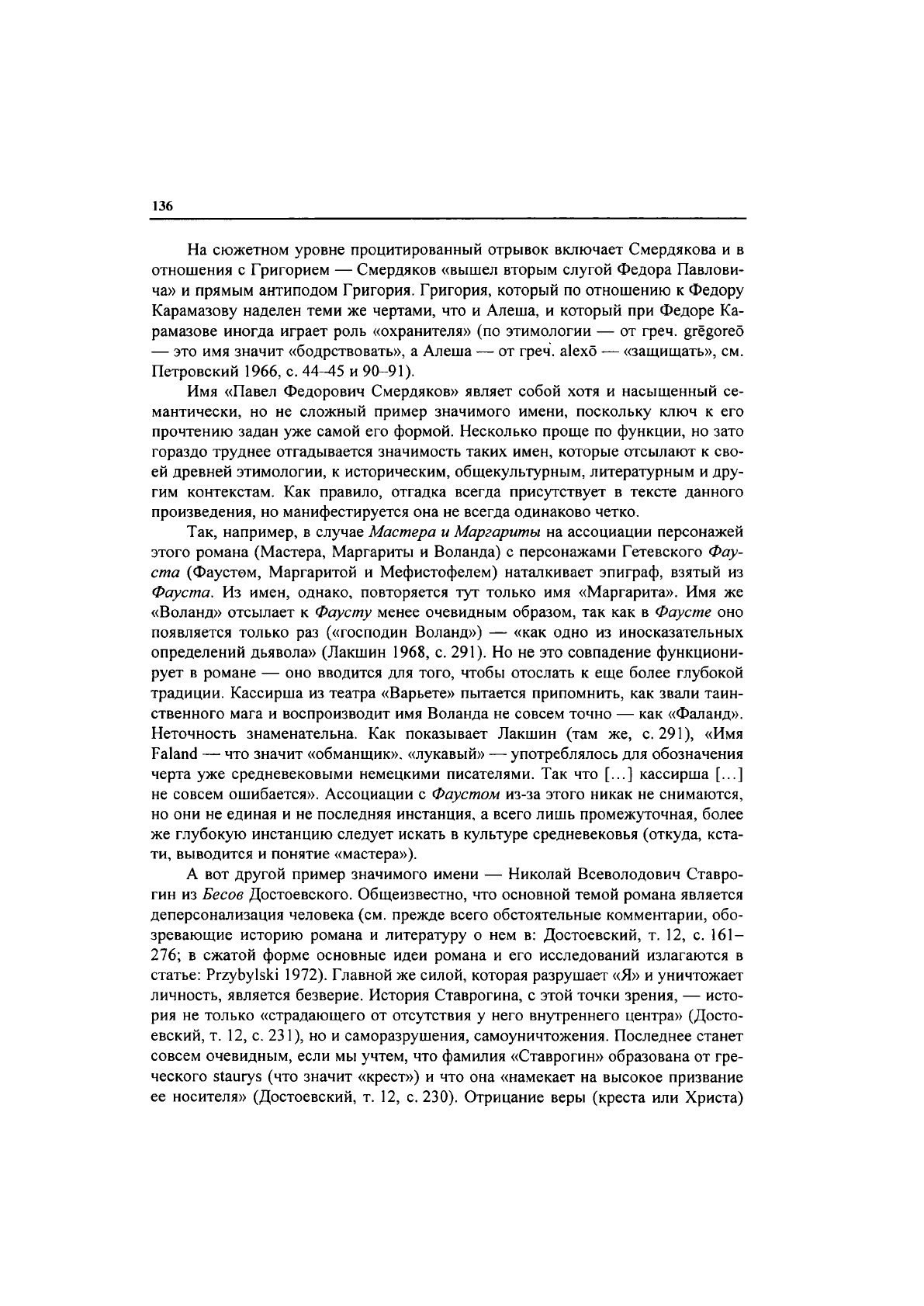
136
На сюжетном уровне процитированный отрывок включает Смердякова и в
отношения с Григорием — Смердяков «вышел вторым слугой Федора Павлови-
ча» и прямым антиподом Григория. Григория, который по отношению к Федору
Карамазову наделен теми же чертами, что и Алеша, и который при Федоре Ка-
рамазове иногда играет роль «охранителя» (по этимологии — от греч. gregoreö
— это имя значит «бодрствовать», а Алеша — от греч. alexö — «защищать», см.
Петровский 1966, с. 44-45 и 90-91).
Имя «Павел Федорович Смердяков» являет собой хотя и насыщенный се-
мантически, но не сложный пример значимого имени, поскольку ключ к его
прочтению задан уже самой его формой. Несколько проще по функции, но зато
гораздо труднее отгадывается значимость таких имен, которые отсылают к сво-
ей древней этимологии, к историческим, общекультурным, литературным и дру-
гим контекстам. Как правило, отгадка всегда присутствует в тексте данного
произведения, но манифестируется она не всегда одинаково четко.
Так, например, в случае Мастера и Маргариты на ассоциации персонажей
этого романа (Мастера, Маргариты и Воланда) с персонажами Гетевского Фау-
ста (Фаустом, Маргаритой и Мефистофелем) наталкивает эпиграф, взятый из
Фауста. Из имен, однако, повторяется тут только имя «Маргарита». Имя же
«Воланд» отсылает к Фаусту менее очевидным образом, так как в Фаусте оно
появляется только раз («господин Воланд») — «как одно из иносказательных
определений дьявола» (Лакшин 1968, с. 291). Но не это совпадение функциони-
рует в романе — оно вводится для того, чтобы отослать к еще более глубокой
традиции. Кассирша из театра «Варьете» пытается припомнить, как звали таин-
ственного мага и воспроизводит имя Воланда не совсем точно — как «Фаланд».
Неточность знаменательна. Как показывает Лакшин (там же, с. 291), «Имя
Faland — что значит «обманщик», «лукавый» — употреблялось для обозначения
черта уже средневековыми немецкими писателями. Так что [...] кассирша [...]
не совсем ошибается». Ассоциации с Фаустом из-за этого никак не снимаются,
но они не единая и не последняя инстанция, а всего лишь промежуточная, более
же глубокую инстанцию следует искать в культуре средневековья (откуда, кста-
ти, выводится и понятие «мастера»).
А вот другой пример значимого имени — Николай Всеволодович Ставро-
гин из Бесов Достоевского. Общеизвестно, что основной темой романа является
деперсонализация человека (см. прежде всего обстоятельные комментарии, обо-
зревающие историю романа и литературу о нем в: Достоевский, т. 12, с. 161-
276; в сжатой форме основные идеи романа и его исследований излагаются в
статье: Przybylski 1972). Главной же силой, которая разрушает «Я» и уничтожает
личность, является безверие. История Ставрогина, с этой точки зрения, — исто-
рия не только «страдающего от отсутствия у него внутреннего центра» (Досто-
евский, т. 12, с. 231), но и саморазрушения, самоуничтожения. Последнее станет
совсем очевидным, если мы учтем, что фамилия «Ставрогин» образована от гре-
ческого staurys (что значит «крест») и что она «намекает на высокое призвание
ее носителя» (Достоевский, т. 12, с. 230). Отрицание веры (креста или Христа)
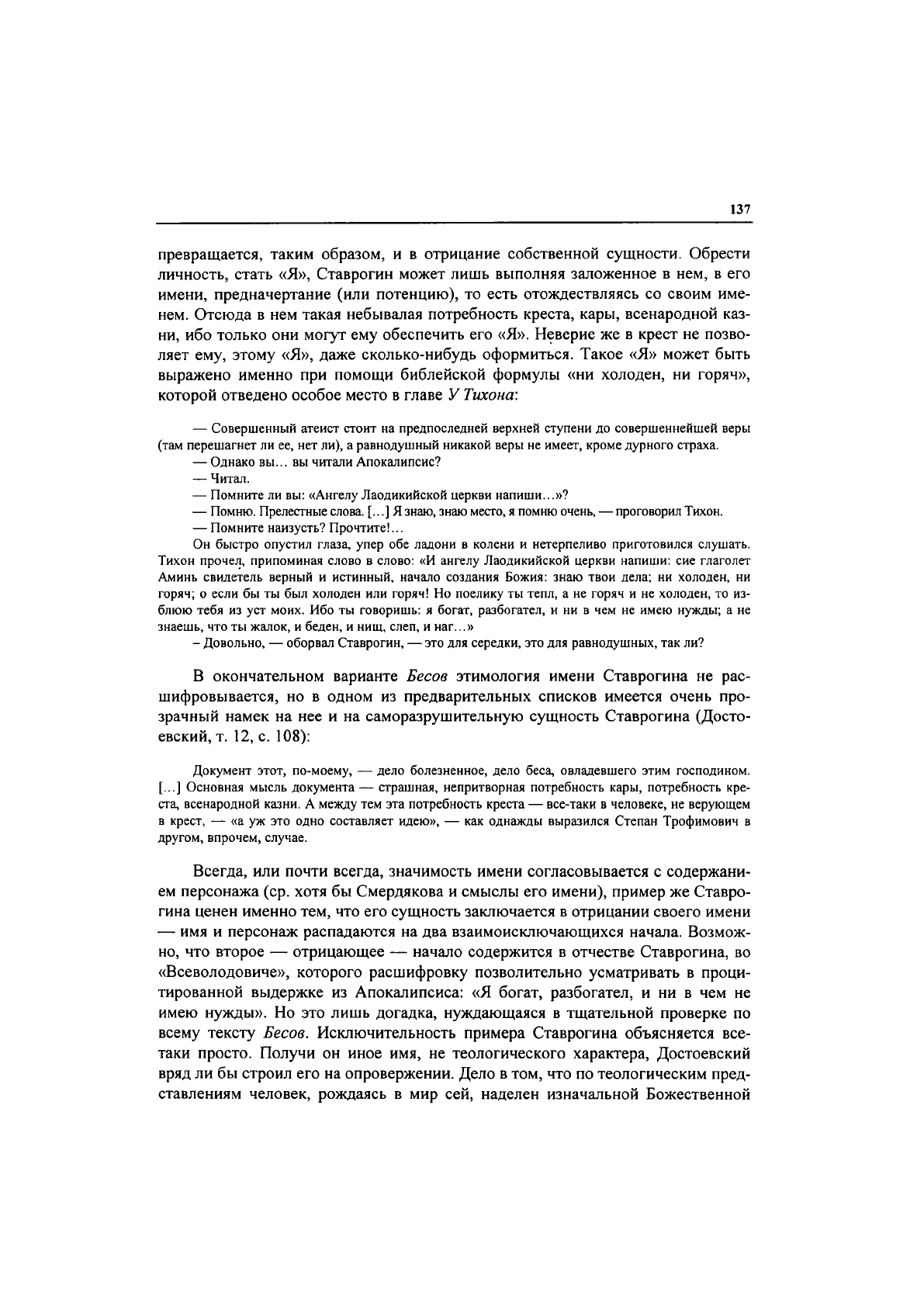
137
превращается, таким образом, и в отрицание собственной сущности. Обрести
личность, стать «Я», Ставрогин может лишь выполняя заложенное в нем, в его
имени, предначертание (или потенцию), то есть отождествляясь со своим име-
нем. Отсюда в нем такая небывалая потребность креста, кары, всенародной каз-
ни, ибо только они могут ему обеспечить его «Я». Неверие же в крест не позво-
ляет ему, этому «Я», даже сколько-нибудь оформиться. Такое «Я» может быть
выражено именно при помощи библейской формулы «ни холоден, ни горяч»,
которой отведено особое место в главе У Тихона:
— Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры
(там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха.
— Однако вы... вы читали Апокалипсис?
— Читал.
— Помните ли вы: «Ангелу Лаодикийской церкви напиши...»?
— Помню. Прелестные слова. [...] Я знаю, знаю место, я помню очень, — проговорил Тихон.
— Помните наизусть? Прочтите!...
Он быстро опустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать.
Тихон прочел, припоминая слово в слово: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет
Аминь свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни
горяч; о если бы ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды; а не
знаешь, что ты жалок, и беден, и нищ, слеп, и наг...»
—
Довольно, — оборвал Ставрогин, — это для середки, это для равнодушных, так ли?
В окончательном варианте Бесов этимология имени Ставрогина не рас-
шифровывается, но в одном из предварительных списков имеется очень про-
зрачный намек на нее и на саморазрушительную сущность Ставрогина (Досто-
евский, т. 12, с. 108):
Документ этот, по-моему, — дело болезненное, дело беса, овладевшего этим господином.
[...] Основная мысль документа — страшная, непритворная потребность кары, потребность кре-
ста, всенародной казни. А между тем эта потребность креста — все-таки в человеке, не верующем
в крест, — «а уж это одно составляет идею», — как однажды выразился Степан Трофимович в
другом, впрочем, случае.
Всегда, или почти всегда, значимость имени согласовывается с содержани-
ем персонажа (ср. хотя бы Смердякова и смыслы его имени), пример же Ставро-
гина ценен именно тем, что его сущность заключается в отрицании своего имени
— имя и персонаж распадаются на два взаимоисключающихся начала. Возмож-
но, что второе — отрицающее — начало содержится в отчестве Ставрогина, во
«Всеволодовиче», которого расшифровку позволительно усматривать в проци-
тированной выдержке из Апокалипсиса: «Я богат, разбогател, и ни в чем не
имею нужды». Но это лишь догадка, нуждающаяся в тщательной проверке по
всему тексту Бесов. Исключительность примера Ставрогина объясняется все-
таки просто. Получи он иное имя, не теологического характера, Достоевский
вряд ли бы строил его на опровержении. Дело в том, что по теологическим пред-
ставлениям человек, рождаясь в мир сей, наделен изначальной Божественной
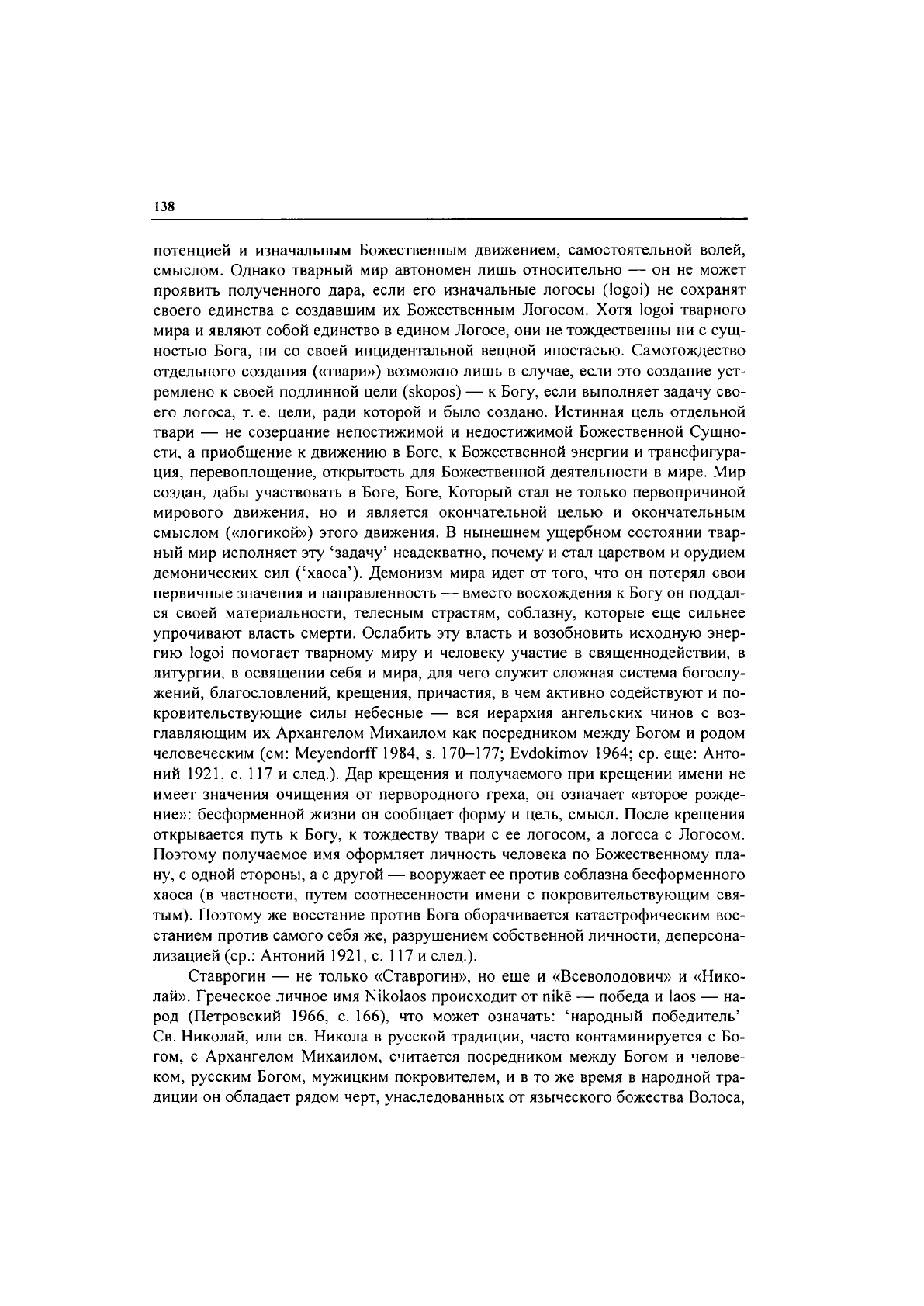
138
потенцией и изначальным Божественным движением, самостоятельной волей,
смыслом. Однако тварный мир автономен лишь относительно — он не может
проявить полученного дара, если его изначальные логосы (logoi) не сохранят
своего единства с создавшим их Божественным Логосом. Хотя logoi тварного
мира и являют собой единство в едином Логосе, они не тождественны ни с сущ-
ностью Бога, ни со своей инцидентальной вещной ипостасью. Самотождество
отдельного создания («твари») возможно лишь в случае, если это создание уст-
ремлено к своей подлинной цели (skopos) — к Богу, если выполняет задачу сво-
его логоса, т. е. цели, ради которой и было создано. Истинная цель отдельной
твари — не созерцание непостижимой и недостижимой Божественной Сущно-
сти, а приобщение к движению в Боге, к Божественной энергии и трансфигура-
ция, перевоплощение, открытость для Божественной деятельности в мире. Мир
создан, дабы участвовать в Боге, Боге, Который стал не только первопричиной
мирового движения, но и является окончательной целью и окончательным
смыслом («логикой») этого движения. В нынешнем ущербном состоянии твар-
ный мир исполняет эту 'задачу' неадекватно, почему и стал царством и орудием
демонических сил ('хаоса'). Демонизм мира идет от того, что он потерял свои
первичные значения и направленность — вместо восхождения к Богу он поддал-
ся своей материальности, телесным страстям, соблазну, которые еще сильнее
упрочивают власть смерти. Ослабить эту власть и возобновить исходную энер-
гию logoi помогает тварному миру и человеку участие в священнодействии, в
литургии, в освящении себя и мира, для чего служит сложная система богослу-
жений, благословлений, крещения, причастия, в чем активно содействуют и по-
кровительствующие силы небесные — вся иерархия ангельских чинов с воз-
главляющим их Архангелом Михаилом как посредником между Богом и родом
человеческим (см: Meyendorff 1984, s. 170-177; Evdokimov 1964; ср. еще: Анто-
ний 1921, с. 117 и след.). Дар крещения и получаемого при крещении имени не
имеет значения очищения от первородного греха, он означает «второе рожде-
ние»: бесформенной жизни он сообщает форму и цель, смысл. После крещения
открывается путь к Богу, к тождеству твари с ее логосом, а логоса с Логосом.
Поэтому получаемое имя оформляет личность человека по Божественному пла-
ну, с одной стороны, а с другой — вооружает ее против соблазна бесформенного
хаоса (в частности, путем соотнесенности имени с покровительствующим свя-
тым). Поэтому же восстание против Бога оборачивается катастрофическим вос-
станием против самого себя же, разрушением собственной личности, деперсона-
лизацией (ср.: Антоний 1921, с. 117 и след.).
Ставрогин — не только «Ставрогин», но еще и «Всеволодович» и «Нико-
лай». Греческое личное имя Nikolaos происходит от пікё — победа и laos — на-
род (Петровский 1966, с. 166), что может означать: 'народный победитель'
Св. Николай, или св. Никола в русской традиции, часто контаминируется с Бо-
гом, с Архангелом Михаилом, считается посредником между Богом и челове-
ком, русским Богом, мужицким покровителем, и в то же время в народной тра-
диции он обладает рядом черт, унаследованных от языческого божества Волоса,
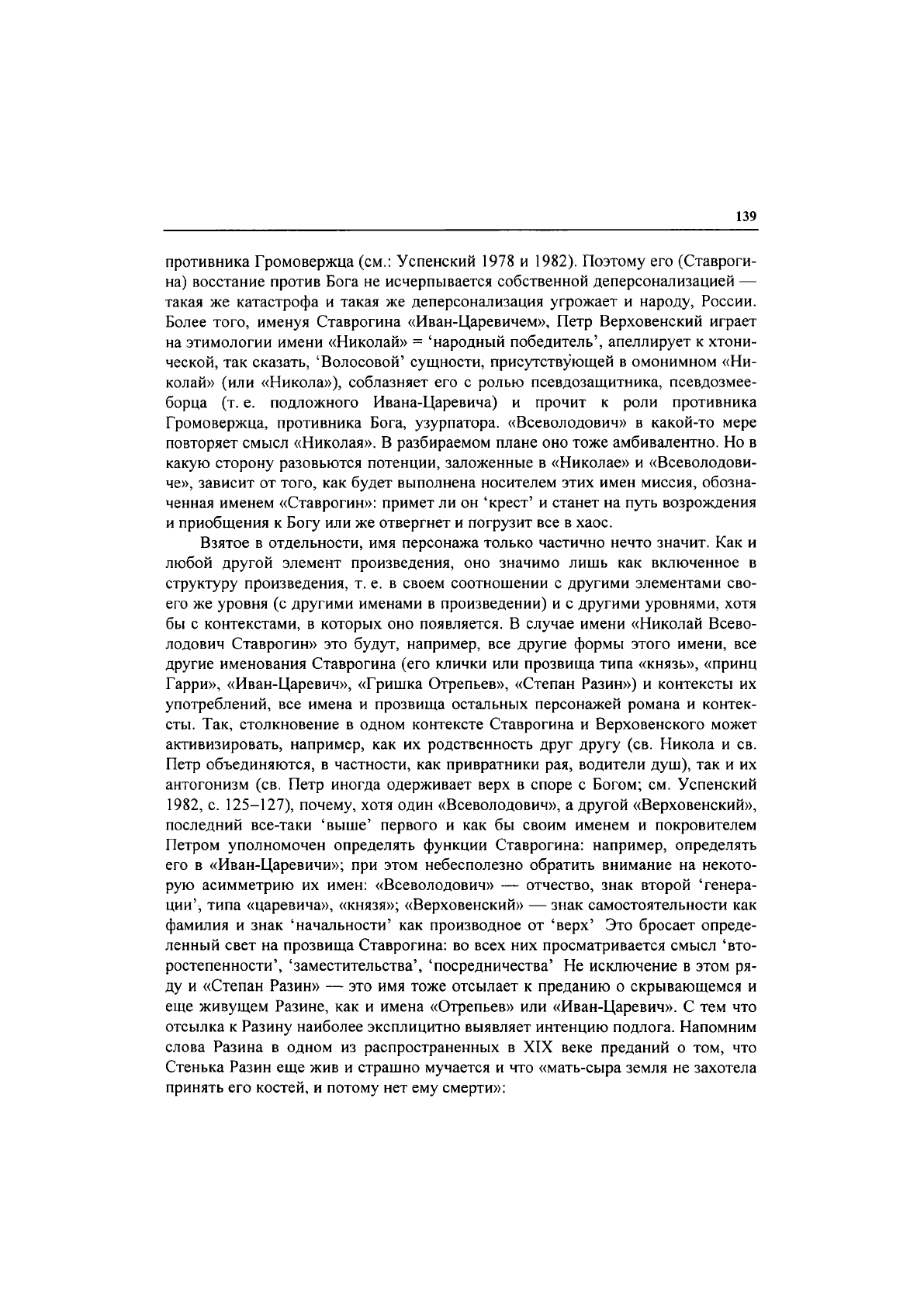
139
противника Громовержца (см.: Успенский 1978 и 1982). Поэтому его (Ставроги-
на) восстание против Бога не исчерпывается собственной деперсонализацией —
такая же катастрофа и такая же деперсонализация угрожает и народу, России.
Более того, именуя Ставрогина «Иван-Царевичем», Петр Верховенский играет
на этимологии имени «Николай» = 'народный победитель', апеллирует к хтони-
ческой, так сказать, 'Волосовой' сущности, присутствующей в омонимном «Ни-
колай» (или «Никола»), соблазняет его с ролью псевдозащитника, псевдозмее-
борца (т. е. подложного Ивана-Царевича) и прочит к роли противника
Громовержца, противника Бога, узурпатора. «Всеволодович» в какой-то мере
повторяет смысл «Николая». В разбираемом плане оно тоже амбивалентно. Но в
какую сторону разовьются потенции, заложенные в «Николае» и «Всеволодови-
че», зависит от того, как будет выполнена носителем этих имен миссия, обозна-
ченная именем «Ставрогин»: примет ли он 'крест' и станет на путь возрождения
и приобщения к Богу или же отвергнет и погрузит все в хаос.
Взятое в отдельности, имя персонажа только частично нечто значит. Как и
любой другой элемент произведения, оно значимо лишь как включенное в
структуру произведения, т. е. в своем соотношении с другими элементами сво-
его же уровня (с другими именами в произведении) и с другими уровнями, хотя
бы с контекстами, в которых оно появляется. В случае имени «Николай Всево-
лодович Ставрогин» это будут, например, все другие формы этого имени, все
другие именования Ставрогина (его клички или прозвища типа «князь», «принц
Гарри», «Иван-Царевич», «Гришка Отрепьев», «Степан Разин») и контексты их
употреблений, все имена и прозвища остальных персонажей романа и контек-
сты. Так, столкновение в одном контексте Ставрогина и Верховенского может
активизировать, например, как их родственность друг другу (св. Никола и св.
Петр объединяются, в частности, как привратники рая, водители душ), так и их
антогонизм (св. Петр иногда одерживает верх в споре с Богом; см. Успенский
1982, с. 125-127), почему, хотя один «Всеволодович», а другой «Верховенский»,
последний все-таки 'выше' первого и как бы своим именем и покровителем
Петром уполномочен определять функции Ставрогина: например, определять
его в «Иван-Царевичи»; при этом небесполезно обратить внимание на некото-
рую асимметрию их имен: «Всеволодович» — отчество, знак второй 'генера-
ции', типа «царевича», «князя»; «Верховенский» — знак самостоятельности как
фамилия и знак 'начальности' как производное от 'верх' Это бросает опреде-
ленный свет на прозвища Ставрогина: во всех них просматривается смысл 'вто-
ростепенности', 'заместительства', 'посредничества' Не исключение в этом ря-
ду и «Степан Разин» — это имя тоже отсылает к преданию о скрывающемся и
еще живущем Разине, как и имена «Отрепьев» или «Иван-Царевич». С тем что
отсылка к Разину наиболее эксплицитно выявляет интенцию подлога. Напомним
слова Разина в одном из распространенных в XIX веке преданий о том, что
Стенька Разин еще жив и страшно мучается и что «мать-сыра земля не захотела
принять его костей, и потому нет ему смерти»:
