Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

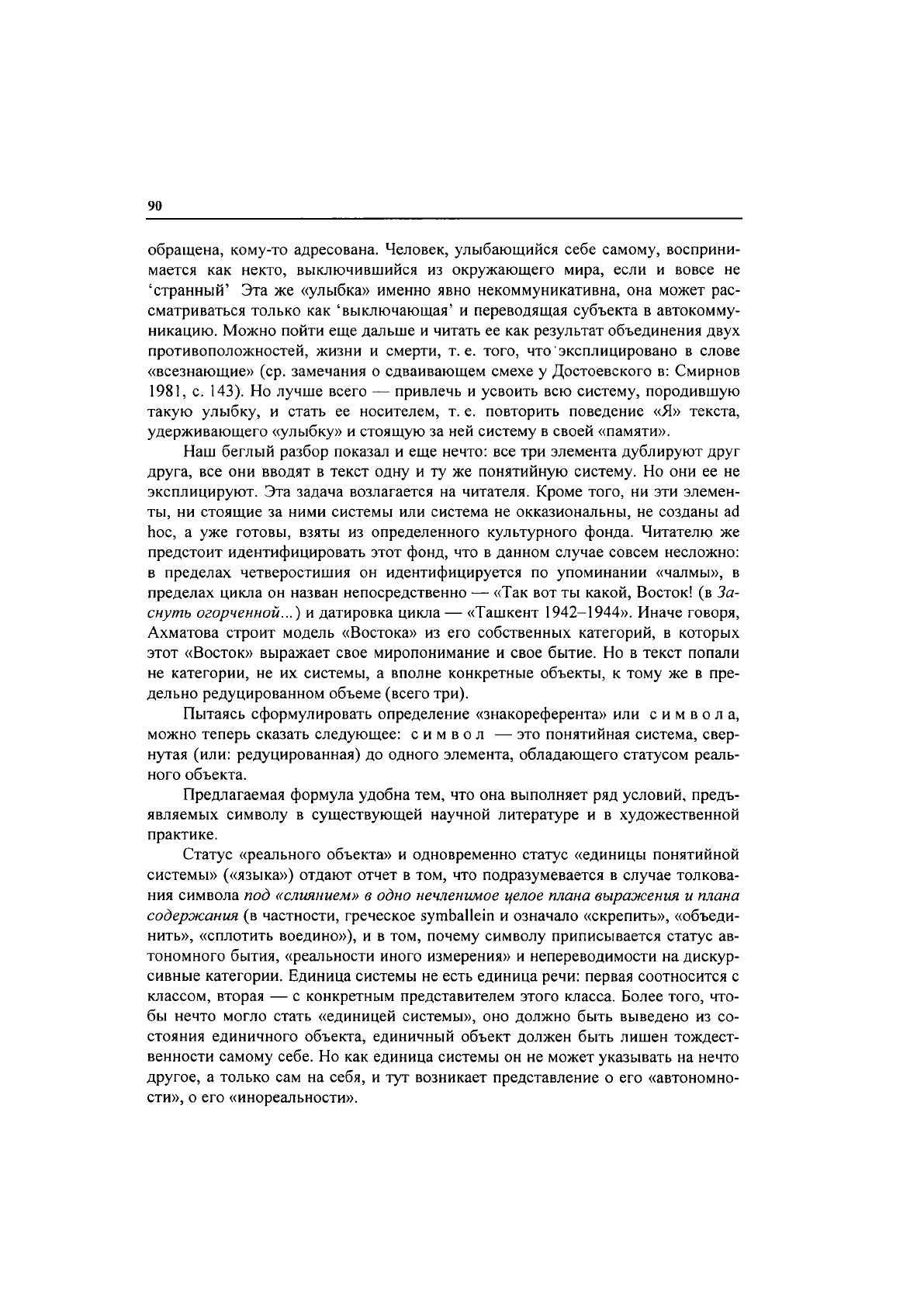
90
обращена, кому-то адресована. Человек, улыбающийся себе самому, восприни-
мается как некто, выключившийся из окружающего мира, если и вовсе не
'странный' Эта же «улыбка» именно явно некоммуникативна, она может рас-
сматриваться только как 'выключающая' и переводящая субъекта в автокомму-
никацию. Можно пойти еще дальше и читать ее как результат объединения двух
противоположностей, жизни и смерти, т.е. того, что'эксплицировано в слове
«всезнающие» (ср. замечания о сдваивающем смехе у Достоевского в: Смирнов
1981, с. 143). Но лучше всего — привлечь и усвоить всю систему, породившую
такую улыбку, и стать ее носителем, т. е. повторить поведение «Я» текста,
удерживающего «улыбку» и стоящую за ней систему в своей «памяти».
Наш беглый разбор показал и еще нечто: все три элемента дублируют друг
друга, все они вводят в текст одну и ту же понятийную систему. Но они ее не
эксплицируют. Эта задача возлагается на читателя. Кроме того, ни эти элемен-
ты, ни стоящие за ними системы или система не окказиональны, не созданы ad
hoc, а уже готовы, взяты из определенного культурного фонда. Читателю же
предстоит идентифицировать этот фонд, что в данном случае совсем несложно:
в пределах четверостишия он идентифицируется по упоминании «чалмы», в
пределах цикла он назван непосредственно — «Так вот ты какой, Восток! (в За-
снуть огорченной...) и датировка цикла — «Ташкент 1942-1944». Иначе говоря,
Ахматова строит модель «Востока» из его собственных категорий, в которых
этот «Восток» выражает свое миропонимание и свое бытие. Но в текст попали
не категории, не их системы, а вполне конкретные объекты, к тому же в пре-
дельно редуцированном объеме (всего три).
Пытаясь сформулировать определение «знакореферента» или символа,
можно теперь сказать следующее: символ — это понятийная система, свер-
нутая (или: редуцированная) до одного элемента, обладающего статусом реаль-
ного объекта.
Предлагаемая формула удобна тем, что она выполняет ряд условий, предъ-
являемых символу в существующей научной литературе и в художественной
практике.
Статус «реального объекта» и одновременно статус «единицы понятийной
системы» («языка») отдают отчет в том, что подразумевается в случае толкова-
ния символа под «слиянием» в одно нечленимое целое плана выражения и плана
содержания (в частности, греческое symballein и означало «скрепить», «объеди-
нить», «сплотить воедино»), и в том, почему символу приписывается статус ав-
тономного бытия, «реальности иного измерения» и непереводимости на дискур-
сивные категории. Единица системы не есть единица речи: первая соотносится с
классом, вторая — с конкретным представителем этого класса. Более того, что-
бы нечто могло стать «единицей системы», оно должно быть выведено из со-
стояния единичного объекта, единичный объект должен быть лишен тождест-
венности самому себе. Но как единица системы он не может указывать на нечто
другое, а только сам на себя, и тут возникает представление о его «автономно-
сти», о его «инореальности».
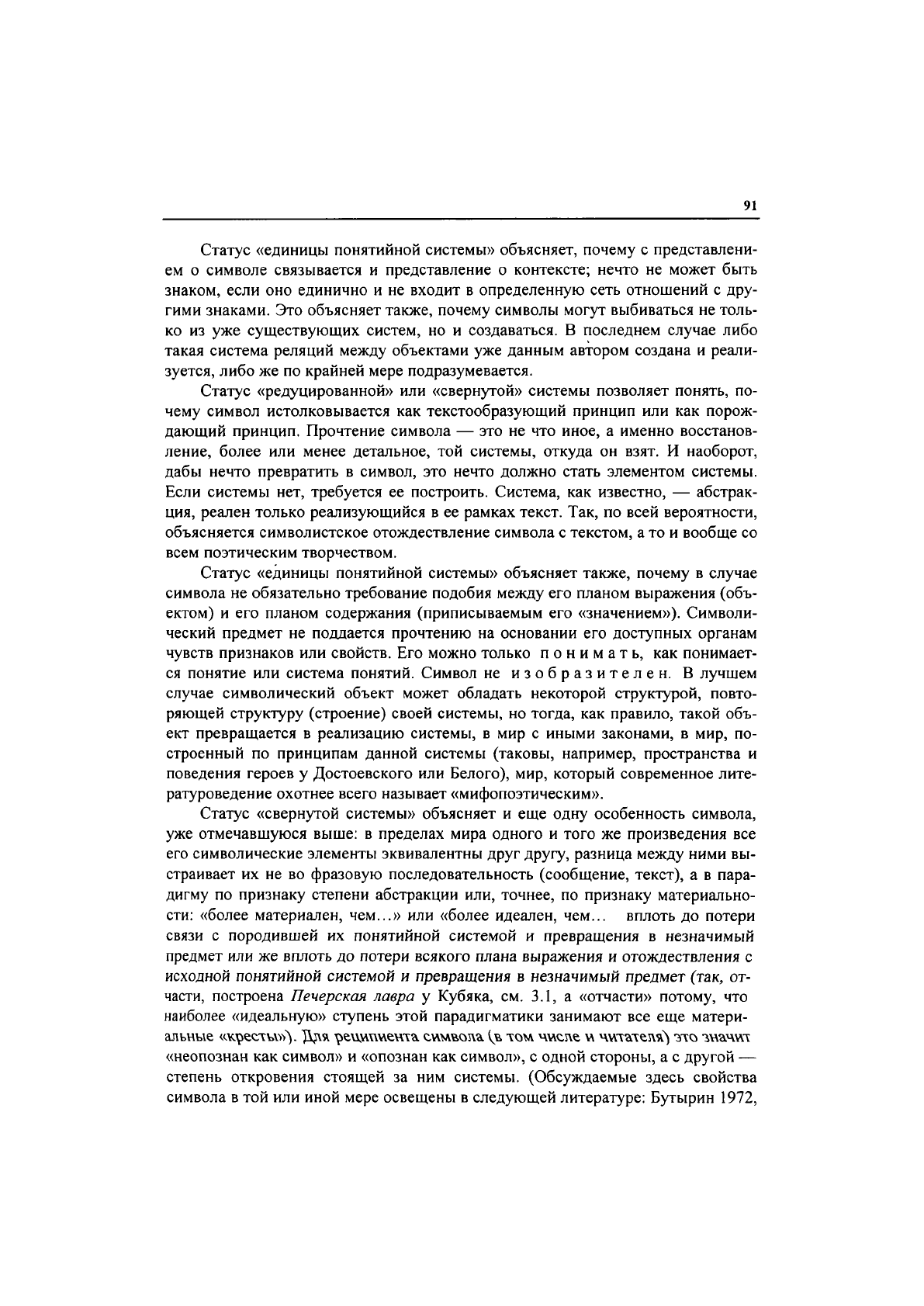
91
Статус «единицы понятийной системы» объясняет, почему с представлени-
ем о символе связывается и представление о контексте; нечто не может быть
знаком, если оно единично и не входит в определенную сеть отношений с дру-
гими знаками. Это объясняет также, почему символы могут выбиваться не толь-
ко из уже существующих систем, но и создаваться. В последнем случае либо
такая система реляций между объектами уже данным автором создана и реали-
зуется, либо же по крайней мере подразумевается.
Статус «редуцированной» или «свернутой» системы позволяет понять, по-
чему символ истолковывается как текстообразующий принцип или как порож-
дающий принцип. Прочтение символа — это не что иное, а именно восстанов-
ление, более или менее детальное, той системы, откуда он взят. И наоборот,
дабы нечто превратить в символ, это нечто должно стать элементом системы.
Если системы нет, требуется ее построить. Система, как известно, — абстрак-
ция, реален только реализующийся в ее рамках текст. Так, по всей вероятности,
объясняется символистское отождествление символа с текстом, а то и вообще со
всем поэтическим творчеством.
Статус «единицы понятийной системы» объясняет также, почему в случае
символа не обязательно требование подобия между его планом выражения (объ-
ектом) и его планом содержания (приписываемым его «значением»). Символи-
ческий предмет не поддается прочтению на основании его доступных органам
чувств признаков или свойств. Его можно только понимать, как понимает-
ся понятие или система понятий. Символ не изобразителен. В лучшем
случае символический объект может обладать некоторой структурой, повто-
ряющей структуру (строение) своей системы, но тогда, как правило, такой объ-
ект превращается в реализацию системы, в мир с иными законами, в мир, по-
строенный по принципам данной системы (таковы, например, пространства и
поведения героев у Достоевского или Белого), мир, который современное лите-
ратуроведение охотнее всего называет «мифопоэтическим».
Статус «свернутой системы» объясняет и еще одну особенность символа,
уже отмечавшуюся выше: в пределах мира одного и того же произведения все
его символические элементы эквивалентны друг другу, разница между ними вы-
страивает их не во фразовую последовательность (сообщение, текст), а в пара-
дигму по признаку степени абстракции или, точнее, по признаку материально-
сти: «более материален, чем...» или «более идеален, чем... вплоть до потери
связи с породившей их понятийной системой и превращения в незначимый
предмет или же вплоть до потери всякого плана выражения и отождествления с
исходной понятийной системой и превращения в незначимый предмет
(так,
от-
части, построена Печерская лавра у Кубяка, см. 3.1, а «отчасти» потому, что
наиболее «идеальную» ступень этой парадигматики занимают все еще матери-
альные «крестъ\»у peuvrnwema сѵилъота. ^ той чѵѵсте
w
чѵпътепя^ это ^нанш
«неопознан как символ» и «опознан как символ», с одной стороны, а с другой —
степень откровения стоящей за ним системы. (Обсуждаемые здесь свойства
символа в той или иной мере освещены в следующей литературе: Бутырин 1972,
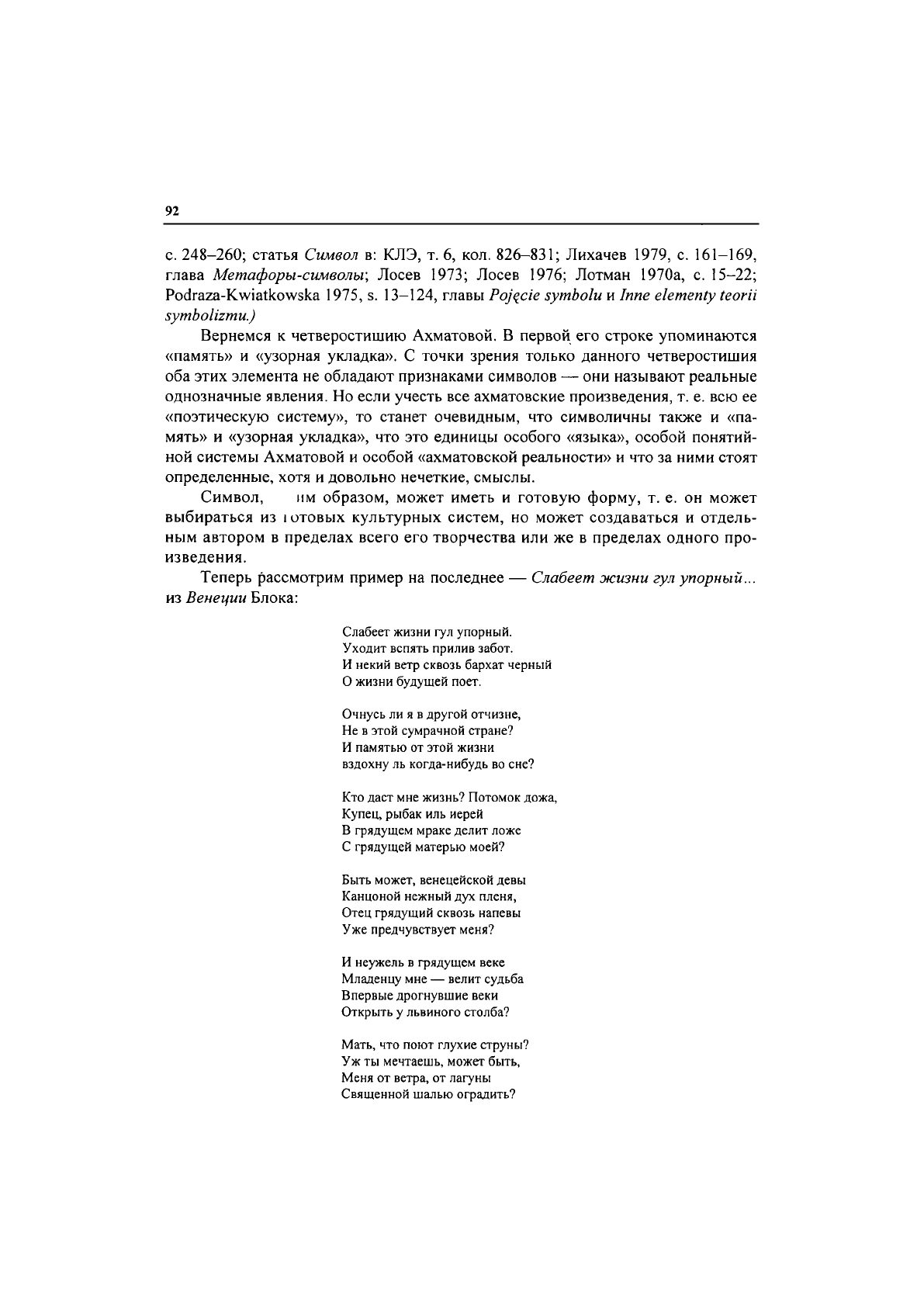
92
с. 248-260; статья Символ в: КЛЭ, т. 6, кол. 826-831; Лихачев 1979, с. 161-169,
глава Метафоры-символы; Лосев 1973; Лосев 1976; Лотман 1970а, с. 15-22;
Podraza-Kwiatkowska 1975, s. 13-124, главы Pojęcie symbolu и Inne elementy teorii
symbolizmu.)
Вернемся к четверостишию Ахматовой. В первой его строке упоминаются
«память» и «узорная укладка». С точки зрения только данного четверостишия
оба этих элемента не обладают признаками символов — они называют реальные
однозначные явления. Но если учесть все ахматовские произведения, т. е. всю ее
«поэтическую систему», то станет очевидным, что символичны также и «па-
мять» и «узорная укладка», что это единицы особого «языка», особой понятий-
ной системы Ахматовой и особой «ахматовской реальности» и что за ними стоят
определенные, хотя и довольно нечеткие, смыслы.
Символ, им образом, может иметь и готовую форму, т. е. он может
выбираться из і отовых культурных систем, но может создаваться и отдель-
ным автором в пределах всего его творчества или же в пределах одного про-
изведения.
Теперь рассмотрим пример на последнее — Слабеет жизни гул упорный...
из Венеции Блока:
Слабеет жизни гул упорный.
Уходит вспять прилив забот.
И некий ветр сквозь бархат черный
О жизни будущей поет.
Очнусь ли я в другой отчизне,
Не в этой сумрачной стране?
И памятью от этой жизни
вздохну ль когда-нибудь во сне?
Кто даст мне жизнь? Потомок дожа,
Купец, рыбак иль иерей
В грядущем мраке делит ложе
С грядущей матерью моей?
Быть может, венецейской девы
Канцоной нежный дух пленя,
Отец грядущий сквозь напевы
Уже предчувствует меня?
И неужель в грядущем веке
Младенцу мне — велит судьба
Впервые дрогнувшие веки
Открыть у львиного столба?
Мать, что поют глухие струны?
Уж ты мечтаешь, может быть,
Меня от ветра, от лагуны
Священной шалью оградить?
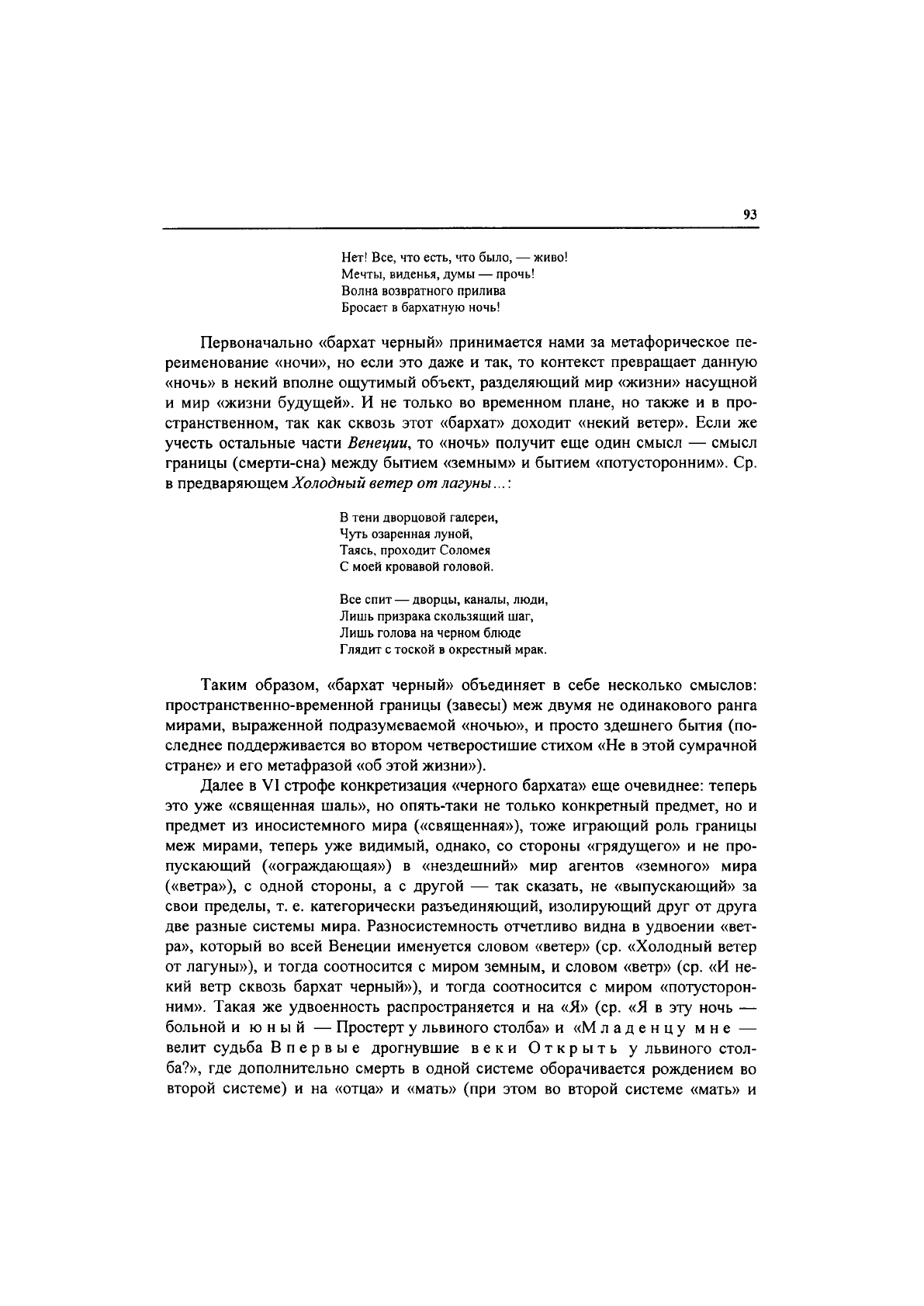
93
Нет! Все, что есть, что было, — живо!
Мечты, виденья, думы — прочь!
Волна возвратного прилива
Бросает в бархатную ночь!
Первоначально «бархат черный» принимается нами за метафорическое пе-
реименование «ночи», но если это даже и так, то контекст превращает данную
«ночь» в некий вполне ощутимый объект, разделяющий мир «жизни» насущной
и мир «жизни будущей». И не только во временном плане, но также и в про-
странственном, так как сквозь этот «бархат» доходит «некий ветер». Если же
учесть остальные части Венеции, то «ночь» получит еще один смысл — смысл
границы (смерти-сна) между бытием «земным» и бытием «потусторонним». Ср.
в предваряющем Холодный ветер от лагуны...
В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Соломея
С моей кровавой головой.
Все спит — дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользящий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак.
Таким образом, «бархат черный» объединяет в себе несколько смыслов:
пространственно-временной границы (завесы) меж двумя не одинакового ранга
мирами, выраженной подразумеваемой «ночью», и просто здешнего бытия (по-
следнее поддерживается во втором четверостишие стихом «Не в этой сумрачной
стране» и его метафразой «об этой жизни»).
Далее в VI строфе конкретизация «черного бархата» еще очевиднее: теперь
это уже «священная шаль», но опять-таки не только конкретный предмет, но и
предмет из иносистемного мира («священная»), тоже играющий роль границы
меж мирами, теперь уже видимый, однако, со стороны «грядущего» и не про-
пускающий («ограждающая») в «нездешний» мир агентов «земного» мира
(«ветра»), с одной стороны, а с другой — так сказать, не «выпускающий» за
свои пределы, т. е. категорически разъединяющий, изолирующий друг от друга
две разные системы мира. Разносистемность отчетливо видна в удвоении «вет-
ра», который во всей Венеции именуется словом «ветер» (ср. «Холодный ветер
от лагуны»), и тогда соотносится с миром земным, и словом «ветр» (ср. «И не-
кий ветр сквозь бархат черный»), и тогда соотносится с миром «потусторон-
ним». Такая же удвоенность распространяется и на «Я» (ср. «Я в эту ночь —
больной и юный — Простерт у львиного столба» и «М ладенцу мне —
велит судьба Впервые дрогнувшие веки Открыть у львиного стол-
ба?», где дополнительно смерть в одной системе оборачивается рождением во
второй системе) и на «отца» и «мать» (при этом во второй системе «мать» и
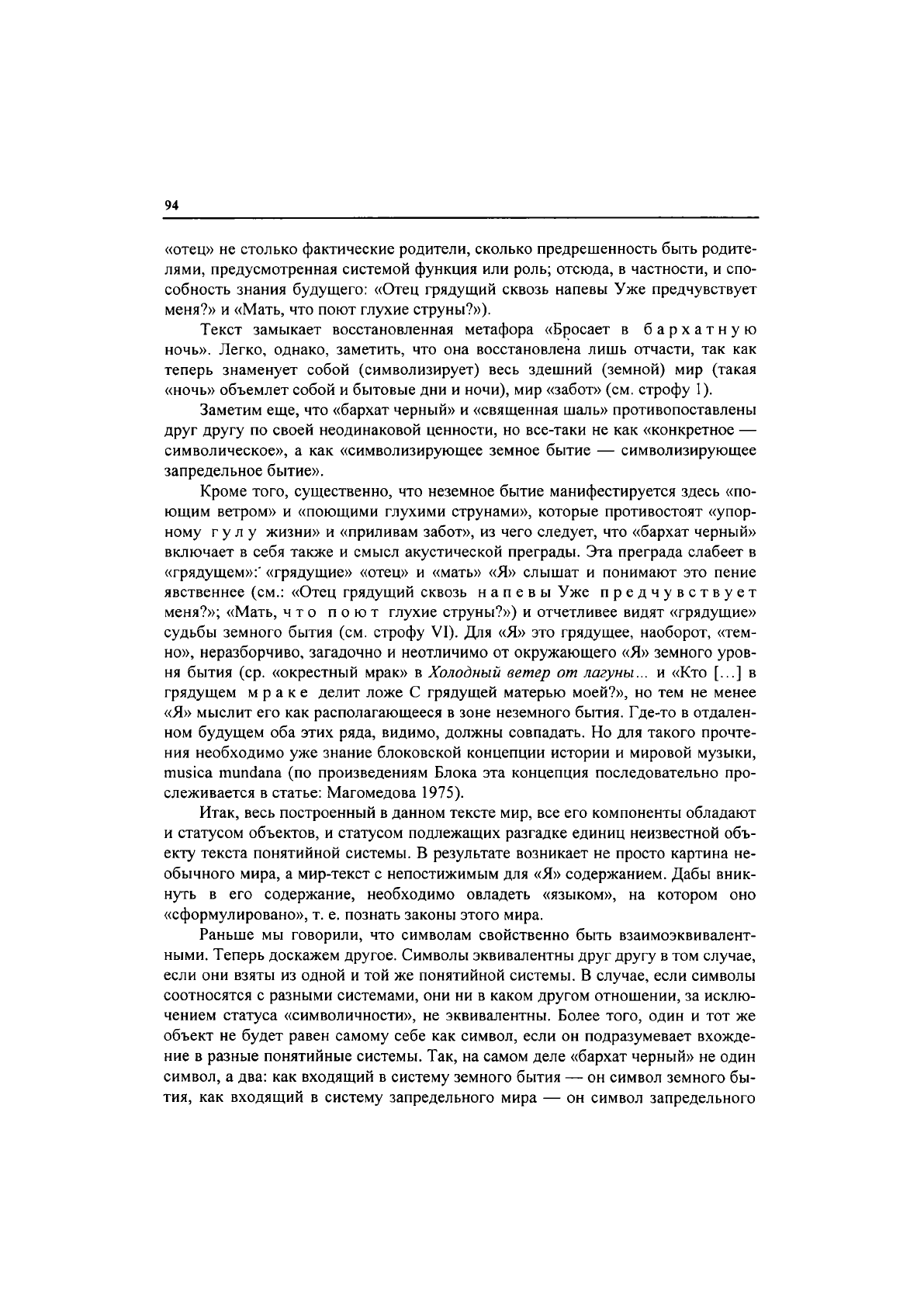
94
«отец» не столько фактические родители, сколько предрешенность быть родите-
лями, предусмотренная системой функция или роль; отсюда, в частности, и спо-
собность знания будущего: «Отец грядущий сквозь напевы Уже предчувствует
меня?» и «Мать, что поют глухие струны?»).
Текст замыкает восстановленная метафора «Бросает в бархатную
ночь». Легко, однако, заметить, что она восстановлена лишь отчасти, так как
теперь знаменует собой (символизирует) весь здешний (земной) мир (такая
«ночь» объемлет собой и бытовые дни и ночи), мир «забот» (см. строфу 1).
Заметим еще, что «бархат черный» и «священная шаль» противопоставлены
друг другу по своей неодинаковой ценности, но все-таки не как «конкретное —
символическое», а как «символизирующее земное бытие — символизирующее
запредельное бытие».
Кроме того, существенно, что неземное бытие манифестируется здесь «по-
ющим ветром» и «поющими глухими струнами», которые противостоят «упор-
ному гулу жизни» и «приливам забот», из чего следует, что «бархат черный»
включает в себя также и смысл акустической преграды. Эта преграда слабеет в
«грядущем»:' «грядущие» «отец» и «мать» «Я» слышат и понимают это пение
явственнее (см.: «Отец грядущий сквозь напевы Уже предчувствует
меня?»; «Мать, что поют глухие струны?») и отчетливее видят «грядущие»
судьбы земного бытия (см. строфу VI). Для «Я» это грядущее, наоборот, «тем-
но», неразборчиво, загадочно и неотличимо от окружающего «Я» земного уров-
ня бытия (ср. «окрестный мрак» в Холодный ветер от лагуны... и «Кто [...] в
грядущем мраке делит ложе С грядущей матерью моей?», но тем не менее
«Я» мыслит его как располагающееся в зоне неземного бытия. Где-то в отдален-
ном будущем оба этих ряда, видимо, должны совпадать. Но для такого прочте-
ния необходимо уже знание блоковской концепции истории и мировой музыки,
musica mundana (по произведениям Блока эта концепция последовательно про-
слеживается в статье: Магомедова 1975).
Итак, весь построенный в данном тексте мир, все его компоненты обладают
и статусом объектов, и статусом подлежащих разгадке единиц неизвестной объ-
екту текста понятийной системы. В результате возникает не просто картина не-
обычного мира, а мир-текст с непостижимым для «Я» содержанием. Дабы вник-
нуть в его содержание, необходимо овладеть «языком», на котором оно
«сформулировано», т. е. познать законы этого мира.
Раньше мы говорили, что символам свойственно быть взаимоэквивалент-
ными. Теперь доскажем другое. Символы эквивалентны друг другу в том случае,
если они взяты из одной и той же понятийной системы. В случае, если символы
соотносятся с разными системами, они ни в каком другом отношении, за исклю-
чением статуса «символичности», не эквивалентны. Более того, один и тот же
объект не будет равен самому себе как символ, если он подразумевает вхожде-
ние в разные понятийные системы. Так, на самом деле «бархат черный» не один
символ, а два: как входящий в систему земного бытия — он символ земного бы-
тия, как входящий в систему запредельного мира — он символ запредельного
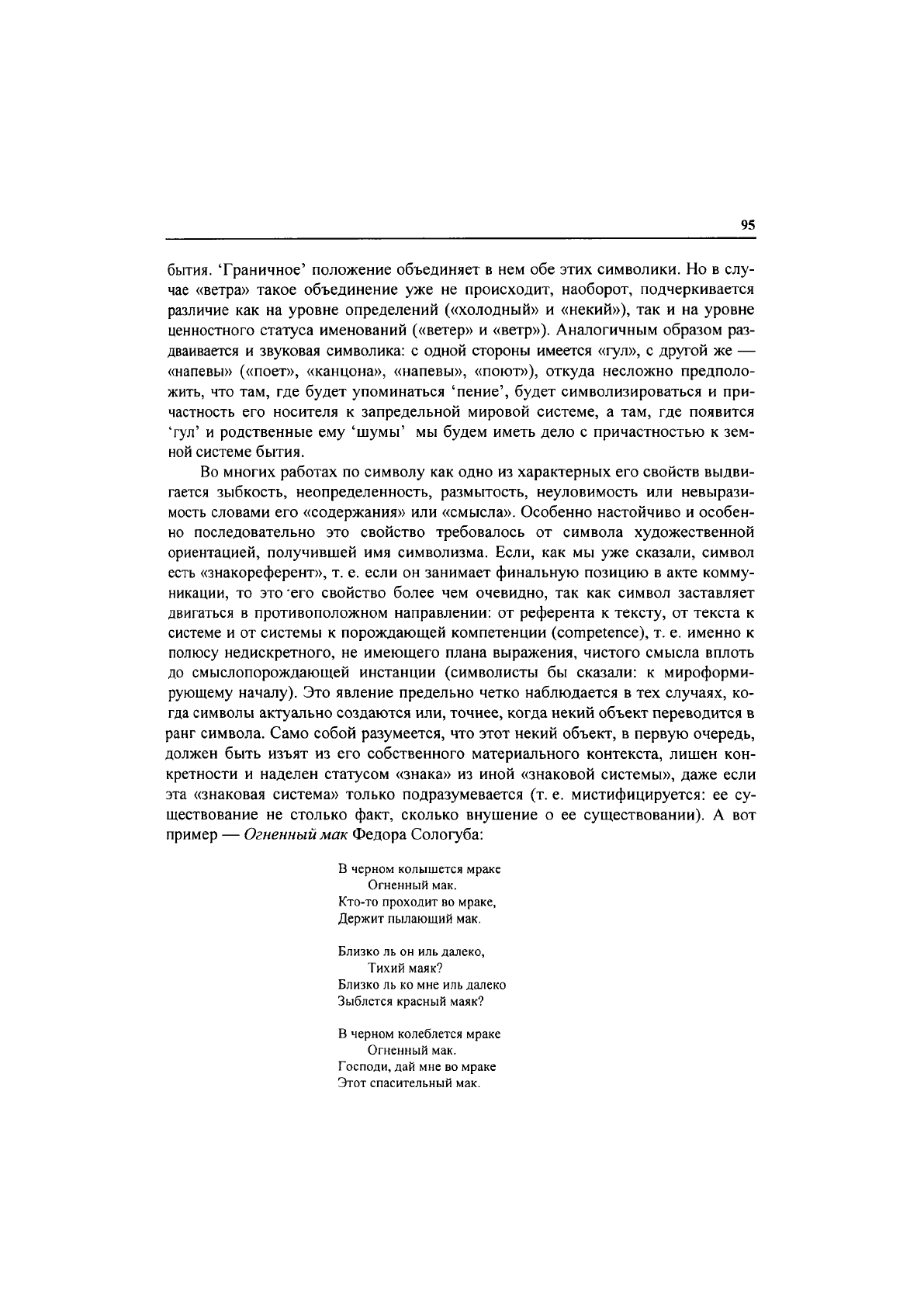
95
бытия. 'Граничное' положение объединяет в нем обе этих символики. Но в слу-
чае «ветра» такое объединение уже не происходит, наоборот, подчеркивается
различие как на уровне определений («холодный» и «некий»), так и на уровне
ценностного статуса именований («ветер» и «ветр»). Аналогичным образом раз-
дваивается и звуковая символика: с одной стороны имеется «гул», с другой же —
«напевы» («поет», «канцона», «напевы», «поют»), откуда несложно предполо-
жить, что там, где будет упоминаться 'пение', будет символизироваться и при-
частность его носителя к запредельной мировой системе, а там, где появится
'гул' и родственные ему 'шумы' мы будем иметь дело с причастностью к зем-
ной системе бытия.
Во многих работах по символу как одно из характерных его свойств выдви-
гается зыбкость, неопределенность, размытость, неуловимость или невырази-
мость словами его «содержания» или «смысла». Особенно настойчиво и особен-
но последовательно это свойство требовалось от символа художественной
ориентацией, получившей имя символизма. Если, как мы уже сказали, символ
есть «знакореферент», т. е. если он занимает финальную позицию в акте комму-
никации, то это "его свойство более чем очевидно, так как символ заставляет
двигаться в противоположном направлении: от референта к тексту, от текста к
системе и от системы к порождающей компетенции (competence), т. е. именно к
полюсу недискретного, не имеющего плана выражения, чистого смысла вплоть
до смыслопорождающей инстанции (символисты бы сказали: к мироформи-
рующему началу). Это явление предельно четко наблюдается в тех случаях, ко-
гда символы актуально создаются или, точнее, когда некий объект переводится в
ранг символа. Само собой разумеется, что этот некий объект, в первую очередь,
должен быть изъят из его собственного материального контекста, лишен кон-
кретности и наделен статусом «знака» из иной «знаковой системы», даже если
эта «знаковая система» только подразумевается (т. е. мистифицируется: ее су-
ществование не столько факт, сколько внушение о ее существовании). А вот
пример — Огненный мак Федора Сологуба:
В черном колышется мраке
Огненный мак.
Кто-то проходит во мраке,
Держит пылающий мак.
Близко ль он иль далеко,
Тихий маяк?
Близко ль ко мне иль далеко
Зыблется красный маяк?
В черном колеблется мраке
Огненный мак.
Господи, дай мне во мраке
Этот спасительный мак.
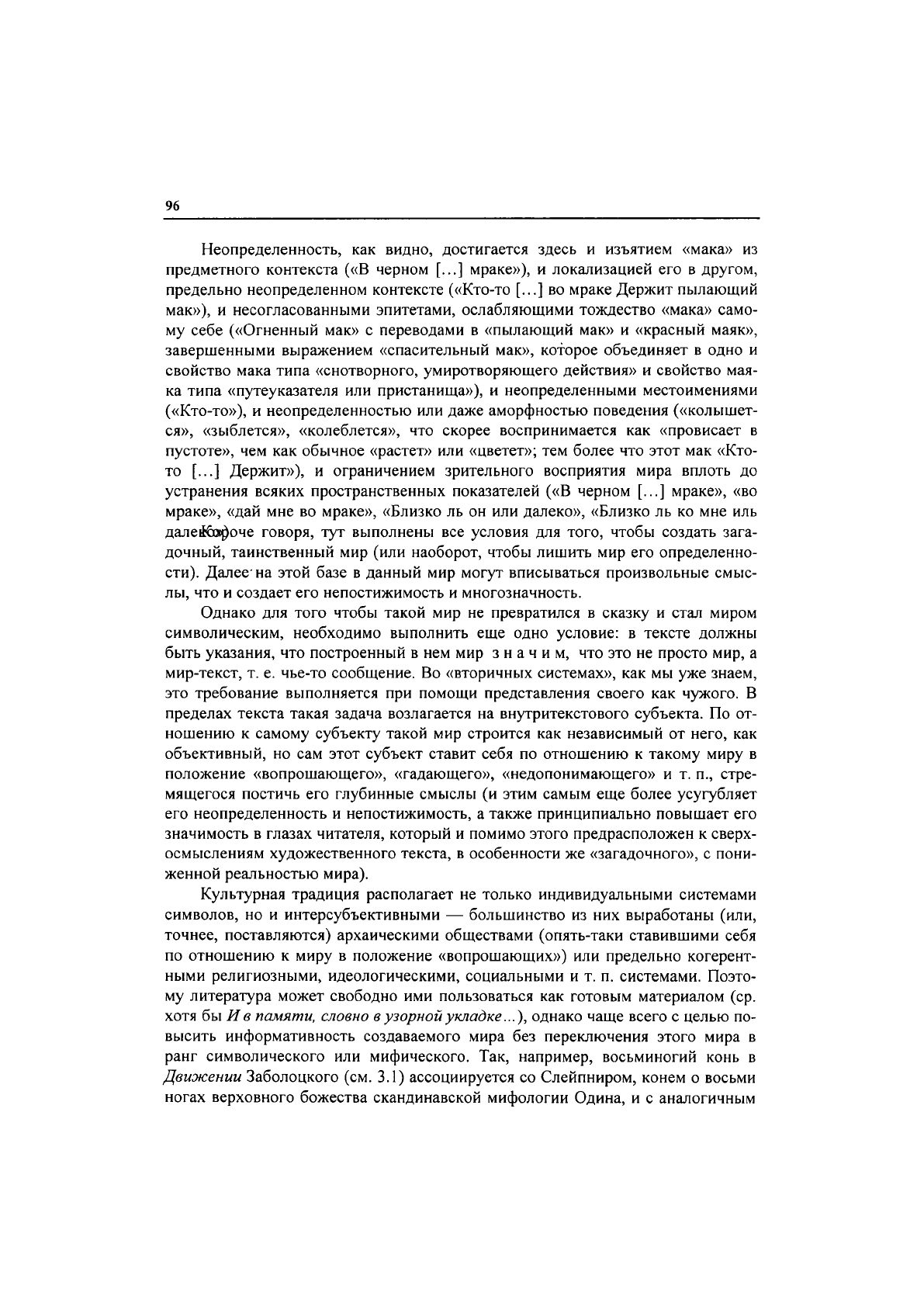
96
Неопределенность, как видно, достигается здесь и изъятием «мака» из
предметного контекста («В черном [...] мраке»), и локализацией его в другом,
предельно неопределенном контексте («Кто-то [...] во мраке Держит пылающий
мак»), и несогласованными эпитетами, ослабляющими тождество «мака» само-
му себе («Огненный мак» с переводами в «пылающий мак» и «красный маяк»,
завершенными выражением «спасительный мак», которое объединяет в одно и
свойство мака типа «снотворного, умиротворяющего действия» и свойство мая-
ка типа «путеуказателя или пристанища»), и неопределенными местоимениями
(«Кто-то»), и неопределенностью или даже аморфностью поведения («колышет-
ся», «зыблется», «колеблется», что скорее воспринимается как «провисает в
пустоте», чем как обычное «растет» или «цветет»; тем более что этот мак «Кто-
то [...] Держит»), и ограничением зрительного восприятия мира вплоть до
устранения всяких пространственных показателей («В черном [...] мраке», «во
мраке», «дай мне во мраке», «Близко ль он или далеко», «Близко ль ко мне иль
дале46»|)оче говоря, тут выполнены все условия для того, чтобы создать зага-
дочный, таинственный мир (или наоборот, чтобы лишить мир его определенно-
сти). Далее' на этой базе в данный мир могут вписываться произвольные смыс-
лы, что и создает его непостижимость и многозначность.
Однако для того чтобы такой мир не превратился в сказку и стал миром
символическим, необходимо выполнить еще одно условие: в тексте должны
быть указания, что построенный в нем мир значим, что это не просто мир, а
мир-текст, т. е. чье-то сообщение. Во «вторичных системах», как мы уже знаем,
это требование выполняется при помощи представления своего как чужого. В
пределах текста такая задача возлагается на внутритекстового субъекта. По от-
ношению к самому субъекту такой мир строится как независимый от него, как
объективный, но сам этот субъект ставит себя по отношению к такому миру в
положение «вопрошающего», «гадающего», «недопонимающего» и т. п., стре-
мящегося постичь его глубинные смыслы (и этим самым еще более усугубляет
его неопределенность и непостижимость, а также принципиально повышает его
значимость в глазах читателя, который и помимо этого предрасположен к сверх-
осмыслениям художественного текста, в особенности же «загадочного», с пони-
женной реальностью мира).
Культурная традиция располагает не только индивидуальными системами
символов, но и интерсубъективными — большинство из них выработаны (или,
точнее, поставляются) архаическими обществами (опять-таки ставившими себя
по отношению к миру в положение «вопрошающих») или предельно когерент-
ными религиозными, идеологическими, социальными и т. п. системами. Поэто-
му литература может свободно ими пользоваться как готовым материалом (ср.
хотя бы Ив памяти, словно в узорной укладке...), однако чаще всего с целью по-
высить информативность создаваемого мира без переключения этого мира в
ранг символического или мифического. Так, например, восьминогий конь в
Движении Заболоцкого (см. 3.1) ассоциируется со Слейпниром, конем о восьми
ногах верховного божества скандинавской мифологии Одина, и с аналогичным
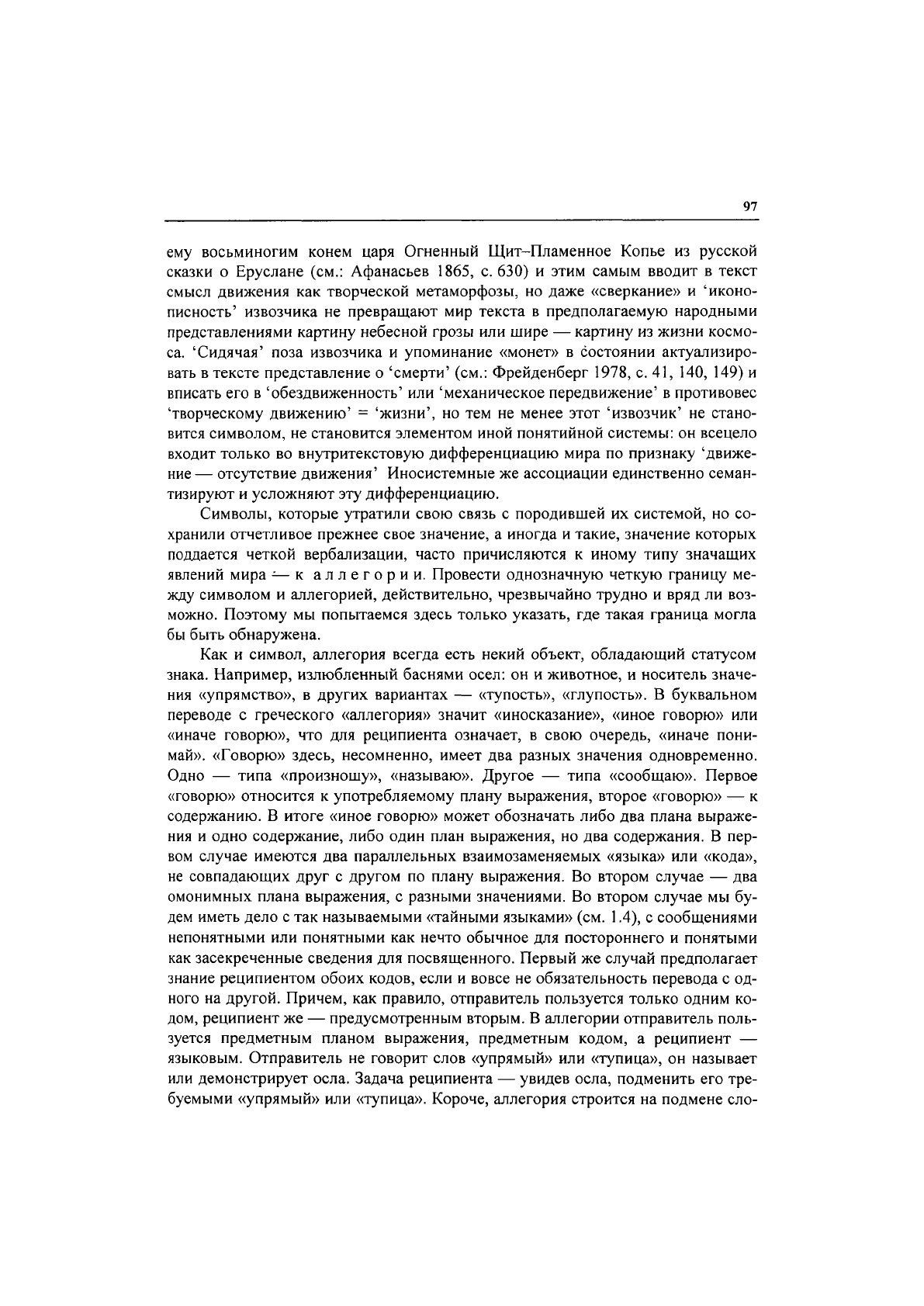
97
ему восьминогим конем царя Огненный Щит-Пламенное Копье из русской
сказки о Еруслане (см.: Афанасьев 1865, с. 630) и этим самым вводит в текст
смысл движения как творческой метаморфозы, но даже «сверкание» и 'иконо-
писность' извозчика не превращают мир текста в предполагаемую народными
представлениями картину небесной грозы или шире — картину из жизни космо-
са. 'Сидячая' поза извозчика и упоминание «монет» в состоянии актуализиро-
вать в тексте представление о 'смерти' (см.: Фрейденберг 1978, с. 41, 140, 149) и
вписать его в 'обездвиженность' или 'механическое передвижение' в противовес
'творческому движению' = 'жизни', но тем не менее этот 'извозчик' не стано-
вится символом, не становится элементом иной понятийной системы: он всецело
входит только во внутритекстовую дифференциацию мира по признаку 'движе-
ние — отсутствие движения' Иносистемные же ассоциации единственно семан-
тизируют и усложняют эту дифференциацию.
Символы, которые утратили свою связь с породившей их системой, но со-
хранили отчетливое прежнее свое значение, а иногда и такие, значение которых
поддается четкой вербализации, часто причисляются к иному типу значащих
явлений мира — к аллегории. Провести однозначную четкую границу ме-
жду символом и аллегорией, действительно, чрезвычайно трудно и вряд ли воз-
можно. Поэтому мы попытаемся здесь только указать, где такая граница могла
бы быть обнаружена.
Как и символ, аллегория всегда есть некий объект, обладающий статусом
знака. Например, излюбленный баснями осел: он и животное, и носитель значе-
ния «упрямство», в других вариантах — «тупость», «глупость». В буквальном
переводе с греческого «аллегория» значит «иносказание», «иное говорю» или
«иначе говорю», что для реципиента означает, в свою очередь, «иначе пони-
май». «Говорю» здесь, несомненно, имеет два разных значения одновременно.
Одно — типа «произношу», «называю». Другое — типа «сообщаю». Первое
«говорю» относится к употребляемому плану выражения, второе «говорю» — к
содержанию. В итоге «иное говорю» может обозначать либо два плана выраже-
ния и одно содержание, либо один план выражения, но два содержания. В пер-
вом случае имеются два параллельных взаимозаменяемых «языка» или «кода»,
не совпадающих друг с другом по плану выражения. Во втором случае — два
омонимных плана выражения, с разными значениями. Во втором случае мы бу-
дем иметь дело с так называемыми «тайными языками» (см. 1.4), с сообщениями
непонятными или понятными как нечто обычное для постороннего и понятыми
как засекреченные сведения для посвященного. Первый же случай предполагает
знание реципиентом обоих кодов, если и вовсе не обязательность перевода с од-
ного на другой. Причем, как правило, отправитель пользуется только одним ко-
дом, реципиент же — предусмотренным вторым. В аллегории отправитель поль-
зуется предметным планом выражения, предметным кодом, а реципиент —
языковым. Отправитель не говорит слов «упрямый» или «тупица», он называет
или демонстрирует осла. Задача реципиента — увидев осла, подменить его тре-
буемыми «упрямый» или «тупица». Короче, аллегория строится на подмене ело-
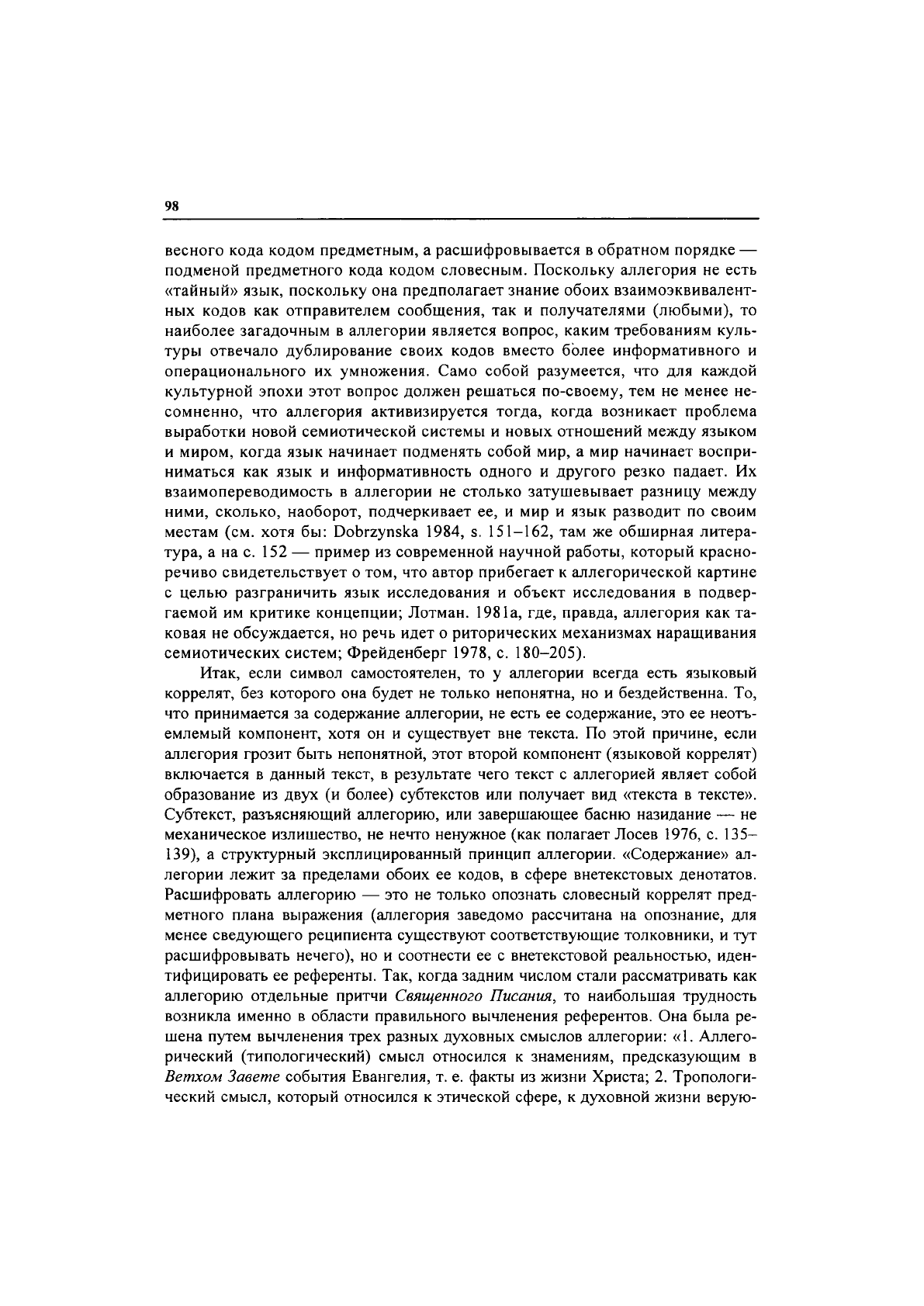
98
весного кода кодом предметным, а расшифровывается в обратном порядке —
подменой предметного кода кодом словесным. Поскольку аллегория не есть
«тайный» язык, поскольку она предполагает знание обоих взаимоэквивалент-
ных кодов как отправителем сообщения, так и получателями (любыми), то
наиболее загадочным в аллегории является вопрос, каким требованиям куль-
туры отвечало дублирование своих кодов вместо более информативного и
операционального их умножения. Само собой разумеется, что для каждой
культурной эпохи этот вопрос должен решаться по-своему, тем не менее не-
сомненно, что аллегория активизируется тогда, когда возникает проблема
выработки новой семиотической системы и новых отношений между языком
и миром, когда язык начинает подменять собой мир, а мир начинает воспри-
ниматься как язык и информативность одного и другого резко падает. Их
взаимопереводимость в аллегории не столько затушевывает разницу между
ними, сколько, наоборот, подчеркивает ее, и мир и язык разводит по своим
местам (см. хотя бы: Dobrzyńska 1984, s. 151-162, там же обширная литера-
тура, а на с. 152 — пример из современной научной работы, который красно-
речиво свидетельствует о том, что автор прибегает к аллегорической картине
с целью разграничить язык исследования и объект исследования в подвер-
гаемой им критике концепции; Лотман. 1981а, где, правда, аллегория как та-
ковая не обсуждается, но речь идет о риторических механизмах наращивания
семиотических систем; Фрейденберг 1978, с. 180-205).
Итак, если символ самостоятелен, то у аллегории всегда есть языковый
коррелят, без которого она будет не только непонятна, но и бездейственна. То,
что принимается за содержание аллегории, не есть ее содержание, это ее неотъ-
емлемый компонент, хотя он и существует вне текста. По этой причине, если
аллегория грозит быть непонятной, этот второй компонент (языковой коррелят)
включается в данный текст, в результате чего текст с аллегорией являет собой
образование из двух (и более) субтекстов или получает вид «текста в тексте».
Субтекст, разъясняющий аллегорию, или завершающее басню назидание — не
механическое излишество, не нечто ненужное (как полагает Лосев 1976, с. 135-
139), а структурный эксплицированный принцип аллегории. «Содержание» ал-
легории лежит за пределами обоих ее кодов, в сфере внетекстовых денотатов.
Расшифровать аллегорию — это не только опознать словесный коррелят пред-
метного плана выражения (аллегория заведомо рассчитана на опознание, для
менее сведующего реципиента существуют соответствующие толковники, и тут
расшифровывать нечего), но и соотнести ее с внетекстовой реальностью, иден-
тифицировать ее референты. Так, когда задним числом стали рассматривать как
аллегорию отдельные притчи Священного Писания, то наибольшая трудность
возникла именно в области правильного вычленения референтов. Она была ре-
шена путем вычленения трех разных духовных смыслов аллегории: «1. Аллего-
рический (типологический) смысл относился к знамениям, предсказующим в
Ветхом Завете события Евангелия, т. е. факты из жизни Христа; 2. Тропологи-
ческий смысл, который относился к этической сфере, к духовной жизни верую-
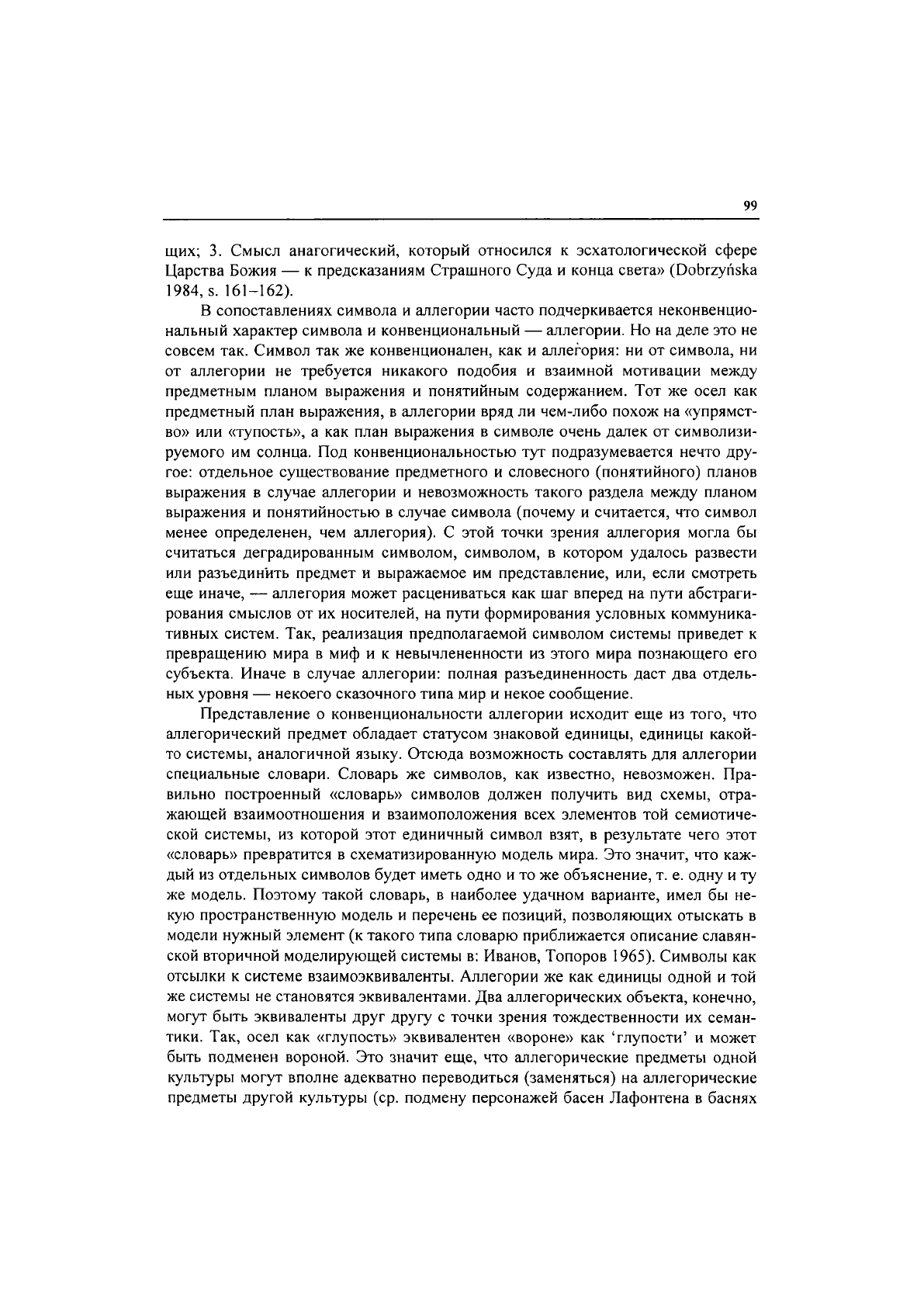
99
щих; 3. Смысл анагогический, который относился к эсхатологической сфере
Царства Божия — к предсказаниям Страшного Суда и конца света» (Dobrzyńska
1984, s. 161-162).
В сопоставлениях символа и аллегории часто подчеркивается неконвенцио-
нальный характер символа и конвенциональный — аллегории. Но на деле это не
совсем так. Символ так же конвенционален, как и аллегория: ни от символа, ни
от аллегории не требуется никакого подобия и взаимной мотивации между
предметным планом выражения и понятийным содержанием. Тот же осел как
предметный план выражения, в аллегории вряд ли чем-либо похож на «упрямст-
во» или «тупость», а как план выражения в символе очень далек от символизи-
руемого им солнца. Под конвенциональностью тут подразумевается нечто дру-
гое: отдельное существование предметного и словесного (понятийного) планов
выражения в случае аллегории и невозможность такого раздела между планом
выражения и понятийностью в случае символа (почему и считается, что символ
менее определенен, чем аллегория). С этой точки зрения аллегория могла бы
считаться деградированным символом, символом, в котором удалось развести
или разъединить предмет и выражаемое им представление, или, если смотреть
еще иначе, — аллегория может расцениваться как шаг вперед на пути абстраги-
рования смыслов от их носителей, на пути формирования условных коммуника-
тивных систем. Так, реализация предполагаемой символом системы приведет к
превращению мира в миф и к невычлененности из этого мира познающего его
субъекта. Иначе в случае аллегории: полная разъединенность даст два отдель-
ных уровня — некоего сказочного типа мир и некое сообщение.
Представление о конвенциональное™ аллегории исходит еще из того, что
аллегорический предмет обладает статусом знаковой единицы, единицы какой-
то системы, аналогичной языку. Отсюда возможность составлять для аллегории
специальные словари. Словарь же символов, как известно, невозможен. Пра-
вильно построенный «словарь» символов должен получить вид схемы, отра-
жающей взаимоотношения и взаимоположения всех элементов той семиотиче-
ской системы, из которой этот единичный символ взят, в результате чего этот
«словарь» превратится в схематизированную модель мира. Это значит, что каж-
дый из отдельных символов будет иметь одно и то же объяснение, т. е. одну и ту
же модель. Поэтому такой словарь, в наиболее удачном варианте, имел бы не-
кую пространственную модель и перечень ее позиций, позволяющих отыскать в
модели нужный элемент (к такого типа словарю приближается описание славян-
ской вторичной моделирующей системы в: Иванов, Топоров 1965). Символы как
отсылки к системе взаимоэквиваленты. Аллегории же как единицы одной и той
же системы не становятся эквивалентами. Два аллегорических объекта, конечно,
могут быть эквиваленты друг другу с точки зрения тождественности их семан-
тики. Так, осел как «глупость» эквивалентен «вороне» как 'глупости' и может
быть подменен вороной. Это значит еще, что аллегорические предметы одной
культуры могут вполне адекватно переводиться (заменяться) на аллегорические
предметы другой культуры (ср. подмену персонажей басен Лафонтена в баснях
