Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

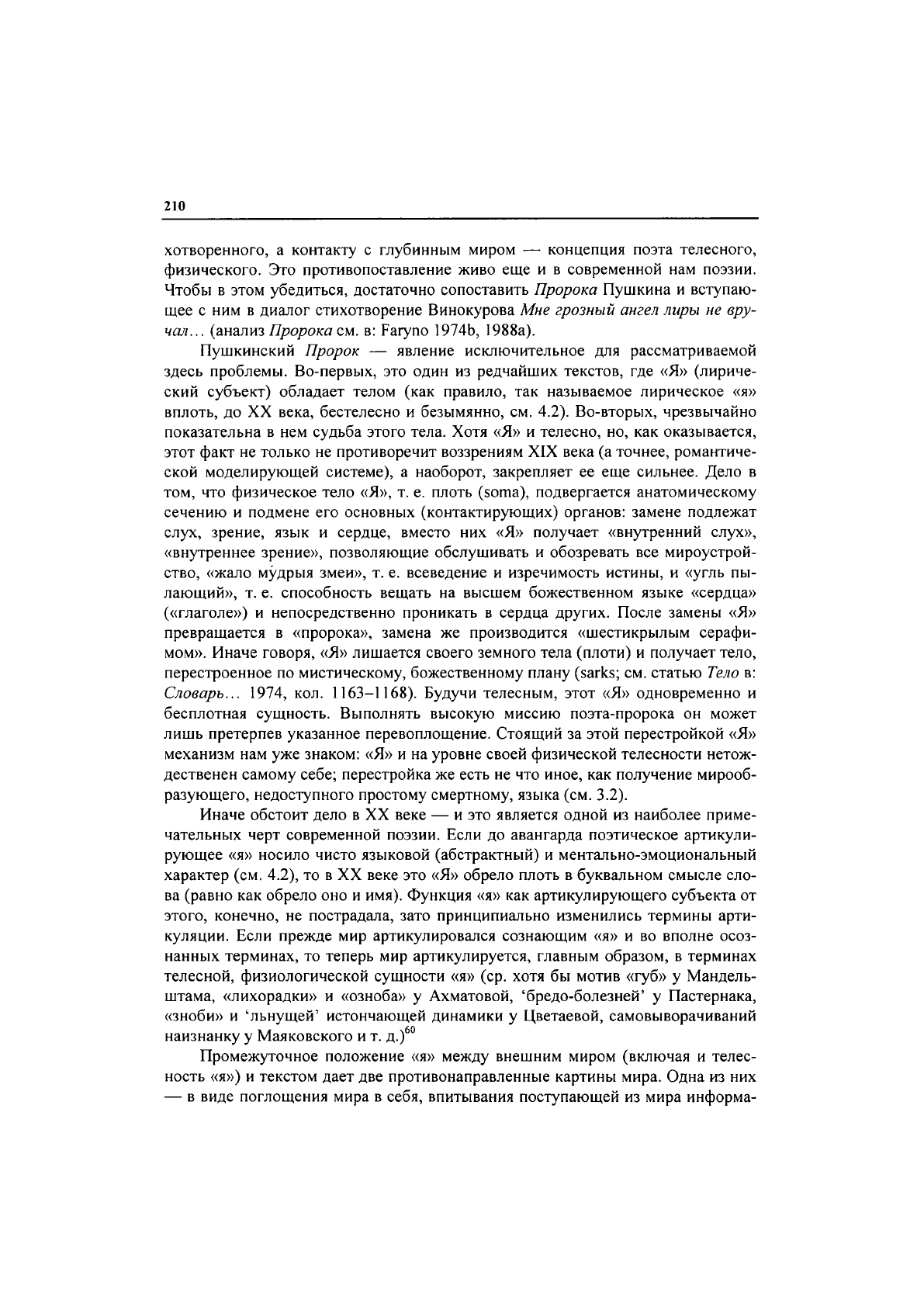
210
хотворенного, а контакту с глубинным миром — концепция поэта телесного,
физического. Это противопоставление живо еще и в современной нам поэзии.
Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить Пророка Пушкина и вступаю-
щее с ним в диалог стихотворение Винокурова Мне грозный ангел лиры не вру-
чал... (анализ Пророка см. в: Faryno 1974b, 1988а).
Пушкинский Пророк — явление исключительное для рассматриваемой
здесь проблемы. Во-первых, это один из редчайших текстов, где «Я» (лириче-
ский субъект) обладает телом (как правило, так называемое лирическое «я»
вплоть, до XX века, бестелесно и безымянно, см. 4.2). Во-вторых, чрезвычайно
показательна в нем судьба этого тела. Хотя «Я» и телесно, но, как оказывается,
этот факт не только не противоречит воззрениям XIX века (а точнее, романтиче-
ской моделирующей системе), а наоборот, закрепляет ее еще сильнее. Дело в
том, что физическое тело «Я», т. е. плоть (soma), подвергается анатомическому
сечению и подмене его основных (контактирующих) органов: замене подлежат
слух, зрение, язык и сердце, вместо них «Я» получает «внутренний слух»,
«внутреннее зрение», позволяющие обслушивать и обозревать все мироустрой-
ство, «жало мудрыя змеи», т. е. всеведение и изречимость истины, и «угль пы-
лающий», т. е. способность вещать на высшем божественном языке «сердца»
(«глаголе») и непосредственно проникать в сердца других. После замены «Я»
превращается в «пророка», замена же производится «шестикрылым серафи-
мом». Иначе говоря, «Я» лишается своего земного тела (плоти) и получает тело,
перестроенное по мистическому, божественному плану (sarks; см. статью Тело в:
Словарь... 1974, кол. 1163-1168). Будучи телесным, этот «Я» одновременно и
бесплотная сущность. Выполнять высокую миссию поэта-пророка он может
лишь претерпев указанное перевоплощение. Стоящий за этой перестройкой «Я»
механизм нам уже знаком: «Я» и на уровне своей физической телесности нетож-
дественен самому себе; перестройка же есть не что иное, как получение мирооб-
разующего, недоступного простому смертному, языка (см. 3.2).
Иначе обстоит дело в XX веке — и это является одной из наиболее приме-
чательных черт современной поэзии. Если до авангарда поэтическое артикули-
рующее «я» носило чисто языковой (абстрактный) и ментально-эмоциональный
характер (см. 4.2), то в XX веке это «Я» обрело плоть в буквальном смысле сло-
ва (равно как обрело оно и имя). Функция «я» как артикулирующего субъекта от
этого, конечно, не пострадала, зато принципиально изменились термины арти-
куляции. Если прежде мир артикулировался сознающим «я» и во вполне осоз-
нанных терминах, то теперь мир артикулируется, главным образом, в терминах
телесной, физиологической сущности «я» (ср. хотя бы мотив «губ» у Мандель-
штама, «лихорадки» и «озноба» у Ахматовой, 'бредо-болезней' у Пастернака,
«зноби» и 'льнущей' истончающей динамики у Цветаевой, самовыворачиваний
наизнанку у Маяковского и т. д.)
60
Промежуточное положение «я» между внешним миром (включая и телес-
ность «я») и текстом дает две противонаправленные картины мира. Одна из них
— в виде поглощения мира в себя, впитывания поступающей из мира информа-
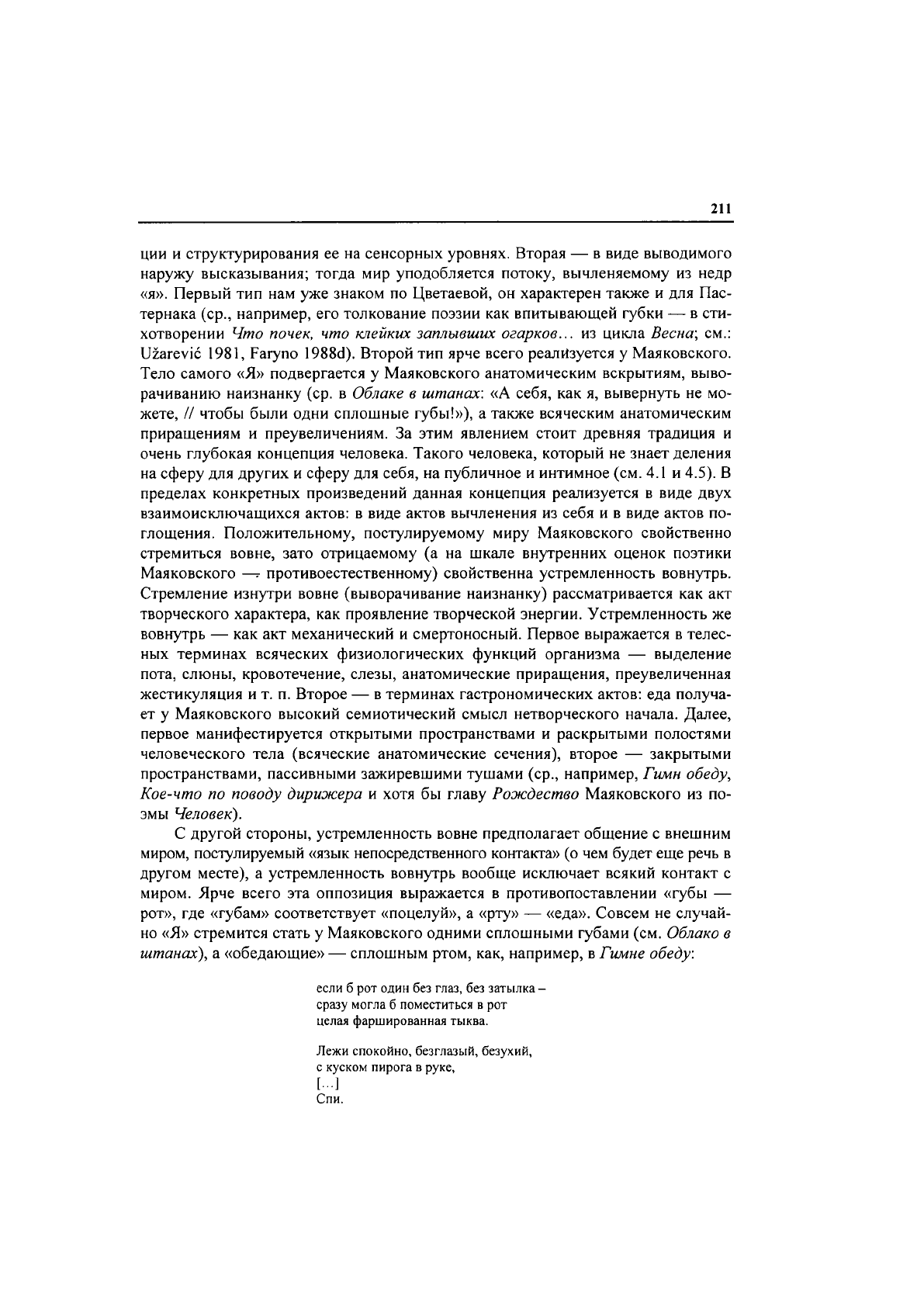
211
ции и структурирования ее на сенсорных уровнях. Вторая — в виде выводимого
наружу высказывания; тогда мир уподобляется потоку, вычленяемому из недр
«я». Первый тип нам уже знаком по Цветаевой, он характерен также и для Пас-
тернака (ср., например, его толкование поэзии как впитывающей губки — в сти-
хотворении Что почек, что клейких заплывших огарков... из цикла Весна; см.:
Uzarevic 1981, Faryno 1988d). Второй тип ярче всего реализуется у Маяковского.
Тело самого «Я» подвергается у Маяковского анатомическим вскрытиям, выво-
рачиванию наизнанку (ср. в Облаке в штанах'. «А себя, как я, вывернуть не мо-
жете, // чтобы были одни сплошные губы!»), а также всяческим анатомическим
приращениям и преувеличениям. За этим явлением стоит древняя традиция и
очень глубокая концепция человека. Такого человека, который не знает деления
на сферу для других и сферу для себя, на публичное и интимное (см. 4.1 и 4.5). В
пределах конкретных произведений данная концепция реализуется в виде двух
взаимоисключащихся актов: в виде актов вычленения из себя и в виде актов по-
глощения. Положительному, постулируемому миру Маяковского свойственно
стремиться вовне, зато отрицаемому (а на шкале внутренних оценок поэтики
Маяковского — противоестественному) свойственна устремленность вовнутрь.
Стремление изнутри вовне (выворачивание наизнанку) рассматривается как акт
творческого характера, как проявление творческой энергии. Устремленность же
вовнутрь — как акт механический и смертоносный. Первое выражается в телес-
ных терминах всяческих физиологических функций организма — выделение
пота, слюны, кровотечение, слезы, анатомические приращения, преувеличенная
жестикуляция и т. п. Второе — в терминах гастрономических актов: еда получа-
ет у Маяковского высокий семиотический смысл нетворческого начала. Далее,
первое манифестируется открытыми пространствами и раскрытыми полостями
человеческого тела (всяческие анатомические сечения), второе — закрытыми
пространствами, пассивными зажиревшими тушами (ср., например, Гимн обеду,
Кое-что по поводу дирижера и хотя бы главу Рождество Маяковского из по-
эмы Человек).
С другой стороны, устремленность вовне предполагает общение с внешним
миром, постулируемый «язык непосредственного контакта» (о чем будет еще речь в
другом месте), а устремленность вовнутрь вообще исключает всякий контакт с
миром. Ярче всего эта оппозиция выражается в противопоставлении «губы —
рот», где «губам» соответствует «поцелуй», а «рту» — «еда». Совсем не случай-
но «Я» стремится стать у Маяковского одними сплошными губами (см. Облако в
штанах), а «обедающие» — сплошным ртом, как, например, в Гимне обеду:
если б рот один без глаз, без затылка -
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.
Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
[••]
Спи.
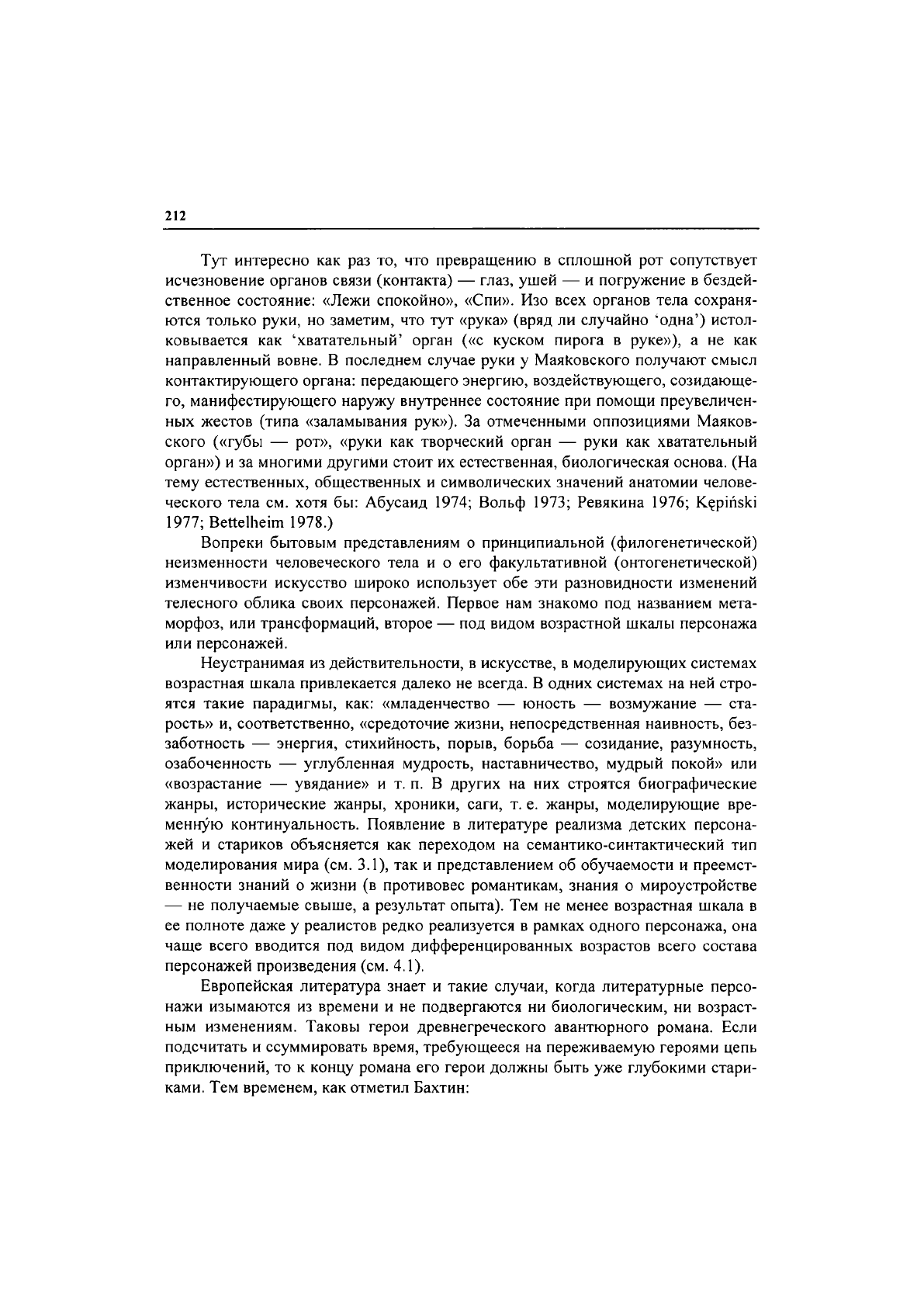
212
Тут интересно как раз то, что превращению в сплошной рот сопутствует
исчезновение органов связи (контакта) — глаз, ушей — и погружение в бездей-
ственное состояние: «Лежи спокойно», «Спи». Изо всех органов тела сохраня-
ются только руки, но заметим, что тут «рука» (вряд ли случайно 'одна') истол-
ковывается как 'хватательный' орган («с куском пирога в руке»), а не как
направленный вовне. В последнем случае руки у Маяковского получают смысл
контактирующего органа: передающего энергию, воздействующего, созидающе-
го, манифестирующего наружу внутреннее состояние при помощи преувеличен-
ных жестов (типа «заламывания рук»). За отмеченными оппозициями Маяков-
ского («губы — рот», «руки как творческий орган — руки как хватательный
орган») и за многими другими стоит их естественная, биологическая основа. (На
тему естественных, общественных и символических значений анатомии челове-
ческого тела см. хотя бы: Абусаид 1974; Вольф 1973; Ревякина 1976; Kępiński
1977; Bettelheim 1978.)
Вопреки бытовым представлениям о принципиальной (филогенетической)
неизменности человеческого тела и о его факультативной (онтогенетической)
изменчивости искусство широко использует обе эти разновидности изменений
телесного облика своих персонажей. Первое нам знакомо под названием мета-
морфоз, или трансформаций, второе — под видом возрастной шкалы персонажа
или персонажей.
Неустранимая из действительности, в искусстве, в моделирующих системах
возрастная шкала привлекается далеко не всегда. В одних системах на ней стро-
ятся такие парадигмы, как: «младенчество — юность — возмужание — ста-
рость» и, соответственно, «средоточие жизни, непосредственная наивность, без-
заботность — энергия, стихийность, порыв, борьба — созидание, разумность,
озабоченность — углубленная мудрость, наставничество, мудрый покой» или
«возрастание — увядание» и т. п. В других на них строятся биографические
жанры, исторические жанры, хроники, саги, т. е. жанры, моделирующие вре-
менную континуальность. Появление в литературе реализма детских персона-
жей и стариков объясняется как переходом на семантико-синтактический тип
моделирования мира (см. 3.1), так и представлением об обучаемости и преемст-
венности знаний о жизни (в противовес романтикам, знания о мироустройстве
— не получаемые свыше, а результат опыта). Тем не менее возрастная шкала в
ее полноте даже у реалистов редко реализуется в рамках одного персонажа, она
чаще всего вводится под видом дифференцированных возрастов всего состава
персонажей произведения (см. 4.1).
Европейская литература знает и такие случаи, когда литературные персо-
нажи изымаются из времени и не подвергаются ни биологическим, ни возраст-
ным изменениям. Таковы герои древнегреческого авантюрного романа. Если
подсчитать и ссуммировать время, требующееся на переживаемую героями цепь
приключений, то к концу романа его герои должны быть уже глубокими стари-
ками. Тем временем, как отметил Бахтин:
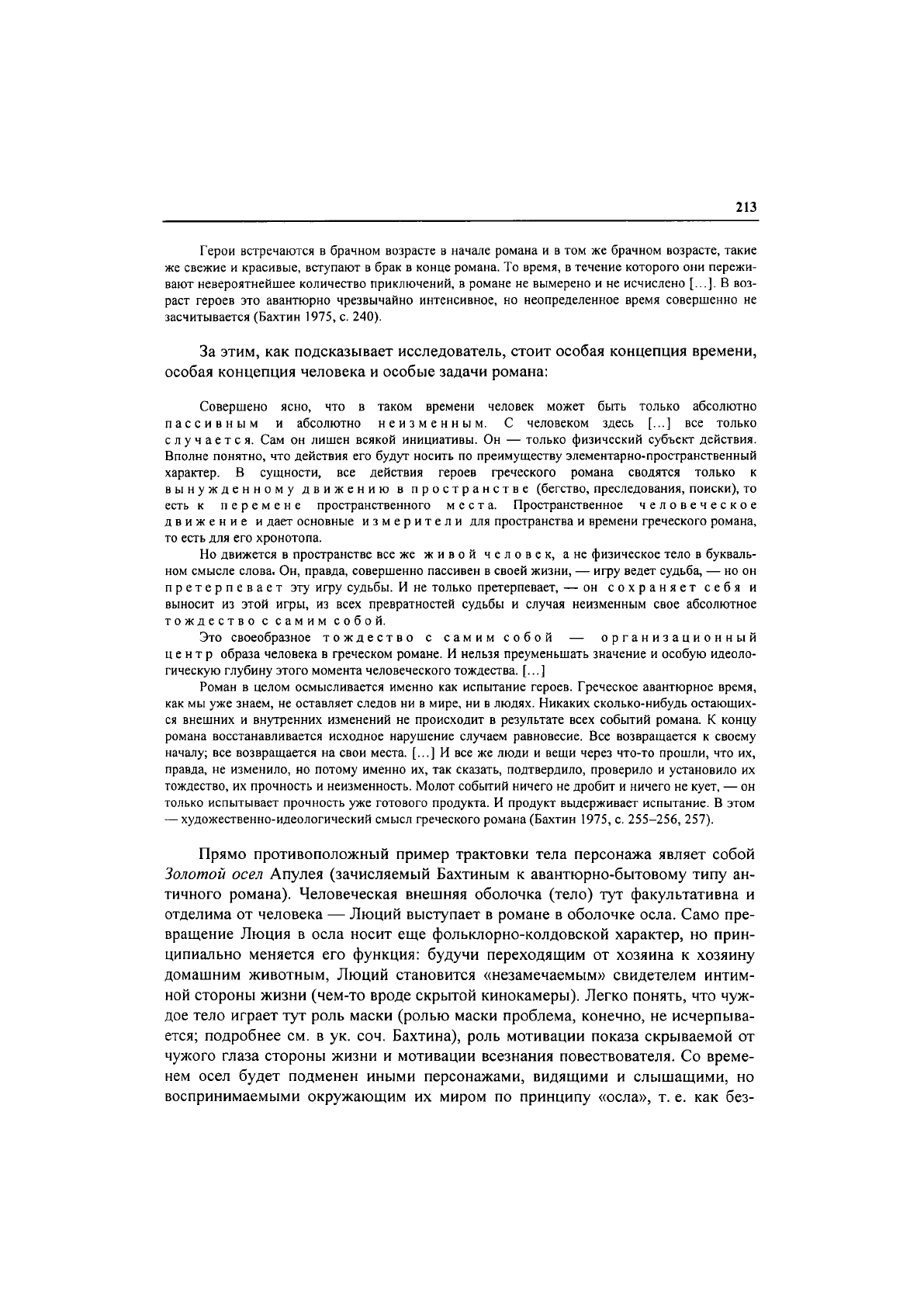
213
Герои встречаются в брачном возрасте в начале романа и в том же брачном возрасте, такие
же свежие и красивые, вступают в брак в конце романа. То время, в течение которого они пережи-
вают невероятнейшее количество приключений, в романе не вымерено и не исчислено [...]. В воз-
раст героев это авантюрно чрезвычайно интенсивное, но неопределенное время совершенно не
засчитывается (Бахтин 1975, с. 240).
За этим, как подсказывает исследователь, стоит особая концепция времени,
особая концепция человека и особые задачи романа:
Совершено ясно, что в таком времени человек может быть только абсолютно
пассивным и абсолютно неизменным. С человеком здесь [...] все только
случается. Сам он лишен всякой инициативы. Он — только физический субъект действия.
Вполне понятно, что действия его будут носить по преимуществу элементарно-пространственный
характер. В сущности, все действия героев греческого романа сводятся только к
вынужденному движению в пространстве (бегство, преследования, поиски), то
есть к перемене пространственного места. Пространственное человеческое
движение и дает основные измерители для пространства и времени греческого романа,
то есть для его хронотопа.
Но движется в пространстве все же живой человек, а не физическое тело в букваль-
ном смысле слова» Он, правда, совершенно пассивен в своей жизни, — игру ведет судьба, — но он
претерпевает эту игру судьбы. И не только претерпевает, — он сохраняет себя и
выносит из этой игры, из всех превратностей судьбы и случая неизменным свое абсолютное
тождество с самим собой.
Это своеобразное тождество с самим собой — организационный
центр образа человека в греческом романе. И нельзя преуменьшать значение и особую идеоло-
гическую глубину этого момента человеческого тождества. [...]
Роман в целом осмысливается именно как испытание героев. Греческое авантюрное время,
как мы уже знаем, не оставляет следов ни в мире, ни в людях. Никаких сколько-нибудь остающих-
ся внешних и внутренних изменений не происходит в результате всех событий романа. К концу
романа восстанавливается исходное нарушение случаем равновесие. Все возвращается к своему
началу; все возвращается на свои места. [...] И все же люди и вещи через что-то прошли, что их,
правда, не изменило, но потому именно их, так сказать, подтвердило, проверило и установило их
тождество, их прочность и неизменность. Молот событий ничего не дробит и ничего не кует, — он
только испытывает прочность уже готового продукта. И продукт выдерживает испытание. В этом
— художественно-идеологический смысл греческого романа (Бахтин 1975, с. 255-256, 257).
Прямо противоположный пример трактовки тела персонажа являет собой
Золотой осел Апулея (зачисляемый Бахтиным к авантюрно-бытовому типу ан-
тичного романа). Человеческая внешняя оболочка (тело) тут факультативна и
отделима от человека — Люций выступает в романе в оболочке осла. Само пре-
вращение Люция в осла носит еще фольклорно-колдовской характер, но прин-
ципиально меняется его функция: будучи переходящим от хозяина к хозяину
домашним животным, Люций становится «незамечаемым» свидетелем интим-
ной стороны жизни (чем-то вроде скрытой кинокамеры). Легко понять, что чуж-
дое тело играет тут роль маски (ролью маски проблема, конечно, не исчерпыва-
ется; подробнее см. в ук. соч. Бахтина), роль мотивации показа скрываемой от
чужого глаза стороны жизни и мотивации всезнания повествователя. Со време-
нем осел будет подменен иными персонажами, видящими и слышащими, но
воспринимаемыми окружающим их миром по принципу «осла», т. е. как без-
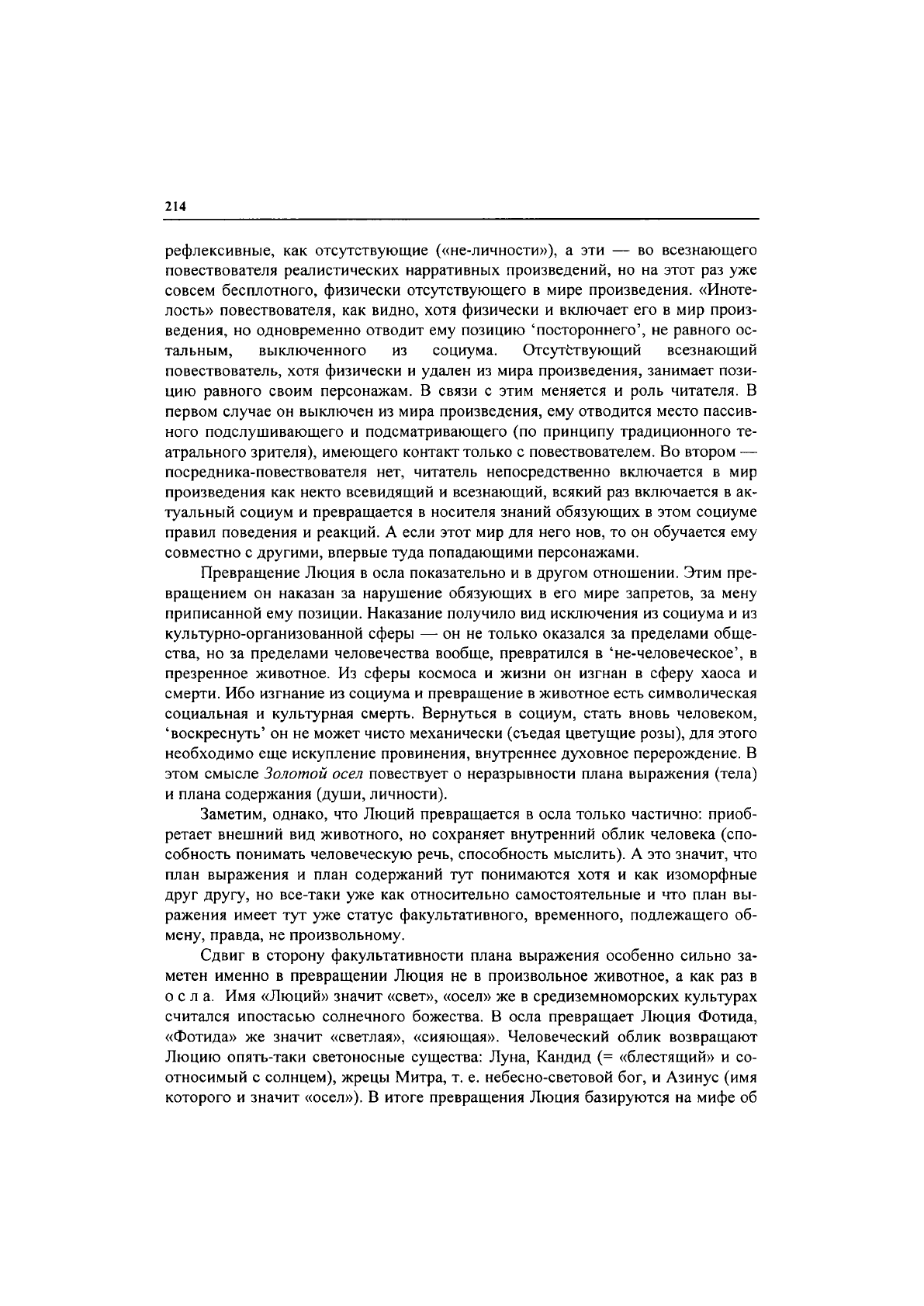
214
рефлексивные, как отсутствующие («не-личности»), а эти — во всезнающего
повествователя реалистических нарративных произведений, но на этот раз уже
совсем бесплотного, физически отсутствующего в мире произведения. «Иноте-
лость» повествователя, как видно, хотя физически и включает его в мир произ-
ведения, но одновременно отводит ему позицию 'постороннего', не равного ос-
тальным, выключенного из социума. Отсутствующий всезнающий
повествователь, хотя физически и удален из мира произведения, занимает пози-
цию равного своим персонажам. В связи с этим меняется и роль читателя. В
первом случае он выключен из мира произведения, ему отводится место пассив-
ного подслушивающего и подсматривающего (по принципу традиционного те-
атрального зрителя), имеющего контакт только с повествователем. Во втором —
посредника-повествователя нет, читатель непосредственно включается в мир
произведения как некто всевидящий и всезнающий, всякий раз включается в ак-
туальный социум и превращается в носителя знаний обязующих в этом социуме
правил поведения и реакций. А если этот мир для него нов, то он обучается ему
совместно с другими, впервые туда попадающими персонажами.
Превращение Люция в осла показательно и в другом отношении. Этим пре-
вращением он наказан за нарушение обязующих в его мире запретов, за мену
приписанной ему позиции. Наказание получило вид исключения из социума и из
культурно-организованной сферы — он не только оказался за пределами обще-
ства, но за пределами человечества вообще, превратился в 'не-человеческое', в
презренное животное. Из сферы космоса и жизни он изгнан в сферу хаоса и
смерти. Ибо изгнание из социума и превращение в животное есть символическая
социальная и культурная смерть. Вернуться в социум, стать вновь человеком,
'воскреснуть' он не может чисто механически (съедая цветущие розы), для этого
необходимо еще искупление провинения, внутреннее духовное перерождение. В
этом смысле Золотой осел повествует о неразрывности плана выражения (тела)
и плана содержания (души, личности).
Заметим, однако, что Люций превращается в осла только частично: приоб-
ретает внешний вид животного, но сохраняет внутренний облик человека (спо-
собность понимать человеческую речь, способность мыслить). А это значит, что
план выражения и план содержаний тут понимаются хотя и как изоморфные
друг другу, но все-таки уже как относительно самостоятельные и что план вы-
ражения имеет тут уже статус факультативного, временного, подлежащего об-
мену, правда, не произвольному.
Сдвиг в сторону факультативности плана выражения особенно сильно за-
метен именно в превращении Люция не в произвольное животное, а как раз в
осла. Имя «Люций» значит «свет», «осел» же в средиземноморских культурах
считался ипостасью солнечного божества. В осла превращает Люция Фотида,
«Фотида» же значит «светлая», «сияющая». Человеческий облик возвращают
Люцию опять-таки светоносные существа: Луна, Кандид (= «блестящий» и со-
относимый с солнцем), жрецы Митра, т. е. небесно-световой бог, и Азинус (имя
которого и значит «осел»). В итоге превращения Люция базируются на мифе об
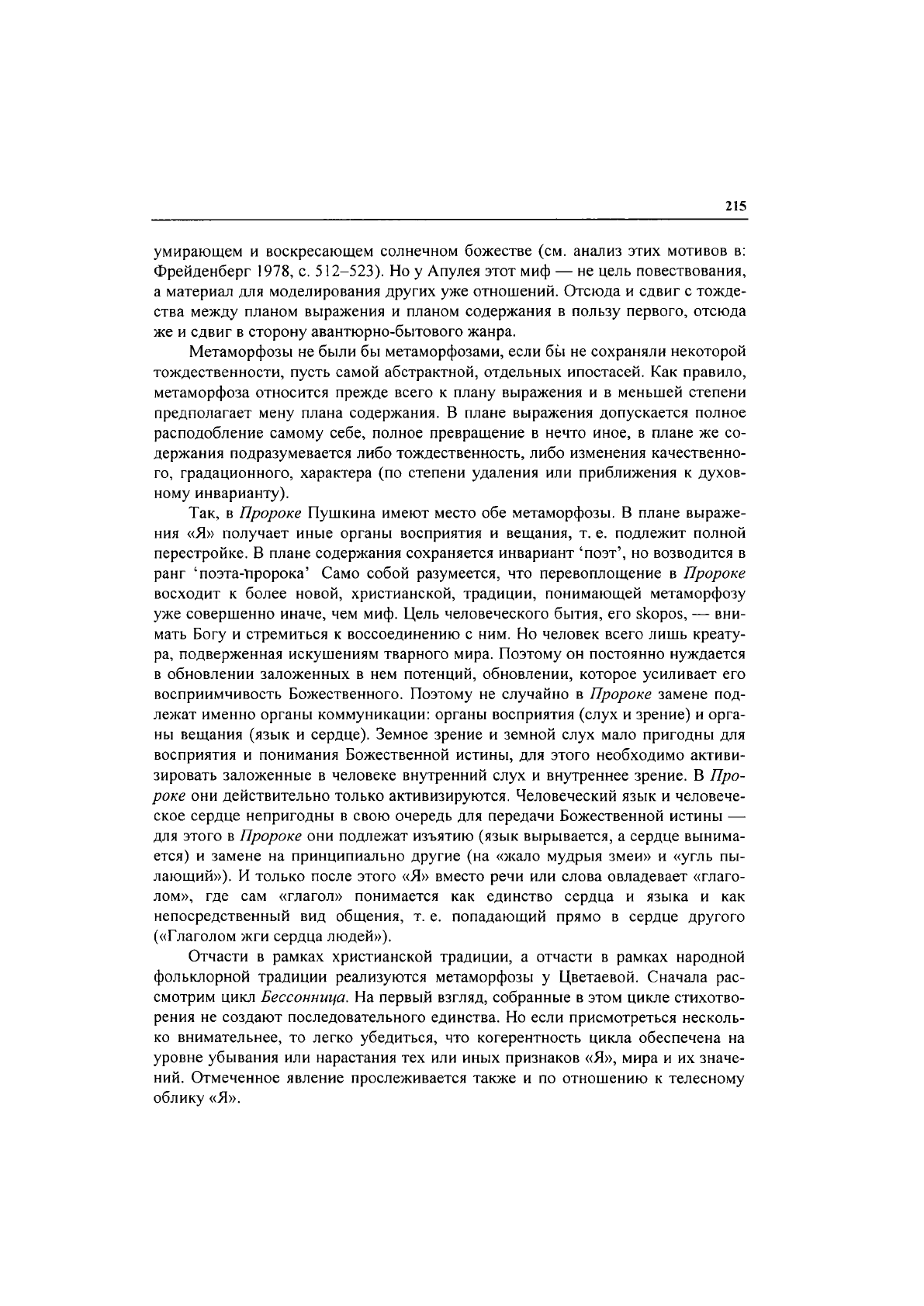
215
умирающем и воскресающем солнечном божестве (см. анализ этих мотивов в:
Фрейденберг 1978, с. 512-523). Но у Апулея этот миф — не цель повествования,
а материал для моделирования других уже отношений. Отсюда и сдвиг с тожде-
ства между планом выражения и планом содержания в пользу первого, отсюда
же и сдвиг в сторону авантюрно-бытового жанра.
Метаморфозы не были бы метаморфозами, если бы не сохраняли некоторой
тождественности, пусть самой абстрактной, отдельных ипостасей. Как правило,
метаморфоза относится прежде всего к плану выражения и в меньшей степени
предполагает мену плана содержания. В плане выражения допускается полное
расподобление самому себе, полное превращение в нечто иное, в плане же со-
держания подразумевается либо тождественность, либо изменения качественно-
го, градационного, характера (по степени удаления или приближения к духов-
ному инварианту).
Так, в Пророке Пушкина имеют место обе метаморфозы. В плане выраже-
ния «Я» получает иные органы восприятия и вещания, т. е. подлежит полной
перестройке. В плане содержания сохраняется инвариант 'поэт', но возводится в
ранг 'поэта-Тіророка' Само собой разумеется, что перевоплощение в Пророке
восходит к более новой, христианской, традиции, понимающей метаморфозу
уже совершенно иначе, чем миф. Цель человеческого бытия, его skopos, — вни-
мать Богу и стремиться к воссоединению с ним. Но человек всего лишь креату-
ра, подверженная искушениям тварного мира. Поэтому он постоянно нуждается
в обновлении заложенных в нем потенций, обновлении, которое усиливает его
восприимчивость Божественного. Поэтому не случайно в Пророке замене под-
лежат именно органы коммуникации: органы восприятия (слух и зрение) и орга-
ны вещания (язык и сердце). Земное зрение и земной слух мало пригодны для
восприятия и понимания Божественной истины, для этого необходимо активи-
зировать заложенные в человеке внутренний слух и внутреннее зрение. В Про-
роке они действительно только активизируются. Человеческий язык и человече-
ское сердце непригодны в свою очередь для передачи Божественной истины —
для этого в Пророке они подлежат изъятию (язык вырывается, а сердце вынима-
ется) и замене на принципиально другие (на «жало мудрыя змеи» и «угль пы-
лающий»). И только после этого «Я» вместо речи или слова овладевает «глаго-
лом», где сам «глагол» понимается как единство сердца и языка и как
непосредственный вид общения, т. е. попадающий прямо в сердце другого
(«Глаголом жги сердца людей»).
Отчасти в рамках христианской традиции, а отчасти в рамках народной
фольклорной традиции реализуются метаморфозы у Цветаевой. Сначала рас-
смотрим цикл Бессонница. На первый взгляд, собранные в этом цикле стихотво-
рения не создают последовательного единства. Но если присмотреться несколь-
ко внимательнее, то легко убедиться, что когерентность цикла обеспечена на
уровне убывания или нарастания тех или иных признаков «Я», мира и их значе-
ний. Отмеченное явление прослеживается также и по отношению к телесному
облику «Я».
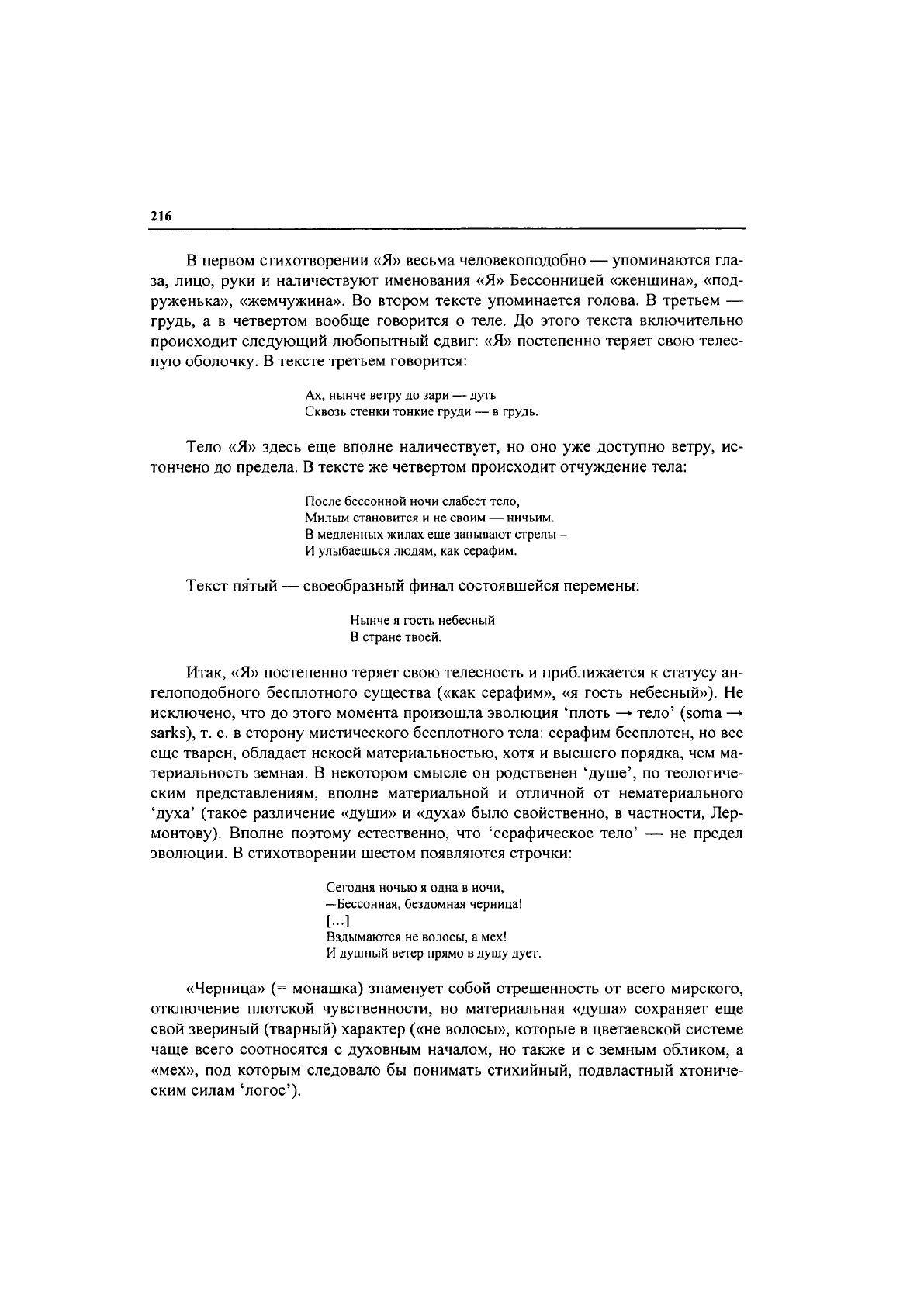
216
В первом стихотворении «Я» весьма человекоподобно — упоминаются гла-
за, лицо, руки и наличествуют именования «Я» Бессонницей «женщина», «под-
руженька», «жемчужина». Во втором тексте упоминается голова. В третьем —
грудь, а в четвертом вообще говорится о теле. До этого текста включительно
происходит следующий любопытный сдвиг: «Я» постепенно теряет свою телес-
ную оболочку. В тексте третьем говорится:
Ах, нынче ветру до зари — дуть
Сквозь стенки тонкие груди — в грудь.
Тело «Я» здесь еще вполне наличествует, но оно уже доступно ветру, ис-
тончено до предела. В тексте же четвертом происходит отчуждение тела:
После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим — ничьим.
В медленных жилах еще занывают стрелы -
И улыбаешься людям, как серафим.
Текст пятый — своеобразный финал состоявшейся перемены:
Нынче я гость небесный
В стране твоей.
Итак, «Я» постепенно теряет свою телесность и приближается к статусу ан-
гелоподобного бесплотного существа («как серафим», «я гость небесный»). Не
исключено, что до этого момента произошла эволюция 'плоть —> тело' (soma —>
sarks), т. е. в сторону мистического бесплотного тела: серафим бесплотен, но все
еще тварен, обладает некоей материальностью, хотя и высшего порядка, чем ма-
териальность земная. В некотором смысле он родственен 'душе', по теологиче-
ским представлениям, вполне материальной и отличной от нематериального
'духа' (такое различение «души» и «духа» было свойственно, в частности, Лер-
монтову). Вполне поэтому естественно, что 'серафическое тело' — не предел
эволюции. В стихотворении шестом появляются строчки:
Сегодня ночью я одна в ночи,
—Бессонная, бездомная черница!
[...]
Вздымаются не волосы, а мех!
И душный ветер прямо в душу дует.
«Черница» (= монашка) знаменует собой отрешенность от всего мирского,
отключение плотской чувственности, но материальная «душа» сохраняет еще
свой звериный (тварный) характер («не волосы», которые в цветаевской системе
чаще всего соотносятся с духовным началом, но также и с земным обликом, а
«мех», под которым следовало бы понимать стихийный, подвластный хтониче-
ским силам 'логос').
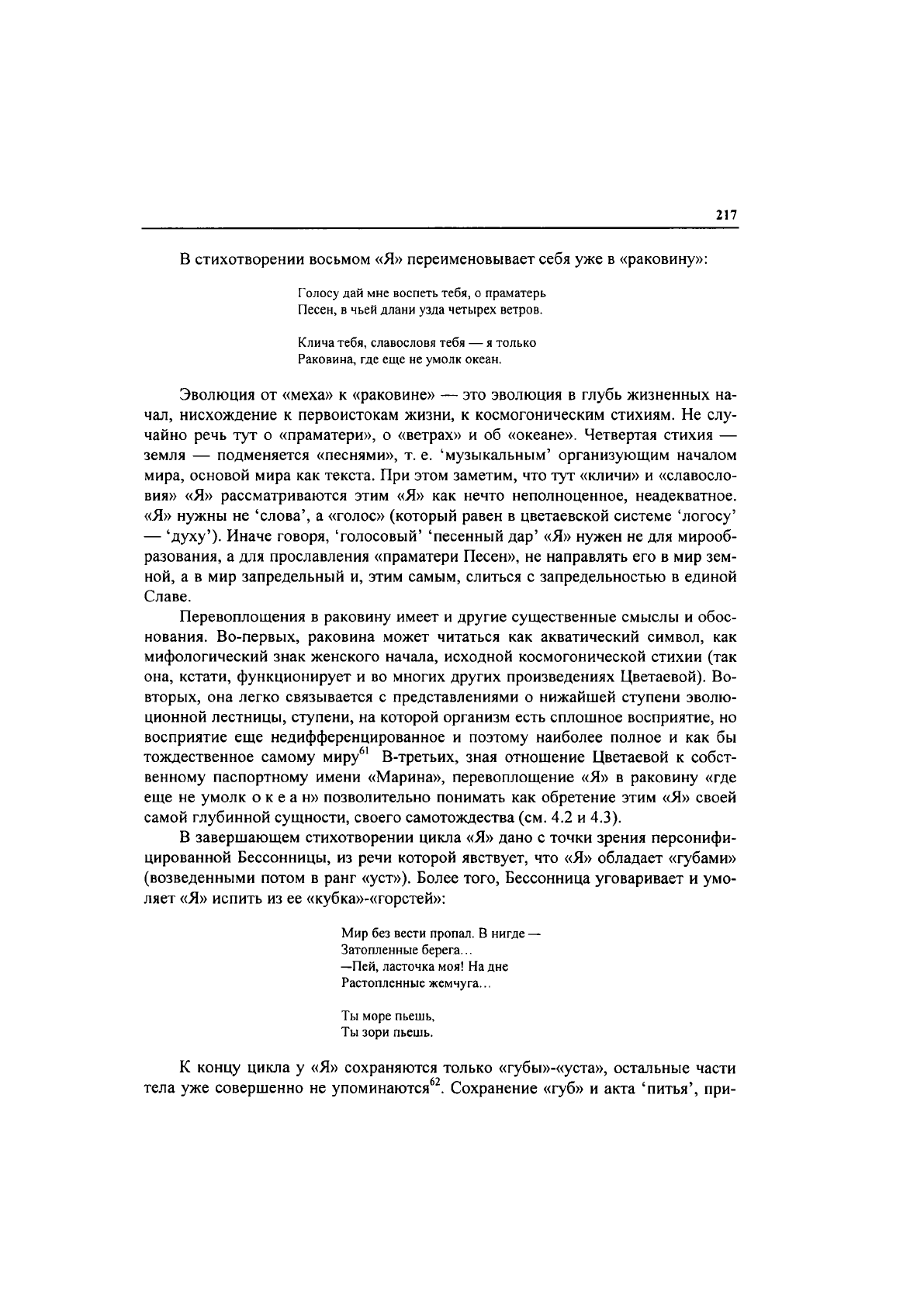
217
В стихотворении восьмом «Я» переименовывает себя уже в «раковину»:
Голосу дай мне воспеть тебя, о праматерь
Песен, в чьей длани узда четырех ветров.
Клича тебя, славословя тебя — я только
Раковина, где еще не умолк океан.
Эволюция от «меха» к «раковине» — это эволюция в глубь жизненных на-
чал, нисхождение к первоистокам жизни, к космогоническим стихиям. Не слу-
чайно речь тут о «праматери», о «ветрах» и об «океане». Четвертая стихия —
земля — подменяется «песнями», т. е. 'музыкальным' организующим началом
мира, основой мира как текста. При этом заметим, что тут «кличи» и «славосло-
вия» «Я» рассматриваются этим «Я» как нечто неполноценное, неадекватное.
«Я» нужны не 'слова', а «голос» (который равен в цветаевской системе 'логосу'
— 'духу'). Иначе говоря, 'голосовый' 'песенный дар' «Я» нужен не для мирооб-
разования, а для прославления «праматери Песен», не направлять его в мир зем-
ной, а в мир запредельный и, этим самым, слиться с запредельностью в единой
Славе.
Перевоплощения в раковину имеет и другие существенные смыслы и обос-
нования. Во-первых, раковина может читаться как акватический символ, как
мифологический знак женского начала, исходной космогонической стихии (так
она, кстати, функционирует и во многих других произведениях Цветаевой). Во-
вторых, она легко связывается с представлениями о нижайшей ступени эволю-
ционной лестницы, ступени, на которой организм есть сплошное восприятие, но
восприятие еще недифференцированное и поэтому наиболее полное и как бы
тождественное самому миру
61
В-третьих, зная отношение Цветаевой к собст-
венному паспортному имени «Марина», перевоплощение «Я» в раковину «где
еще не умолк океан» позволительно понимать как обретение этим «Я» своей
самой глубинной сущности, своего самотождества (см. 4.2 и 4.3).
В завершающем стихотворении цикла «Я» дано с точки зрения персонифи-
цированной Бессонницы, из речи которой явствует, что «Я» обладает «губами»
(возведенными потом в ранг «уст»). Более того, Бессонница уговаривает и умо-
ляет «Я» испить из ее «кубка»-«горстей»:
Мир без вести пропал. В нигде —
Затопленные берега...
—Пей, ласточка моя! На дне
Растопленные жемчуга...
Ты море пьешь,
Ты зори пьешь.
К концу цикла у «Я» сохраняются только «губы»-«уста», остальные части
тела уже совершенно не упоминаются
62
. Сохранение «губ» и акта 'питья', при-
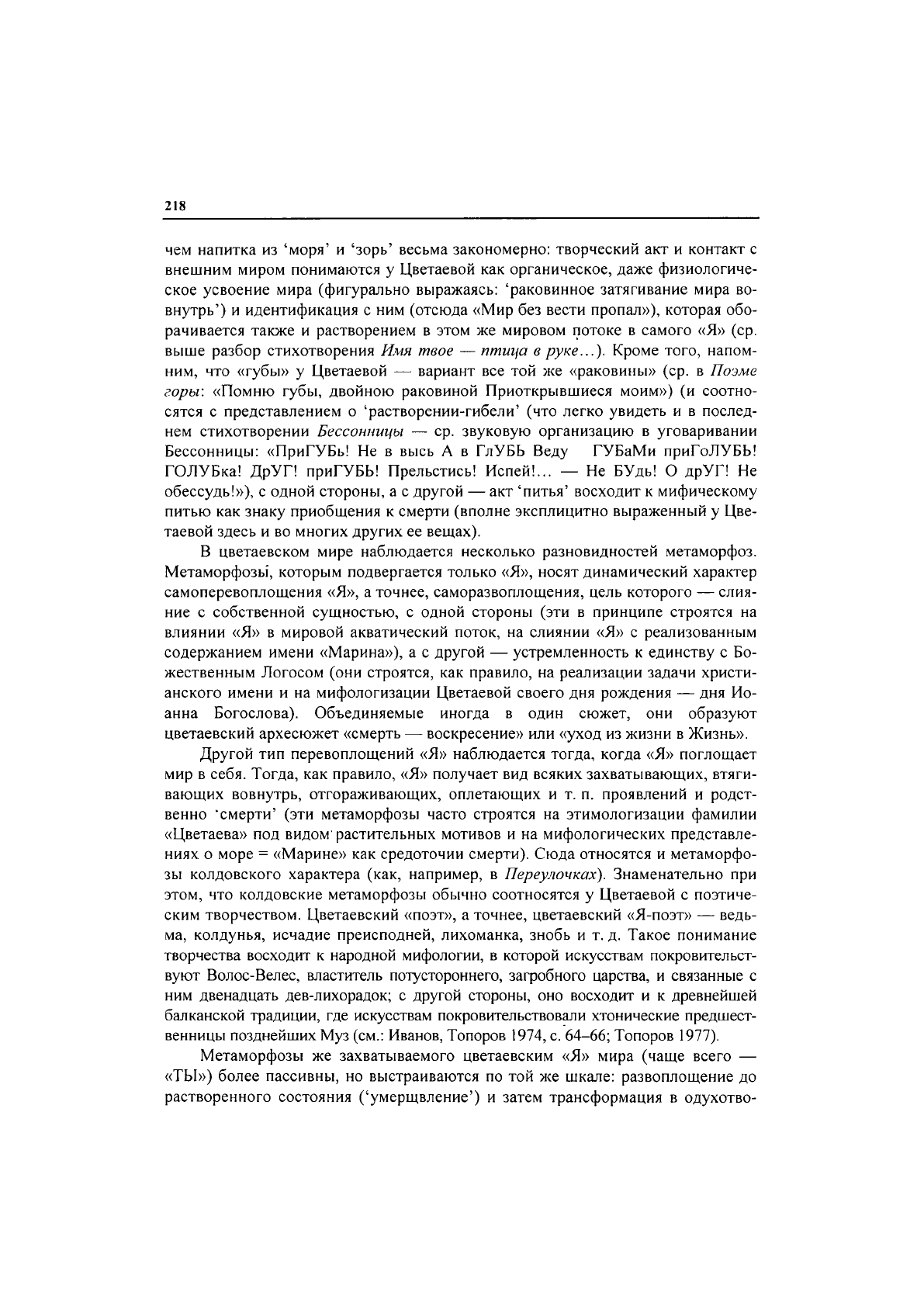
218
чем напитка из 'моря' и 'зорь' весьма закономерно: творческий акт и контакт с
внешним миром понимаются у Цветаевой как органическое, даже физиологиче-
ское усвоение мира (фигурально выражаясь: 'раковинное затягивание мира во-
внутрь') и идентификация с ним (отсюда «Мир без вести пропал»), которая обо-
рачивается также и растворением в этом же мировом потоке в самого «Я» (ср.
выше разбор стихотворения Имя твое — птица в руке...). Кроме того, напом-
ним, что «губы» у Цветаевой — вариант все той же «раковины» (ср. в Поэме
горы: «Помню губы, двойною раковиной Приоткрывшиеся моим») (и соотно-
сятся с представлением о 'растворении-гибели' (что легко увидеть и в послед-
нем стихотворении Бессонницы — ср. звуковую организацию в уговаривании
Бессонницы: «ПриГУБь! Не в высь А в ГлУББ Веду ГУБаМи приГоЛУБЬ!
ГОЛУБка! ДрУГ! приГУБЬ! Прельстись! Испей!... — Не БУдь! О дрУГ! Не
обессудь!»), с одной стороны, а с другой — акт 'питья' восходит к мифическому
питью как знаку приобщения к смерти (вполне эксплицитно выраженный у Цве-
таевой здесь и во многих других ее вещах).
В цветаевском мире наблюдается несколько разновидностей метаморфоз.
Метаморфозы, которым подвергается только «Я», носят динамический характер
самоперевоплощения «Я», а точнее, саморазвоплощения, цель которого — слия-
ние с собственной сущностью, с одной стороны (эти в принципе строятся на
влиянии «Я» в мировой акватический поток, на слиянии «Я» с реализованным
содержанием имени «Марина»), а с другой — устремленность к единству с Бо-
жественным Логосом (они строятся, как правило, на реализации задачи христи-
анского имени и на мифологизации Цветаевой своего дня рождения — дня Ио-
анна Богослова). Объединяемые иногда в один сюжет, они образуют
цветаевский архесюжет «смерть — воскресение» или «уход из жизни в Жизнь».
Другой тип перевоплощений «Я» наблюдается тогда, когда «Я» поглощает
мир в себя. Тогда, как правило, «Я» получает вид всяких захватывающих, втяги-
вающих вовнутрь, отгораживающих, оплетающих и т. п. проявлений и родст-
венно 'смерти' (эти метаморфозы часто строятся на этимологизации фамилии
«Цветаева» под видом растительных мотивов и на мифологических представле-
ниях о море = «Марине» как средоточии смерти). Сюда относятся и метаморфо-
зы колдовского характера (как, например, в Переулочках). Знаменательно при
этом, что колдовские метаморфозы обычно соотносятся у Цветаевой с поэтиче-
ским творчеством. Цветаевский «поэт», а точнее, цветаевский «Я-поэт» — ведь-
ма, колдунья, исчадие преисподней, лихоманка, знобь и т. д. Такое понимание
творчества восходит к народной мифологии, в которой искусствам покровительст-
вуют Волос-Велес, властитель потустороннего, загробного царства, и связанные с
ним двенадцать дев-лихорадок; с другой стороны, оно восходит и к древнейшей
балканской традиции, где искусствам покровительствовали хтонические предшест-
венницы позднейших Муз (см.: Иванов, Топоров 1974, с. 64-66; Топоров 1977).
Метаморфозы же захватываемого цветаевским «Я» мира (чаще всего —
«ТЫ») более пассивны, но выстраиваются по той же шкале: развоплощение до
растворенного состояния ('умерщвление') и затем трансформация в одухотво-
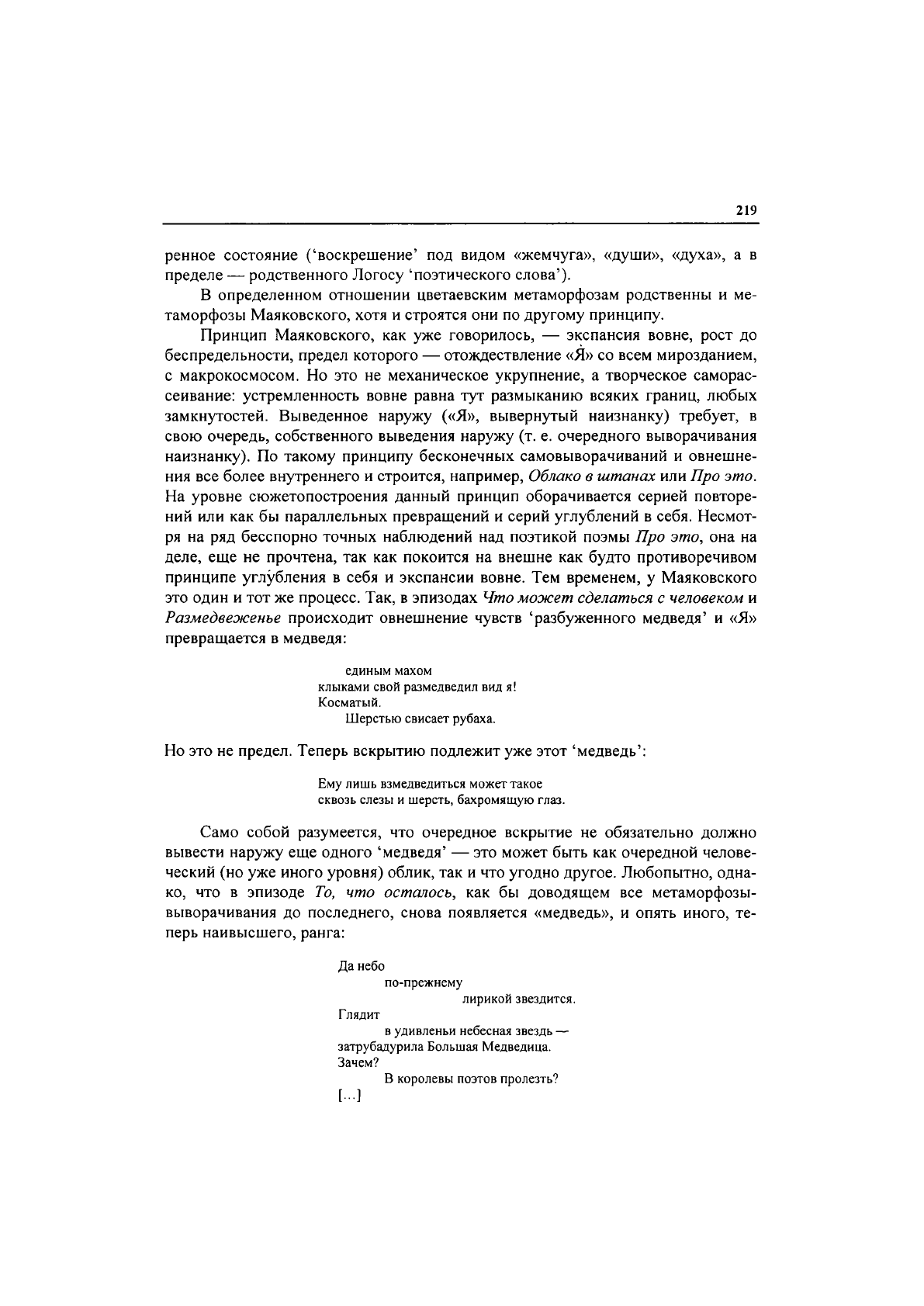
219
ренное состояние ('воскрешение' под видом «жемчуга», «души», «духа», а в
пределе — родственного Логосу 'поэтического слова').
В определенном отношении цветаевским метаморфозам родственны и ме-
таморфозы Маяковского, хотя и строятся они по другому принципу.
Принцип Маяковского, как уже говорилось, — экспансия вовне, рост до
беспредельности, предел которого — отождествление «Я» со всем мирозданием,
с макрокосмосом. Но это не механическое укрупнение, а творческое саморас-
сеивание: устремленность вовне равна тут размыканию всяких границ, любых
замкнутостей. Выведенное наружу («Я», вывернутый наизнанку) требует, в
свою очередь, собственного выведения наружу (т. е. очередного выворачивания
наизнанку). По такому принципу бесконечных самовыворачиваний и овнешне-
ния все более внутреннего и строится, например, Облако в штанах или Про это.
На уровне сюжетопостроения данный принцип оборачивается серией повторе-
ний или как бы параллельных превращений и серий углублений в себя. Несмот-
ря на ряд бесспорно точных наблюдений над поэтикой поэмы Про это, она на
деле, еще не прочтена, так как покоится на внешне как будто противоречивом
принципе углубления в себя и экспансии вовне. Тем временем, у Маяковского
это один и тот же процесс. Так, в эпизодах Что может сделаться с человеком и
Размедвеженъе происходит овнешнение чувств 'разбуженного медведя' и «Я»
превращается в медведя:
единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
Шерстью свисает рубаха.
Но это не предел. Теперь вскрытию подлежит уже этот 'медведь':
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.
Само собой разумеется, что очередное вскрытие не обязательно должно
вывести наружу еще одного 'медведя' — это может быть как очередной челове-
ческий (но уже иного уровня) облик, так и что угодно другое. Любопытно, одна-
ко, что в эпизоде То, что осталось, как бы доводящем все метаморфозы-
выворачивания до последнего, снова появляется «медведь», и опять иного, те-
перь наивысшего, ранга:
Да небо
по-прежнему
лирикой звездится.
Глядит
в удивленьи небесная звездь —
затрубадурила Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
[...]
