Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество
Подождите немного. Документ загружается.


рангах.
Но то, чего пыталась избежать российская титульная система, стихийно вырабатывалось в стенах
административных присутствий, палат и канцелярий. Служебные отношения порой
воспроизводили
556
классическую систему средневекового вассалитета: личное подчинение здесь было определяющим. Та
система отношений, при которой в продвижении по службе чиновник находился в полной зависимости
от своего начальника, придавало его отношению к вышестоящему лицу характер личной зависимости.
Любое недовольство подчиненным, по делу или без оного, вызванное серьезной ошибкой или мелким
недоразумением, могло стоить служебной карьеры. Попавший в немилость из-за случайного слова или
искоса брошенного взгляда был обречен годами оставаться без продвижения по службе, протирая
локти за канцелярским столом. Эти отношения распространялись и на жизнь вне служебных стен.
Любой желающий сделать карьеру должен был считаться с этой системой и строго блюсти не только
свое рабочее место, но и частную жизнь. Жестко нормированная, подчиненная разнообразной, иногда
самой мелочной регламентации жизнь дворянина в городе выработала в противовес сложившимся
формам регулирования частного быта противоположные им по мотивации и психологическому со-
держанию формы неофициального дворянского поведения. Праздничные дворянские собрания, балы,
маскарады, частные приемы, карточные игры призваны были снять или ослабить психическое
напряжение, характерное для жизни чиновника, эмоционально разгрузить, внести элемент
демократизма во внутрисословную среду дворянства. Подобные мероприятия, как отмечал Ю.М.
Лотман, были «областью непринужденного общения, светского отдыха, местом, где границы
служебной иерархии ослаблялись. Присутствие дам, танцы, нормы светского общения вводили
внеслужебные ценностные критерии, и юный поручик, ловко танцующий и умеющий смешить дам,
мог почувствовать себя выше стареющего, побывавшего в сражениях полковника».
1
Но все это в целом лишь смягчало или отчасти компенсировало, но не устраняло общего напряжения
городской жизни. К тому же, эти формы иррациональной, иррегулярной жизни часто приобретали
социально-негативный оттенок и выступали основой формирования деструктивной жизненной
позиции. Искатели любовных приключений, карточные игроки, несдержанные на язык или просто
подвыпившие, праздные пустословы становились источником существования целой армии разного
рода жуликов, картежных шулеров, интриганов, интимных дельцов-махинаторов, ростовщиков и т. п.
«ловцов душ», кормившихся человеческими слабостями. Эта «оборотная жизнь» дворянина в городе
открывала теневую сторону обеспеченного существования «благородного» сословия, часть которого
погрязала в спекулятивных сделках и разного рода мошенничествах, порой ценой ломки судеб близких
людей. «Пико-
557
вая дама» А.С. Пушкина и «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, произведения А.В. Сухове-Кобылина, Ф.М.
Достоевского и многих других авторов создали впечатляющий образ теневой жизни города,
погрязшего в чаду алкогольных испарений и сигарного дыма, где целый мир вмещался в колоду
игральных карт, превращая человека в фантом, блуждающий в мире людей-призраков.
Подпольная городская жизнь являлась неиссякаемым источником многочисленных слухов, домыслов и
просто досужих россказней, на время занимавших «регулярные» умы служилой аристократии и
освежавших праздные мысли их жен, членов семей и их сатрапов. В подобных толках, без которых
дворянская жизнь утратила бы некоторые из своих маленьких прелестей, неизменно преобладало
негативное отношение к этой скрытой стороне городской жизни. И уж конечно, служебная
зависимость на одном полюсе, компенсируемая возможностью «предаваться пороку» на другом, не
могла стать объектом положительной оценки городского образа жизни в целом.
Идеал общественного бытия дворянского сословия виделся никак не в городе. Дворянин, проведший
детство в стенах родительской усадьбы, выросший на просторе деревенских лугов, воспитанный в
тишине усадебных покоев, окруженный узким кругом близких людей, научившийся с детства ценить и
понимать природу, должен был, пребывая на суровой государственной службе, бережно хранить
образы счастливого уголка своего детства, своей «отчины». Разорванность дворянской культурной
традиции, ее «раздвоенность» между городом и деревней усугублялась сознанием вынужденности
пребывания в городе и добровольности выбора деревни, уже этим обусловливая психологическую
склонность к идеализации традиционного уклада жизни в семейной усадьбе.
2
Отсюда молодой
дворянин отправлялся в город для получения образования и прохождения служебной карьеры, и затем
всю последующую жизнь возвращение сюда ассоциировалось в его сознании с обретением свободы,
ограниченной городским укладом и условностями этикета.
Литературный аграризм у истоков «усадебного мифа»
Задолго до того, как в дворянской традиции сложился интимный образ семейной усадьбы, что

требовало определенной степени развития личности, осознания себя частным лицом, в русской
культуре оформился аграрный идеал «большого» общества, исходящий
558
из того же противопоставления городской цивилизации. Этот утопический идеал можно считать
предтечей будущего мифа о дворянской усадьбе и его мировоззренческим основанием. По своему
характеру аграрная утопия XVIII столетия задала основной контекст развитию классической
русской культуры на протяжении всего ее исторического развития.
Перелом петровской эпохи, происходивший на глазах всего нескольких поколений и сохранивший
в памяти немало связанных с ним преданий, поставил русскую общественную мысль перед за-
дачей его осмысления. Вместе с тем, к середине века прошло уже достаточно времени для того,
чтобы можно было оценить некоторые последствия деятельности Петра и установленных им
порядков. Грандиозность преобразований начала века придала общественному сознанию этой
эпохи традицию мыслить глобальными историческими категориями в цивилизационных
масштабах. Наиболее яркие образцы такого рода мышления мы встречаем в художественной
литературе, которую всегда отличала чуткость к современным ей социальным проблемам.
В основе происходящего цивилизационного сдвига виделся культурный разрыв, сопровождаемый
нагнетанием социального конфликта и оцениваемый как историческая трагедия и проблема,
требующая исторического разрешения, средством которого представлялось возвращение к
истокам земледельческой культуры и хозяйства.
Городская цивилизация создала в обществе прослойку, оторванную от интересов большинства
населения. Близость к власти и возможность легкой наживы породили культивирование в городе
совершенно особого рода ценностей и формирование особого типа социального поведения с
преимущественной установкой на обогащение за счет другого. Следствием этого неизбежно
должно было стать разорение народа, картины которого были широко известны современникам.
Риторическая картина будущего такого общества представлена одним из романов М.М. Хераскова
в образе Рима, решившего жить наперекор Природе, покорившего все вокруг, ведущего
беспрестанную войну с соседями и разоряющего собственный народ. Наивные земледельцы,
поддавшись соблазнам легкой наживы, забрасывают свои поля и из деревни («юдоли добродете-
ли») подаются в Рим за славой и богатством. Вся страна превращается вскоре в вооруженную
стаю, промышляющую грабежом и не желающую знать ничего кроме войны.
И только римский царь Нума Помпилий, подвигнутый нимфой Эгерой, был призван вывести
народ из -состояния беспрестанной войны с соседями и друг с другом. Взойдя на Авентинский
холм, с вершины которого были «видны дикие пространные и терном за-
559
глушенные поля, лежащие вкруг Рима», Нума услышал обращение Эгеры: «Царь сея земли и
народа! Простри свои взоры на безобразный вид сей пустыни и пожалей о небрежении подданных,
не знающих или не хотящих знать своей пользы! Простри свои взоры на сии места бесплодные...
На что вам такое земель пространство, такие места плодородные? Ежели вы пользоваться ими не
хотите, вы похищаете у других право хлебопашества... Ежели вы надеетесь на свое оружие и на
храбрость свою, которыми обогатиться чаете, то уступите свои поля вашим соседям, кои лучше
ими владеть умеют... Ненавидьте труды, свойственные человеку, гремите военным оружием, лейте
кровь свою и ближних своих и думайте, что вы других людей превосходнее; но не восставайте
против самой природы, и не лишайте ее прав, ей принадлежащих. Она украшалась зелеными
травами, она, рассыпая по полям цветы благоуханные, наслаждается чистым воздухом, покоится
между прозрачных источников...; она, любя человеческий род, призывает его и говорит ему: чада,
из утробы моей изшедшие! для вас я землю обращаю растениями, для вас леса приятною зеленью
покрываю, для вас чистый воздух в полях растворяю: придите, собирайте плоды, мною вам
приготовленные! теките ко мне на пир... Так гласит Природа; но вы гласу ее не внемлете,
угощение презираете, и в суетной славе чести и довольства ищете...»
3
Критика войны и жажды богатства превращается у Хераскова в критику язычества,
поклоняющегося идолам, сотворенным самим человеком: «Если в сем истукане воображаешь ты
настоящего создателя вселенныя, объемлющего бесконечное число и пространство миров: то
сколь тесные границы полагаешь величеству и сил Его!... Ты, приходя к сему капищу, был
освещаем солнцем, над тобою горящим: для чего не повергся ты на колена и не принес
благодарность Всевышнему, что очи твои, его творения при солнечных лучах видят? Ты шел по
земле, питающей всех человеков: для чего не приник ты к ней, и, лобызая ее, не сказал ей: тобою
познаю щедроту Бога моего к себе?...»
4

Воодушевленный словами нимфы, Нума, долго отказывавшийся от царского венца, принимает его
и обращается с воззванием к народу, собравшемуся вокруг своего нового правителя: «Отложа
мысли о пустой своей славе (воинской) <...> обратите все ваше старание о землепашестве; вот
прямое богатство ваше. <...> Орудия для землепашества имеете в руках ваших; ваши щиты, ваши
стрелы, мечи и копья <...> сии смертные орудия да превратятся в серпы и плуги, мир и
благоденствие знаменующие. Приложите храбрые руки ваши к очищению полей и размножению
плодов...» Правитель сам разделяет земли и проводит первую борозду. «Тако Нума
560
привлек народ свой к землепашеству, от которого зависит благосостояние государства. Сам он,
отложа царский венец и скипетр, первый плуг провождает; весь народ за ним следует. Уже
слышится рев волов, плуги влекущих; младые агнца на лугах расчищенных в жирной траве
пасутся; стада овец и коз, млеком полных, скаканием своим под тению древес зеленых радость и
свободу свою возвещают. Уже сокровища Природы из недр земных извлекаются; обильная жатва
покрывает пространные поля, источниками чистых вод орошаемые... Рим одевается извне новыми
красотами, которые одна Натура в своих недрах сокрывает, и чувствам подает сладкое оживление,
награждая прилежного земледельца...»
5
Возрождение природы превращается в картину всеобщего Преображения мира: «Кажется, что
вдруг новые люди, новые поля, новые леса и реки рождались вокруг Рима. Отовсюду видны сады
зеленеющие и благовонные древеса, плоды приносящие. Рим, сей Рим, который задолго до сего
вертепом разбойников казался, ныне вертоградом представляется».
6
Гимн земледелию
превращается в гимн природе и богу.
Тот же образный ряд и то же идейное содержание мы встречаем в другом романе Хераскова —
«Кадм и Гармония». Процветающий город, порабощающий все вокруг себя, изображается земным
вертоградом, но этот рай оказывается источником рабства и трагедии. Символ «вертограда» здесь
выражает полную противоположность человеческому и природному началам жизни.
Урбанистическая утопия «вертограда» превращается в космическую силу, преобразующую
природу и человека, но это преображение несет с собой смерть. Поддавшись городским
соблазнам, обуреваемый тщеславием и жаждой роскоши, правитель Беотии Кадм решается
возвести себе в своей столице Фивах дворец, превосходящий роскошью величие Природы.
«...Столпы великие из каменных гор иссекаются; звенящая медь уясняется под тяжкими млатами,
злато в горниле растворяется; Тигр и Седон багряницу Фивам приносят; волна беотий-ская в
тонкую обращается пряжу, ко украшению стен служащею; земледелатели в художников
преображаются; дети от состарившихся их родителей для работы похищаются, башни и стены
Царского дома до облаков возносятся; но взрытые на полях бразды не посеяны остаются; орало
лежит на ниве без действия; волы влекут не жатву, но дикий камень по градским улицам; водные
потоки от их естественного течения уклоняются, и не к общему напоению, но к устроению
шумящих водометов в Царском Вертограде служат...»
7
Жена Кадма Гармония вопрошает своего
мужа: «Что ты делаешь? Чуешь ли ты, что новое царство созидаешь? Увы! ты подавляешь в его
пеленах едва родившееся царство». Осознав, что он
561
творит, Кадм оставляет царство, покидает свою страну и вслед за ним отправляется верная ему
Гармония. На чужбине супруги находят благословенный участок никому не принадлежащей земли
и становятся землепашцами. Очистившись длительным праведным трудом, они пускаются в
путешествие по земле и в разных странах стараются просветить народы открытой ими истиной.
Характерный круг идей, отражающих потребности российского общества, привлекался в
литературу и из иностранных произведений. По переводным памятникам можно судить о
характере актуализации тех или иных содержащихся в них мировоззренческих тенденций.
Наибольшую популярность в русском обществе во второй половине XVIII в. имели
«Приключения Телемаха» Фенелона, «Ар-генида» Джона Барклая, «Урания» Х.-А. Тидге,
«Узонча» и «Альфреда» Альбрехта Галлера и, конечно же, знаменитая «Утопия» Томаса Мора.
Даже беглое знакомство с этими произведениями позволяет определить причину их невероятной
популярности. Все они, так или иначе, содержат обоснование преимуществ аграрного строя перед
городской цивилизацией. Можно предположить, что русские переводчики к тому же
дополнительно усиливали содержащиеся в этих произведениях аграристские «мотивы», как это
было у Тредиаковского в его вольном переводе Фенелона.
Рассуждая на страницах фенелоновской «Телемахии» о путях развития цивилизации, богиня
Минерва (Афина) устами спутника Телемаха Ментора высказывает, например, следующую мысль:

«Надобно подобно искусному садовнику отсекать от плодоносных деревьев бесплодные ветви,
стараясь таким образом пресечь бесполезную пышность, повреждающую нравы». Она же советует
«приводить все вещи к благородной и умеренной простоте» («благополучие в умеренности»)
8
.
Прочие поучения Ментора (Минервы) поразительно напоминают советы, даваемые херасковскими
нимфами Эгерой и Гармонией своим избранникам. Творения Фенелона и прочих иностранных
авторов, по всей видимости, послужили жанровым образцом для многочисленных утопических
произведений русских писателей.
Три года спустя после выхода в свет французского издания Утопии Томаса Мора появилась
крупная работа князя М.М. Щербатова в жанре классической утопии «Путешествие в землю
Офир-скую г-на С... швецкаго дворянина» (1783-1784). В этом произведении откровенно, как
никогда прежде, реализовалась попытка художественного изображения истории России и
стремление заглянуть в ее будущее.
Некий «швецкий дворянин», попавший после кораблекрушения на неизвестную европейцам
землю, встречает в ней порядки,
562
удивительно напоминающие российские. Имена правителей, названия городов и населенных
пунктов за счет перестановки букв позволяют определить их подлинные прототипы: Квамо —
старая столица государства, Перегаба — новая столица, построенная царем Перегой. История
земли Офирской — щербатовская интерпретация истории России с гипертрофированной ролью в
ней Петербурга. Потомки царя Перега, осмыслив все негативные последствия для государства,
связанные с положением новой столицы, принимают мудрое решение возвратить этот статус
Квамо. Причины переноса столицы жители утопической земли Офирской называют следующие:
1. Государи наши, быв отдалены от средоточного положения своей империи, знание о внутренних
областях оные потеряли.
2. Хотя город Квамо и оставлен был по древности его и положению (сие) учиняло, что всегда
стечение лучшей и знатнейшей части народа в оном было, а сии, не видев как род своих
государей, любовь и повиновение к ним потеряли.
3. Вельможи, жившие при государях, быв отдалены от своих деревень, позабыли состояние
земской жизни, а потому потеряли и познание, что может тягостно быть народу, и оный налогами
стали угнетать.
4. Быв сами сосредоточены у двора, единый оный отечеством своим стали почитать, истребя из
сердца своего все чувства об общем благе.
5. Отдаление же других стран чинило, что и вопль народный не доходил до сей столицы.
9
Ни насаждение торговли, ни строительство новых городов, ни рост числа городских жителей, по
мнению Щербатова, не может принести пользы, если этот процесс оторван от органической жизни
народа, связанной в России почти исключительно с сельским хозяйством. «Не побудит... торговлю
многое число названных мещанами и впадших в роскошь людей, но побудит ее сельская жизнь,
воздержанность и трудолюбие, которые конечно несравненно менее, не взирая на все учреждения,
в городах находятся, нежели в деревнях. А такмо надлежит иметь города в таком расстоянии еди-
ный от другого, чтобы в два или три дни мог земледелец доехать для продания плодов его трудов;
а ежели и в сем расстоянии совершенно удобных мест и нужных к составлению городов нет, то,
уч-редя торг и ярмарки, довольное спокойствие жителям деревенским можно сделать...»
10
Главной цивилизационной проблемой, которая стояла перед российским обществом, Щербатов
считает соотношение города и деревни. Эту проблему он решает в характерных для русского со-
563
знания пространственных категориях. Поэтому она предстает у писателя как проблема
организации социального пространства.
Прошло 1700 лет со времени возвращения столицы в Квамо, земля Офирская превратилась с тех
пор в процветающее царство. Утопическое государство Щербатова — страна земледельцев, она не
знает крупных городов. Власть в ней приближена к народу и поэтому разделена на местную
(земскую) и центральную. «Чего ради многие... учреждения правительства не в городах, но по
деревням, на сие бы я мог кратко вам ответствовать, что стольких городов нет... Правительства
учреждаются для жительства страны, а потому и должны они тако быть расположены, чтобы
каждому удобно было к оным прибегнуть, чего ради каждому такому нижнему правительству и
приписать округи. Но как не везде в таковых округах нашли-ся города, то и в самых деревнях их
учредили; ибо — не наименование города, не сословие жителей градских, но учрежденное прави-
тельство управляет делами, и тем еще с вящей удобностью, что градские дела и упражнения не

отнимают у судей времени дела земские исполнять... В единое время хотели таковые места
городами учинить. Сии не произвели никакой другой пользы, кроме приведения в распутство
судей и отнятия жителей от земледелия, дабы их разоренными и развратными мещанами учинить,
а городов, достойных сего наименования, не завели: ибо и подлинно не от воли государя или
правительства зависит соделать город, но надлежит для него удобность места, стечение народа, и
самый достаток жителей. По счастию вскоре сии неудобства были усмотрены, переименованные
деревни в города опять деревнями большая часть осталась и поневоле, в касту купецкую и
мещанскую вошедшие, крестьяне с радостью и с пользою себе и государству к оранию полей
возвратились...»
11
Основной мотив утопии Щербатова — возвращение к земледельческим истокам. Разрыв истории
или ее перелом требует огромных жертв от народа, но приносит ему только беды; возвращение к
аграрным корням знаменует наступление тысячелетнего царства всеобщего счастья и
процветание.
Земля Офирская — это антитеза просветительской идеи равенства, сословное или «кастовое», по
словам Щербатова, общество. В нем каждому сословию отведено свое определенное положение. И
главная роль цементирующего и всесвязующего начала принадлежит в нем дворянству, владельцу
земли и организатору всей хозяйственной жизни земледельческого населения. Охране прав
дворянства на землю и их регулированию государством служит весь механизм местной власти.
Особое место в присутственной палате всех департаментов утопической страны принадлежит
многотомному собранию алфавит-
564
ных книг деревень и земель, содержащих строгий учет движения земель на протяжении 1200 лет.
Механизм наследования, принятый в утопической земле Офирской, основан на соблюдении прин-
ципа единонаследия с обязательством выплаты остальным потомкам денежного эквивалента их
доли в рассрочку в течение 15 лет (с уплатой 4%) или же предоставлением возможности покупки
ими земли с правом получения для этой цели денежной ссуды. Механизм движения земли
обеспечивает безусловную выгодность приобретения владения и заведомую невыгодность его
продажи с предпочтительным правом покупки земли родственниками продавца.
12
Щербатовскую дворянскую утопию отделяет от предшествующих литературных утопий лишь
несколько лет. Но эти годы составили целую эпоху в русской истории. Это было время крестьян-
ской войны под руководством Е.И. Пугачева. Вполне естественно, что «Путешествие в землю
Офирскую...» наряду с усилением акцента на исторической роли дворянства вносит немало
существенных корректив в осмысление аграрного строя России. Кратко это новое видение можно
определить как вытеснение идеи морали в качестве основы общественного бытия идеей закона. Но
самое удивительное и, в то же время, характерное состоит в том, что Щербатов в своей аграрной
утопии совершенно игнорирует крестьянство, образ которого у него попросту отсутствует или
сливается с описанием земель, поместий и поселений. Вместо барочных пасторальных образов
пастушек и пастушков, наслаждающихся благами природы, у Щербатова появляется некая темная
стихия земли. Отдавая дань прославлению просвещенного правительства, его утопия призвана
обозначить силу, способную упорядочить, ввести в русло эту стихийную земную жизнь, обуздать
ее рамками закона. Произведение Щербатова стало первой, достаточно яркой попыткой пред-
ставить русское дворянство в качестве источника этого порядка. Власть и Земля, Город и Деревня
видятся автору как зоны цивили-зационного разрыва, нуждающиеся во взаимосвязи, носителем
которой и становится дворянство.
Цветущий вертоград
У истоков усадебного мифа стояло распространенное в период, предшествовавший романтизму,
представление о мире в образе Вертограда, цветущего сада, сотворенного Божьим промыслом.
«Вертоград многоцветный» как символ полноты и богатства природного мира в эпоху усадебного
строительства становится и воплоще-
565
нием мечты человека о полноте бытия и близости к природе, архе-типического стремления к
космическому мироощущению. Усадебный парк или сад представляется результатом
человеческой деятельности (град), носящей в себе ургийное начало (верто — верчение,
коловращение — идея творения нового мира). Но в то же время он остается символом
космического, божественного промысла, мыслится как результат божественного творения. В
образе сада-вертограда господствует идея союза божественной Природы и Человека-творца.
Вырвавшись из-под власти Земли человек познал всю горечь такого существования. Теперь, в

лице русского дворянина, культура обретает осознанную позицию цивилизованного человека: воз-
вратиться в лоно природы, обретя независимость, почувствовав в себе индивидуальные силы,
соединить их с силами природы во благо общества. В этом движении дворянства к земле, в
стремлении к усадебному строительству просматривается тот мощный утопический порыв,
который предвещал новый всплеск развития русской цивилизации.
Земная природа (Натура) оценивается как Божий сад, творение Всевышнего, так же и
насажденный человеком сад ассоциируется с его создателем-творцом, человеком, замыслившим
(спланировавшим, разработавшим) и сотворившим (насадившим и взрастившим) его.
13
Рациональное и природное начала соединяются здесь воедино, насыщаются исторической
символикой и одухотворяются чаемым присутствием богов. Парковые и усадебные сады
украшались статуями языческих богов, олицетворявших силы природы, наделялись статусом
священного пространства (Храм). Это был мир, творимый подлинным Героем, вступившим в спор
или диалог с самой Натурой, озаренным небесным вдохновением и взывающим к небесному
снисхождению и покровительству.
Там все велико, все прелестно, Искусство славно и чудесно; Там истинный Армидин сад, Или великого Героя
Достойный мирный вертоград, Где он в объятиях покоя Еще желает побеждать Натуру смелыми трудами И
каждый шаг свой означать Могуществом и чудесами, Едва понятными уму. Там в тихой мрачности лесов Везде
встречаются Сильваны,
566
Подруги скромный Дианы —
Там каждый мрамор — Бог, лесочек всякий храм.
Герой, известный всем странам,
На лаврах славы отдыхая,
И будто весь Олимп взывая
К себе на велелепный пир,
С Богами торжествует мир.
Карамзин. Письма русского путешественника
Образ царя-Героя определяет особый царственный статус Человека-творца, перекликающийся с
образами Бога и монарха в эпоху барокко. Идея божественной Природы здесь дополняется идеей
божественного Искусства, вдохновляющего Творца-основателя.
Там смелость с пышностью искусств соединенны,
В обворожении все представляют нам;
Великолепные сады Алыщны там,
Или Армидины чертог и вертограды,
Обитель роскоши, и неги, и прохлады.
Нет, это не мечта. Зрим въяве пред собой
Тот замок, те сады, в которых царь-герой,
Ни с кем и в отдыхе деятельном несходный,
Всегда возвышенный, повсюду благородный,
Пылает страстию препятства побеждать,
И чудесами трон блестящий окружать.
Я углубляюся лесов дремучих в сень,
Встречаю в чаще древ то Фавна, то Сильвана;
Венера милая и скромная Диана
Присутствием дают жизнь новую лесам:
Здесь каждый мрамор — бог; лесочек каждый — храм.
Здесь Людвиг отдыхал от битв, побед гремящих,
И мнилось, весь Олимп на пиршествах блестящих
Роскошно угощал: вот торжество Искусств!
Делилъ. Сады (пер. Воейкова)
Устремленность к миру богов и героев обозначает утопический порыв эпохи предромантического
и романтического мироощущения. Посредством садово-паркового пространства человек
стремился к достижению единства природно-космического и человеческого начала. Именно здесь
просматривается основная тенденция сентиментализма — воспевание чувствительности.
Однако мир усадебного сада — это и пространство рода: к нему примыкали кладбища, где
хоронились умершие предки, воплощавшие связь поколений. В творении собственного мира
человек — творец и новатор — обретает статус Героя-Первопредка, возвращающегося в свое
космическое Отечество. В этом качестве он уподобляется богам — творцам космоса. Сад всегда
существует в проек-
567
ции двух миров, и бытие человека в пространстве сада оказывается существованием в мире Богов

и Предков.
Особая эмоциональная нагруженность поэтических образов сада обнаруживает скрывающуюся за
ним мифопоэтическую картину мира. Сад — это образ Вселенной, модель мира; отметим, мира
идеального, сакрального, преисполненного энергией и чистотой, трепещущего во всей
страстности сокрытого в нем утопического заряда. Это чаемый Восток, алтарь мирозданья.
Образы сада расслаиваются на три космических уровня: сад богов, сад людей и сад мертвых.
14
Причем человеку в этом мире-саду уготована особая функция ухода и надзора, которая в архаи-
ческом мифе всегда принадлежала богам. В качестве посредника между мирами хозяин сада
наделяется качествами героизма, царственности, богатырства, которыми обладали далекие предки.
Кладбище пред тобой! Во мраке сосн сгущенных Спят праотцы селян в гробах уединенных...
Воейков
Там праотцы села, в безмолвии унылом, Почивши навсегда глубоким сном лежат...
Жуковский
Тема любви к «отеческим гробам» и «родному пепелищу» станет составной частью русской
классической литературной традиции.
Эта невольная отсылка к памяти предков, ощущение родственной близости и единства поколений
совершенно по-особому трансформировало сентиментальные настроения. Они обретали допол-
нительный (помимо гедонистического культа чувственных наслаждений) духовный настрой,
окрашенный мотивами присутствия поколений предков. Ощущение полноты мира обретает теперь
дополнительную эмоциональную окраску, особенно через осознание утраты близких.
Усадебный парк или сад представлялся реальным местом, где осуществляется священный союз
мертвых и живых с природой или через природу. В этом мироощущении дерево обретало статус
души человека, ушедшего в мир иной. То или иное дерево, куст рассматривалось и как своего рода
след или двойник (в качестве отражения или составной части) чувств и переживаний живого
человека.
Природа в поэзии садов — всегда воплощение чувственного мира людей:
И кто не испытал в сей жизни огорчений? Кто слез не проливал над прахом дорогим?
568
Передавай печаль лесам, цветам своим! Чувствительный во всем себе друзей находит; Он горесть разделить
с деревьями приходит: Уже над мирною гробницей обнялись Задумчивая ель, унылый, нежный тис, И ты,
почивших друг, о кипарис печальный! Ты, охраняющий в могиле пепел хладный, Ты ближний нам, родной:
любовник мирты рвет, Для победителей зеленый лавр растет; Им славу и любовь охотно уступаешь И сам в
печалях нам и горе сострадаешь. Делиль. Сады (пер. Воейкова)
Цивилизационная актуальность образов сада привлекла внимание русской образованной
общественности к мировой литературной традиции «описания садов». Многочисленные переводы
Вергилия, Мильтона, Делиля и других поэтов, воспевающих сады, предпринимали в разное время
Палицын, Карамзин, Жуковский, Воейков и многие другие.
Примечателен в этой связи интерес русских переводчиков к поэме Делиля «Сады». «Позиция
Делиля, оттенки которой тонко улавливались <...> его русскими читателями, была позицией
умеренного просветителя, чуждого руссоистских „крайностей". Не случайно Карамзин видел его
портрет в фернейской обители Вольтера. <...> В центре внимания Делиля — сад — образ
Вселенной, не порывающей с природой, но умело усовершенствующий ее плодами цивилизации и
труда человека. Как и Вольтер и энциклопедисты, Делиль считает, что искусство человека
продолжает божественный акт творения. Мысль эта была близка поэтам московской школы».
15
Образом сада снимались противоречия, «животного и человеческого», «дикости и культуры»,
«варварства и цивилизации», «архаического и исторического», «чувственного и рационального».
Синкретическая подоснова поэтики Сада превращала его в самый привлекательный образ эпохи
культурного расцвета любого общества и любой эпохи. Для культуры романтизма важно было
совместить умозрительное, медитативное начало описания природы с глубиной философского
размышления. В эпоху нового времени актуальность приобрело стремление соединить поэзию с
наукой, разум с духом. И здесь образ сада оказался наиболее адекватен историческим веяниям.
Констатируя близость поэмы Боброва «Таврида» к поэме Делиля в переводе Воейкова, Ю.М.
Лотман выделяет общие черты и устремления культурной эпохи, их породившей: «Обе они
пейзаж-но-описательны, в обеих микрокосм пейзажа метафорически свя-
569
зан с микрокосмом человеческой личности и человеческого общества. И именно эта личность
Человека, а не авторская индивидуальность выступает как носитель точки зрения теиста. Наконец,
обе поэмы находятся под сильным влиянием научной поэзии с ее особым тяготением к
терминологии и изложению теорий, классификаций... Наклонность к научности, использованию в

поэзии ботаники, географии, минералогии и других естественных наук, а также этнографии,
исторических экскурсов сделалось характерной чертой всей описательной поэзии, признаком
жанра».
16
К тому же жанру относятся обретшие популярность темы «четырех времен года», «четырех частей
дня» и т. п., возвращающие человека в космический контекст существования, к подлинному
бытию, а также поэтические «натюрморты» и гастрономические описания и зарисовки природы,
которые удивительно сливаются в едином полотне «усадебной поэзии».
Усадебный миф с доминирующей мифологемой Сада включал в себя и историческую
составляющую вместе с мощным эпическим началом: деяниями творца-предка — строителя
усадьбы и «насадителя Сада» — и историей поколений предков. Постоянно обозначается связь
между древностью рода или родового владения и «началом славных дел» предка-основателя. Эти
образы перекликались с конкретной эпохой исторических свершений. В России это, как правило,
эпоха «славных дел» Петра Великого. В этом историческом контексте разворачивается локальная
(усадебная) историческая перспектива: от принятия «дикого» имения — земли — до ее окульту-
ривания и превращения в цветущий сад — мифическую Аркадию, библейский Эдем, утопическую
Арголиду. Вся мифологема усадьбы-сада проповедует идею подобия человека Богу и Царю-
основателю, человек изображается как продолжатель божьего и государева дела, отмеченный
печатью божественного промысла и царственного снисхождения.
К этой мифологеме были неравнодушны и русские правители. Известно, какое внимание и
действительный интерес проявляли к усадебному строительству Екатерина II, Павел I, Александр
I и другие цари. Александр, например, посещал все имения своих дворян, хоть в чем-нибудь
снискавшие известность в свете: будь то красотой парков и садов, богатыми урожаями, умелой
организацией хозяйства или выдающейся архитектурой. Организацию своих имений дворянами
русские цари считали, по выражению Петра Великого, «общим благом» и государственным делом.
Этот усадебный идеал в той или иной степени разделяли в практической жизни все русские
дворяне-помещики, решившие посвятить себя хозяйству. Надежда быть полезным в своей
приватной
_^„„„,»^V/ \J\JM^
<
fj\jIIl:O\J
усадебной жизни обществу, народу и государству звучала и в частной переписке: «Долг людей,
избранных по своему происхождению и богатству, действительно служить и поддерживать
государство, — писал, например, А. И. Барятинский. — Какой досуг благороднее заботы по
украшению своих нив прекрасными фермами, хорошими сельскими постройками, в которых
дышит довольствие и чистота, покрывать свои поля прекрасными урожаями и улучшать их каж-
дый год систематическими полеразделениями? Все радует просвещенного агронома!
Обыкновенно знание и занятие земледелием люди откладывают до зрелого возраста. Люди
воображают, что когда они больше не в состоянии служить своему отечеству, и ни на что уже не
годны, они могут, по крайней мере, спокойно сажать у себя дома капусту... странная и гибельная
ошибка. Я спрашивал у всех рассудительных людей: не превосходят ли пользою всех великих
полководцев или известнейших дипломатов нашего века такие люди, как покойный герцог
Бедфордский, и такие, как теперь еще живущие господин Кок в Англии, или как господин
Ластейри, Домбаль и т. д. во Франции, или Фелленберг в Швейцарии, или Таер (все имена
выдающихся агрономов и хозяйственников. — С.Д.) в Германии? Вот настоящие цивилизаторы
наций, опоры общества, благодетели рода человеческого».
17
Усадебная пространственная утопия соединялась в этом идеале с родовым фамильным
дворянским мифотворчеством и реальной историей, с насущными потребностями общественного
развития. Это движение дворянства становилось основой мощного культурного подъема начала
XIX в., послужившего истоком культурного взрыва классической эпохи «золотого века» русской
культуры. Идея созидания-обретения национальной классики, связанной непременно с
обращением к земле, творческому труду, к взращиванию своего сада, была актуальна и
осознавалась наиболее образованной, творчески активной и деятельной частью русского обще-
ства. Русская литература отвечала этому насущному стремлению и шла к собственному
воплощению этой идеи в продолжение второй половины XVIII и всего XIX в.
Образы «усадебного мифа»
Русская аграрная утопия не строится на тотальном отчуждении деревни и города, но ценности
городской и сельской цивилизаций во многом представляются ею как противоположные. Искусст-
венному городскому миру, творимому человеческим разумом, способным заблуждаться,
противопоставляется естественно-природное
571
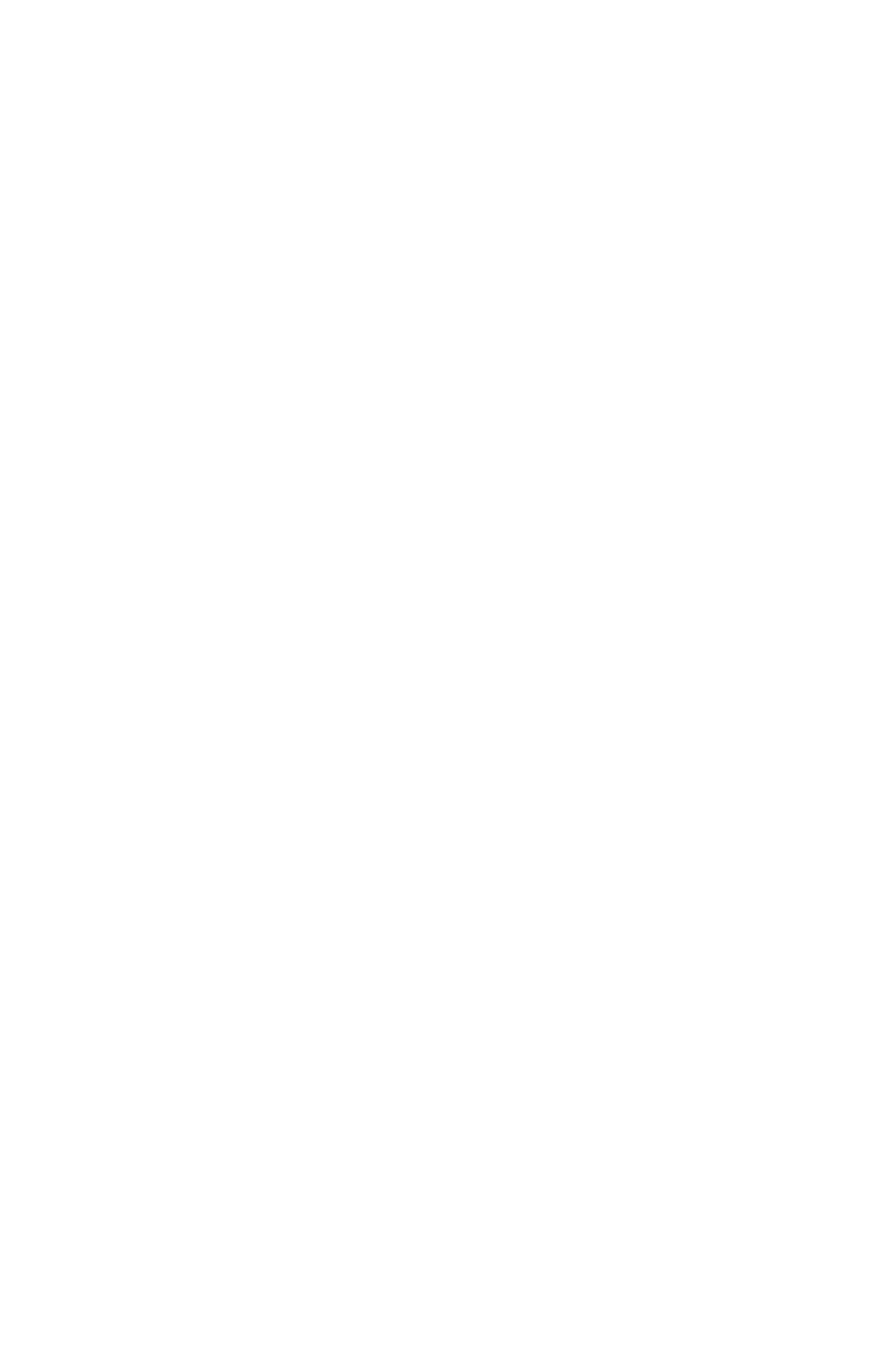
начало сельской жизни, идея гармонии с природой. Интеллектуальная рациональность выступает
как антитеза соответствия естественному. Так, например, читаем у П.А. Вяземского:
Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;
Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала,
О нем дружелюбной заботой полна,
Язык для него обретала.
Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в спасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.
Но, чувство презрев, он доверил уму; Вдался в суету изысканий... И сердце природы закрылось ему, И нет
на земле прорицаний.
Приметы. 1839
Или у Тютчева, который определяет этот конфликт понятием «разлад»:
...Невозмутимый строй во всем, Созвучье полное в природе, — Лишь в нашей призрачной свободе Разлад
мы с нею сознаем. Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И
ропщет мыслящий тростник?
1865
Как видим, настроение и круг идей русской литературы XVIII и XIX вв. весьма схожи, что
отражает генетическую преемственность русской культуры в целом. Однако к началу XIX
столетия с изменением общественного сознания в русскую литературу проникают не известные ей
прежде лирические мотивы. И общественная мысль в своих утопических устремлениях уже не
ограничивается только абрисом аграрной цивилизации. Она конкретизируется, наполняется
поэтикой частного и через него открывает новые перспективы общественного.
Именно на этом этапе рождается новое ощущение Родины. Прежнее понимание Отчизны как
самодержавного государства ус-
572
тупает место более интимному образу Отечества, предстающего в качестве малого родного
уголка, домашнего уюта, красоты и неповторимой прелести природы, осознанию нерасторжимой
связи внутреннего, духовного мира человека и его внешнего окружения. Мотив возвращения на
малую родину, в семейное «гнездо» стал доминирующим в русской литературной традиции,
например, у Баратынского:
Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров! Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Родина. 1821
Мотив возвращения сопровождается у Баратынского потребностью ощутить общность с
предшествующими поколениями, обрести внутреннюю целостность, утраченную в отрыве от них.
Призрачному успеху в городе противопоставляется настоящее, подлинное счастье:
...Не призрак счастия, но счастье нужно мне. Усталый труженик, спешу к родной стране Заснуть желанным
сном под кровлею родимой. О дом отеческий! о край, всегда любимый!..
Науке размерять окопы боевые —
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
О, ратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы...
Через чувство Родины, ее пейзажные фрагменты, складывающиеся в целостную картину,
приходило и осознание социальной связи сословий. И то место, которое в русском пейзаже
занимает крестьянская тема, свидетельствует о полном соответствии этого жанра европейской
традиции. Само понятие «пейзаж» (производное от peasant «крестьянин») подразумевает описание
сценок крестьянской жизни. Эволюция европейского пейзажного жанра совершалась в двух
направлениях: описании природы как таковой с естественным восприятием человека как ее
органической части, и в соответствии с требованиями массовой .культуры, ждущей сенти-
ментальных «барокканских пасторалей» с излюбленным мотивом пастушков и пастушек, который

мог тиражироваться в бесчисленном количестве вариантов. В русской литературе рубежа XVIII-
573
XIX вв. мы фактически находим истоки жанра русского пейзажа, осваивающего природу новым
литературным языком.
И неизменным его компонентом является крестьянская тема, иногда явно, а чаще всего скрыто
присутствующая в пейзажных зарисовках. Например, в «Возвращении весны» Г.Р. Державина:
...Зелень всюду и цветки Стелют по земле коврами; Рыбы мечутся из вод; Журавли, виясь кругами Сквозь
небесный синий свод, Как валторны возглашают; Соловей гремит в кустах, Звери прыгают, брыкают, Глас
их вторится в лесах. Горстью пахарь дождь на нивы Сеет вкруг себя златой, Белы паруса игривы Вздулись
на море горой...
Возвращение весны. 1797
Или у Н.М. Языкова:
...Я озирал сей неба свод, Великолепный и безмолвный, Сии круги и ленты вод, Сии ликующие нивы, Где
серп мелькал трудолюбивый По золотистым полосам; Скирды желтелись, там и там Жнецы к товарищам
взывали, И на дороге, вдалеке, С холмов бегущие к реке Стада пылили и блеяли.
Тршорское. 1826
Крестьянин изображается здесь как часть природы, подобно растительности, птицам, зверям,
рыбам. Характерен сам мотив «возвращения весны». С приходом ее обновляется природа, оживает
все вокруг, просыпается и крестьянин, пробуждается трудовая жизнь, выступающая
продолжением жизни природы. Все слито во всеобщем природном цикле — полная идиллия,
гармония бытия, не знающего расторжения, поэтика языческого мотива вечного обновления,
умирания и пробуждения к жизни как воплощение универсальной цикличности бытия,
сопряженная с христианской символикой Воскресения и Преображения. Этот синтез выступает в
торжественных образах просветления (нарастающего к концу сти-
574
хотворения), органически вплетающих в себя понимание труда как радости священнодейства.
Те же мотивы в усиленной сентименталистской трактовке мы встречаем у Карамзина:
Весна с улыбкою приходит;
За нею следом мир течет.
На персях нежныя Природы
Играет, резвится Зефир.
Дождь тихий с неба к нам лиется
И все творение живит;
В полях все травы зеленеют,
И луг цветами весь покрыт.
Овечки кроткие гуляют
И щиплют травку на лугах;
В сердцах любовь к Творцу питают —
Без слов его благодарят.
Пастух играет на свирели,
Лежа беспечно на траве;
Питаясь духом благовонным,
Он хвалит красоту весны...
Весенняя песня меланхолика. 1788
Трактовка темы здесь абсолютно та же, что и в других образцах этого жанра. Образ крестьянина
рисуется скорее через собственное мироощущение автора. Для сознания писателя, не знающего тяжес-
ти сельского труда, занятие пастуха представляется подобием изнеживающей идиллии. Растительная
жизнь составляет существо сельского бытия, не предполагающего ни порыва творчества, ни энергии
созидания. Перед нами жизнь растительного царства без цели, без исторического вызова, без какого бы
то ни было целеполагания.
Со временем мировоззрение Карамзина менялось. В 1793 г. он создает стихотворение с более
тревожным мироощущением, принимающим форму крестьянских чаяний:
Мать любезная, Природа! От лазоревого свода Дождь шумящий ниспошли Оросить лице земли! Все
томится, унывает; Зелень в поле увядает; Сохнет травка и цветок — Нежный ландыш, василек Пылью
серою покрыты, • Не питает их роса... Дети матерью забыты! Солнце жжет, палит леса.
575
Истощилася река. Агнец пищи не находит: Черен холм и черен дол. Конь в степи печально бродит; Тощ и слаб
ревущий вол. Ах, такой ли ждал награды Земледелец за труды? Гибнут все его плоды!.. В горькой части без
отрады Он терзается тоской; За себя, за чад страдает И блестящею слезой Хлеб иссохший орошает.
Молитва о дожде. 1793
Отношение крестьянина к природе по-прежнему видится автору как пассивно-созерцательное. Но
слепая, рабская зависимость, покорность и безропотность становятся уже объектом осмысления и
социальной оценки, предполагающей сочувствие крестьянской доле.
