Бережнова М.Л. (отв. ред.). Интеграция археологических и этнографических исследований сборник научных трудов. Часть 1
Подождите немного. Документ загружается.

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства
в области охраны культурного наследия
Министерство культуры Республики Татарстан
Академия наук Республики Татарстан
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник «Казанский Кремль»
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Омский филиал Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН
Сибирский филиал Российского института культурологии
ИНТЕГРАЦИЯ
археологических и этнографических
исследований
Сборник научных трудов
ЧАСТЬ 1
Казань, Омск
2010
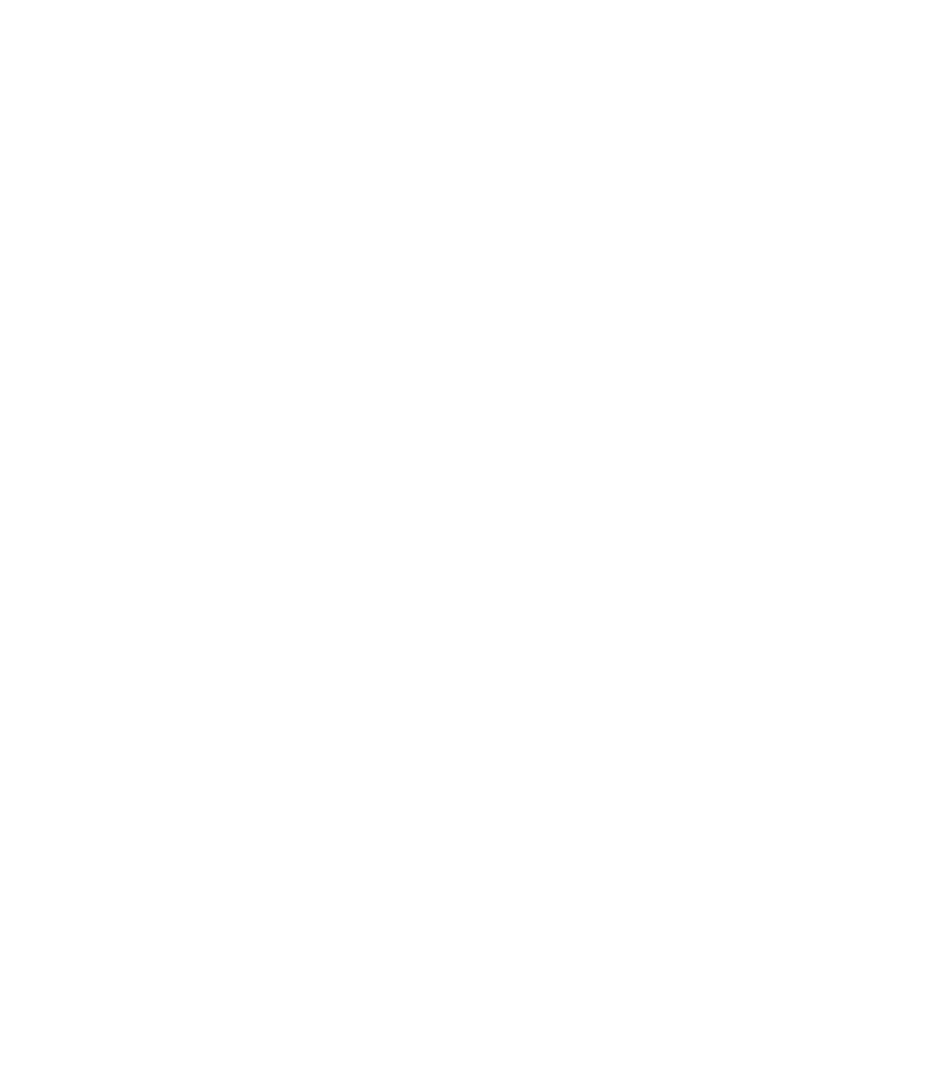
УДК 930.26+39
ББК 63.40+63.50
И 73
И 73 Интеграция археологических и этнографических исследований: сборник науч-
ных трудов. Часть 1 / отв. ред. М.Л. Бережнова, С.Н. Корусенко, Р.С. Хакимов,
Н.А. Томилов (гл. ред.). – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2010. –
468 с.
ISBN 978-5-94981-156-6
Данный сборник подготовлен на основе материалов Международного форума «Цифровые техно-
логии в системе инноваций сферы сохранения культурного наследия» и включает статьи XVIII Меж-
дународного научного симпозиума «Интеграция археологических и этнографических исследований»,
посвященного 80-летию со дня рождения Павла Ивановича Пучкова и 80-летию со дня рождения
Альфреда Хасановича Халикова (Казань, 6–8 октября 2010 г.).
Представлены статьи археологов, этнографов и ученых ряда смежных наук Азербайджана, Арме-
нии, России, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Украины, посвященные проблемам интеграции
археологических и этнографических исследований. Содержится ряд статей по методологическим,
теоретическим, историографическим и методическим проблемам археолого-этнографической интег-
рации, а также ряд материалов, посвященных результатам конкретных исследований археологических
памятников и традиционных культур. Особенностью данного сборника является то, что в него вклю-
чены работы, посвященные изучению и реконструкции костюма традиционных культур.
Книга рассчитана на специалистов в области этноархеологии, археологии, этнографии, истории,
культурологии, лингвистики и других наук.
ББК 63.40+63.50
Рецензенты:
д-р ист. наук Т.Б. Никитина
д-р ист. наук Г.Р. Столярова
Редакционная коллегия:
д-р ист. наук Н.А. Томилов (гл. ред.), канд. ист. наук М.Л. Бережнова (отв. ред.), канд. соц.
наук Г.Ф. Габдрахманова, канд. ист. наук М.А. Корусенко, канд. ист. наук С.Н. Корусенко (отв.
ред.), канд. ист. наук А.В. Матвеев, акад. РАН В.И. Молодин, И.М. Нестеренко, д-р ист. наук
Д.Г. Савинов, канд. ист. наук А.Г. Ситдиков, канд. ист. наук С.Ф. Татауров, канд. ист. наук Л.В. Та-
таурова, канд. ист. наук К.Н. Тихомиров, канд. ист. наук М.Н. Тихомирова, канд. ист. наук С.С. Ти-
хонов, канд. ист. наук Р.Р. Хайрутдинов, д-р ист. наук Р.С. Хакимов (отв. ред.), д-р ист. наук
Ю.С. Худяков.
ISBN 978-5-94981-156-6 © Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2010
© Омский филиал Института археологии и
этнографии СО РАН, 2010

3
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СТЫКЕ
АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И СМЕЖНЫХ НАУК
А.В. Жук
Россия, Омск, государственный университет
ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОТАНИН: МЕЖДУ НАУКОЙ
И ПОЛИТИКОЙ (К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Григорий Николаевич Потанин (1835–1920), которому в понедельник 21 сентября (4 октября)
этого года исполняется 175 лет, широко известен своими заслугами в деле археологического и этно-
графического изучения Азиатской России. Однако, многие наши современники воспринимают его не
только (и даже не столько) как ученого, сколько как общественного деятеля.
В этом, разумеется, нет ничего необычного, и мы знаем не
мало примеров, когда в трудах иссле-
дователя гармонично сочетались наука и политика. Показателен в этом отношении младший совре-
менник Г.Н. Потанина, председатель Императорской Археологической Комиссии в 1886–1917 гг. граф
Алексей Александрович Бобринской (1852–1927). Сверх того, он был камергером Императорского
Двора, сенатором, членом Государственного Совета, депутатом 3-й и 4-й Государственных Дум, уезд-
ным и губернским предв
одителем С.-Петербургского дворянства, членом Совета Русского Собрания и
Совета Монархических Съездов, председателем Совета Объединенного Дворянства, а накануне
революции 1917 г. – еще и обер-гофмейстером Императорского Двора, и товарищем министра внутрен-
них дел, и министром земледелия.
Примечательно, что все это нисколько не мешало графу А.А. Бобринскому не то
лько оставаться
одним из самых значительных организаторов отечественной археологической науки того времени, но и
энергично собирать древности и произведения искусства, а также вести серьезную исследовательскую
работу, включая археологические раскопки, истолкование и публикацию добытого раскопками мате-
риала. Более того, у нас есть все основания говорить о графе А.А. Бобринском как об ар
хеологе даже
после того, как он оказался в эмиграции.
К сожалению, в случае Г.Н. Потанина мы видим пример совсем другого рода. И начать следует с
того, что сам Григорий Николаевич никак не может быть назван ученым-самородком. Ибо путешест-
венником, в частности, он был, как минимум, во втором поколении. Отец Григория Николаев
ича,
строевой казачий офицер Николай Ильич Потанин (1801–?), выполнил за время государевой службы до
десятка маршрутов по при-Иртышским степям. Он доходил до Ташкента и Коканда, его отчетные
рапорты хорошо известны в истории покорения и изучения Киргизской степи. Эти рапорты печатались
в наших военных журналах еще в 1830-е гг., а затем в изда
ниях Императорского Русского Географиче-
ского Общества. Разумеется, никакого отношения к политике Н.И. Потанин во всю свою жизнь не имел.
Первой по времени военно-научной экспедицией для младшего, 18-летнего Потанина, только что
произведенного в хорунжие 8-го казачьего полка из Сибирского Кадетского Корпуса, стал поход в
Заилийский край 1853–1854 гг. по
д началом подполковника М.Д. Перемышльского. Осенью 1853 г.
этот отряд заложил русский форпост в Семиречье – укрепление Верное (известное впоследствии как
город Алма-Ата).
А уже на исходе года молодой офицер Г.Н. Потанин получает первое самостоятельное задание –
командировку в Кульджу для доставки серебра в русское консульство. Это ведь счастье для всякого
хо
рошо воспитанного молодого человека середины XIX в. – объездить за полтора года весь мир от
Омска до Семиречья и Кульджи! Затем Григорий Николаевич очень плодотворно для себя, как начи-
нающего исследователя, послужил на пограничной линии в верховьях Бухтармы и, наконец, апогеем
ученого старта молодого сотника Г.Н. Потанина стал перевод в 1856 г. в Омск для ра
збора архива
Правления Сибирского казачьего войска.
По прибытии в С.-Петербург Г.Н. Потанин становится, 21 апреля 1862 г. членом-сотрудником
Императорского Русского Географического Общества. Позднее, уже получив университетскую под-
готовку, Григорий Николаевич примет участие в экспедиции астронома К.В. Струве 1863 г. на Зайсан и
в область Черного Иртыша. Закономерным итогом научно-ис
следовательских трудов молодого Г.Н. По-
танина стала должность секретаря Томского Губернского Статистического Комитета, в которую он
вступил 29 лет от роду.
Но, к сожалению, общественно-политические соблазны сначала в Омске, а затем и в С.-Петер-
бурге, где вышедший в отставку Г.Н. Потанин обучался на естественно-историческом отделении
физико-мате
матического факультета Императорского Университета, – эти соблазны привели его на
скамью подсудимых. Разумеется, обвинение в намерении «отделить Сибирь от России и основать в ней
4
республику по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов», – это обвинение, в контексте
совершавшейся тогда продажи Аляски, прозвучало как прямое издевательство со стороны власть
предержащих. Но, тем не менее, Г.Н. Потанин «со товарищи» были наказаны, конечно же, за дело.
На помощь талантливому, перспективному, но несколько увлекающемуся общественной деятель-
ностью со-члену пришло И
мператорское Русское Географическое Общество. В 1873 г. Г.Н. Потанин
награждается серебряной медалью по Отделению Этнографии, а на следующий, 1874 г., по ходатайству
Общества, Григорий Николаевич Высочайше получает помилование с возвращением всех прав
состояния. Прямым ответом на милость Императора Александра II стало участие Г.Н. Потанина в под-
готовке дополнений к переводу III-го тома тр
уда Карла Риттера «Землеведение Азии». А летом 1876 г.
берет начало серия Центрально-Азиатских экспедиций, которые, собственно, и составили впоследствии
славу Г.Н. Потанина как ученого [4, с. 72, 90, 104].
Казалось бы, жизненный путь Григория Николаевича складывается по наилучшему из возможных
в этой ситуации вариантов; тем более, что примеры такого рода в нашей истории хо
рошо известны. В
частности, Павел Аполлонович Ровинский (1831–1916), выпускник Императорского Казанского универ-
ситета, начинал как функционер-народоволец, прославился организацией побега Н.Г. Чернышевского
из Сибири (побег этот, впрочем, не удался). Однако, в 1870-е гг. П.А. Ровинский оставляет револю-
ционное подполье и обращается к занятиям наукой. Он поселяется в Черногории, где вскоре становится
сотрудник
ом русской дипломатической миссии и разворачивает то, что можно назвать «комплексным
черногороведением». П.А. Ровинский изучает историю, филологию, географию, экономику страны, а
также ее этнографию и археологию – вплоть до того, что руководит местными археологическими рас-
копками. В результате, его фундаментальная «Черногория в ее прошлом и настоящем», изданная
Императорскою Академией Наук в 18
88–1915 гг., до сих пор сохраняет свое научное значение.
Еще один террорист, член Исполнительного Комитета «Народной Воли» Лев Александрович
Тихомиров (1852–1923), отсидевший четыре с лишним года в Петропавловской крепости, подает в
1888 г. прошение на Высочайшее имя о помиловании, каковое Император Александр III и удовлет-
ворил. Венцом последующей научной и общественной деятельности Л.А. Ти
хомирова стали фундамен-
тальные труды «Монархическая государственность» и «Религиозно-философские основы истории».
К сожалению, жизненный путь Г.Н. Потанина оказался куда более извилист, нежели у вышеназ-
ванных людей нашей науки. Вплоть до начала 1890-х гг. все складывалось, вроде бы, благополучно. В
1884–1886 гг. он прошел через самую середину Центральной Аз
ии, от Тянь-Цзиня до Кяхты. За этим в
1887–1890 гг. последовала служба в качестве правителя дел Восточно-Сибирского Отдела Импера-
торского Русского Географического Общества. Здесь Г.Н. Потанин подготовил отчет по последней
экспедиции, который и увидел свет в С.-Петербурге в 1893 г. Однако, на этом приходится, de facto,
ставить точку в биографии Г.Н. Потанина как учено
го, ибо всю свою дальнейшую жизнь он посвятит
политической борьбе.
В таком контексте срыв едва начавшейся экспедиции в Китай 1892–1893 гг., который произошел,
конечно же, при вполне понятных трагичных обстоятельствах (кончина спутницы Григория Нико-
лаевича, его супруги Александры Викторовны), отнюдь не представляется случайным. Впечатление
такое, что Г.Н. Потанин не так уж был и заинтере
сован в этой экспедиции, ибо целиком предоставил
решать ее судьбу оставшимся спутникам, В.А. Обручеву и М.М. Березовскому.
Поначалу политическая активность Григория Николаевича проявлялась спонтанно, применительно
к складывающимся обстоятельствам. Однако, уже в сентябре 1905 г. Г.Н. Потанин активно участвует в
работе Московского Съезда го
родских и земских деятелей. Впоследствии он становится фактическим
руководителем такой откровенно кадетско-эсеровской затеи, как «Общество изучения Сибири и улуч-
шения ее быта». Хотя это Общество и претендовало на научно-просветительное и благотворительное
лицо, но, в общем-то, никогда не скрывало своего политического характера. Кроме того, имя Г.Н. По-
танина ок
азалось теснейшим образом связано с Сибирским Областным Союзом, с историей заведения в
Сибири земских учреждений и проч. Неудивительно поэтому, что Министр Народного Просвещения
отказался утвердить решение Ученого Совета Томского технологического института имени Императора
Николая II, принятое в сентябре 1905 г., об избрании Г.Н. Потанина своим почетным членом. Это ведь
была откровенная полит
ическая демонстрация: уж кем-кем, а ученым-технологом Григорий Нико-
лаевич никогда не был. Вершиной политической карьеры Г.Н. Потанина стал пост председателя Вре-
менного Сибирского Областного Совета, принятый им в декабре 1917 г.
Наука очень мстительна, она никогда не прощает тем, кто обращает ее, по человечеству, из цели в
средство. По полной ме
ре наука отомстила Г.Н. Потанину, пожалуй, на его позднейших мифоло-
гических штудиях относительно Центрально-Азиатских корней образов Христа, Соломона и проч., а
равно и всего вообще европейского и восточного эпоса. Из уважения к сединам и научному авторитету
Г.Н. Потанина эти выкладки были преданы умолчанию. К сожалению, сам Григорий Николаев
ич рас-
ценил деликатный жест коллег как беспомощность академической науки перед силой его мысли, и
продолжал публиковать соответствующие разработки вплоть до самой кончины [2; 3].
Окончательный же выбор между наукой и политикой Г.Н. Потанин сделал в истории с Институтом
Исследования Сибири. Основы этого Института были заложены на съезде, который прошел в Томске в
5
январе 1919 г. К сожалению, реализацией этого замечательного начинания заправляли патриоты Сиби-
ри – Г.Н. Потанин и А.В. Адрианов. И вместо того, чтобы воспользоваться уже существующими струк-
турами (такими, к примеру, как Временный Совет Русского Географического Общества, созданный в
Омске в апреле 1919 г. с целью «объединить деятельность тех Отделов и Отделений Ге
ографического
Общества, которые находятся по сю сторону фронта» [1, л. 2]), – вместо этого они стали добиваться
открытия в Томске Сибирского областного музея, Сибирского областного архива и проч.
На борьбу за первенство Томска перед Омском ушло тогда, в 1919 г. много времени, нервов и
средств. В результате, все благие начинания собравшегося в Томске ученого народа тихо и не
заметно
угасли; Институт Исследования Сибири так и не состоялся в качестве хоть сколько-нибудь дееспо-
собного научно-исследовательского учреждения. Советской власти не пришлось даже прилагать усилий
по ликвидации «белогвардейского» Института – ликвидировать, собственно говоря, было нечего. И
здесь, безусловно, прямая вина как Г.Н. Потанина, так и А.В. Адриано
ва.
Не страшно, когда из науки уходят в иные сферы ничтожества; это даже полезно для науки. Но
крайне досадно, когда наука теряет – да еще при жизни и по их собственной вине – таких людей, как
Григорий Николаевич Потанин.
Список литературы и источников
1. Государственный архив Омской области. Ф. 86. Оп. 1. Д. 248 (Журнал собрания членов Центрального
Русского Географического Общества в Западно-Сибирском Отделе 13 апреля 1919 г.).
2. Потанин Г.Н. Круговое движение ночного неба и грозовое явление в монгольских преданиях, иконо-
писи и пластике // Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского Отдела Русского Географи-
ческого Общества. Семипалатинск, 1919. – Вып. XIII. – С. 1–26 о.п.
3. Потанин Г.Н. Мо
нгольские сказки и предания // Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Си-
бирского Отдела Русского Географического Общества. – Семипалатинск, 1919. – Вып. XIII. – С. 1–97.
4. Щукина Н.М. Как создавалась карта Центральной Азии. Работы русских исследователей XIX и нача-
ла ХХ в. – М.: Географгиз, 1955. – 233 с.
А.В. Жук
Россия, Омск, государственный университет
ПЕРВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
И ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СИБИРИ
На рубеже XVII–XVIII вв. три весьма почтенных мужа – Николай-Корнелиус Витзен (1641–1717),
Семен Юлианович Ремезов (1642 – после 1720), а также Григорий Ильич Новицкий (? – ок. 1725) зало-
жили основы археологического и этнографического изучения Сибири. Тем самым, они заложили
основы археологического и этнографического изучения России в целом; именно от их трудов ведут
свое родословие наши науки.
Н.-К. Витзен, видны
й государственный деятель Нидерландов, бургомистр Амстердама, побывал в
России лишь единожды – в составе голландского посольства 1664–1665 гг. Всю позднейшую информа-
цию, а также собственно предметы древности Сибири он получал через такие важные фигуры, как
управляющий Сибирским Приказом А.А. Виниус, один из руководителей «Великого Посольства»
Ф.А. Головин, Тобольский воевода П.М. Са
лтыков. Впрочем, бóльшая часть корреспондентов
Н.-К. Витзена и по сей день остается не идентифицированной. Но, во всяком случае, существенным
подспорьем в процессе формирования источниковой базы Н.-К. Витзена стали тесные отношения его
лично с Государем Петром Алексеевичем.
Судя по всему, Н.-К. Витзен знал об археологии Сибири того вре
мени гораздо больше, нежели он счел
нужным запечатлеть гласно. Так, в одном из писем конца 1705 г. он поминает «образцы, привезенные мне
оттуда (т.е. из “Сибири, близ Тобольска, Тюмени, Верхотурья”. – А.Ж.) верным приятелем, которому
привелось присутствовать при разрытии одного кургана» [9, c. 128]. Согласно другому письму, от 1710 г.,
Н.-К. Витзен получает за это вр
емя еще одну посылку, где были «небольшие найденные в сибирских
могилах золотые изображения» [9, с. 129]. Здесь же он роняет весьма ценное замечание: «предметы найдены
в Сибири в подземной гробнице или, правильнее, в одной из земляных могил, устройство которых мне
известно» [9, с. 129]. Отсюда следует, что, помимо древностей, Н.-К. Витзен полу
чал из Сибири рисованные
планы и/или словесные описания раскопанных археологических памятников.
В целом, полученные от русских корреспондентов материалы дали Н.-К. Витзену возможность очер-
тить, в первом приближении, картину сибирских древностей и предложить один из вариантов их
истолкования. Во-первых, на Урале и к востоку от него рассеяны многочисленные древности – ку
рганы,
писаницы, руины. Во-вторых, уровень культуры тех, кто все это создал, очевидным образом выше, и
намного выше, нежели уровень культуры нынешних аборигенов. Следовательно, эти памятники оставили не
татары, как пишут русские, но китайские колонисты и христиане несторианского толка, которые прибыли
6
сюда во времена Чингисхана и несколько ранее, т.е. в конце XII – начале XIII вв. [8, с. 3–5; 9, с. 129].
«Удивительно, как искусно и красиво устроены эти могилы, а особенно удивительно то, что в стране, где
оне встречаются, почти вовсе нет жителей и те, которые там живут, бедные, дикие и очень злые язычники,
не умеющие ни чи
тать, ни писать, и ничего не знающие об обработке золота, серебра, железа и меди.
Каковы же тогда были те цивилизованные люди, которые хоронили эти редкости!» [9, с. 132].
В отличие от Н.-К. Витзена, С.Ю. Ремезов был сибиряком, и даже не в первом поколении. Дед его,
Моисей Лукианович начинал государеву службу по ок
ончании Смутного Времени, как дворовый сын
боярский при Патриархе Московском и всея Руси Филарете. В декабре 1628 г. М.Л. Ремезов прибывает
в Тобольск; вся последующая служба как самого Моисея Лукиановича, так и его потомков будет
теснейше связана с Сибирью.
Подобно Н.К. Витзену, С.Ю. Ремезов опирался в своих построениях на инф
ормацию по местным
древностям, которую на протяжении десятилетий собирали его предшественники и современники.
Здесь на особицу следует, пожалуй, отметить отца Семена Юлиановича, Юлиана Моисеевича, который
еще с 1660-х гг. хорошо знал, в частности, древности по Ишиму [3, с. 16].
Истолкование сибирских древностей у С.Ю. Ремезова заметно отличается от того, как по
нимал их
Н.-К. Витзен. Весь комплекс известных ему памятников Семен Юлианович делит на древние и более
новые. Древнейшие памятники принадлежат, по его мнению, «чудскому народу», который он интер-
претирует достаточно оригинально. «Чудь», согласно С.Ю. Ремезову – это татары-язычники; соответ-
ственно, более поздние памятники принадлежат исламизированным татарам. «Егда переменился древ-
ний чудский народ босурманств
ом, прежде кланялися и жряху жертвы кровавыя кумиром, пришед же
Кучум от Казачьи орды и дал им закон Магомета» [цит. по: 3, с. 125]. «Во всех улусах начали пахать
хлеб и сеяли овес, полбу и ячмень, что перешло к ним от Казачьей орды; при том же приняли и закон
магометанск
ой и грамоте обучились. До сего времени все роды сии чудь слыла, а сего времени стали
называться бусурманы» [3, с. 122].
Утверждение Кучума в Сибири состоялось во второй половине XVI в. Следовательно, это и есть,
согласно С.Ю. Ремезову, время преобразования археологически известной «чуди» в этнографически
известных «бусурман».
В отличие от Н.К. Витзена и С.Ю. Ремезова, о Г.И. Новицк
ом известно немного; мы не знаем даже
точное время его рождения и смерти. Впрочем, он окончил Киево-Могилянскую Коллегию, а потому
получается, что Г.И. Новицкий есть первый по времени исследователь древностей и этнографии
Сибири, имевший высшее образование – и, кстати, очень качественное, по тем вре
менам, образование.
Оказавшись в 1712 г. в Тобольске, Г.И. Новицкий становится ближайшим сотрудником князя
М.П. Гагарина, а также святителей Филофея (Лещинского) и Иоанна (Максимовича) в деле изучения и
просвещения Западной Сибири. Разумеется, он имел прямое отношение к тем коллекциям Сибирских
курганных древностей, которые составлял и которыми делился с Государем П
етром Алексеевичем в эти
годы губернатор Сибири князь М.П. Гагарин.
Именно из-под пера Г.И. Новицкого является в 1715 г. третья, после Н.К. Витзена и С.Ю. Реме-
зова, интерпретация Сибирских древностей. При этом, решая вопрос о первобытном населении Сибири
(собственно, северной части Западной Сибири), Г.И. Новицкий пр
ямо опирается на уже сформировав-
шееся к тому времени откровенно мифологемное представление. «Ясно же являеться яко не сей перво-
началне жителствова в сих палестинах народ (имеются в виду остяки. – А.Ж.), но от инуды иных
преселися зде: здревле бо зде вниз по Оби и всей стране жителствоваше народ Чутцкий» [6, с. 25–26].
Далее ре
чь идет о самопогребении чуди. Очень важно, что для Г.И. Новицкого это самопогребение
отнюдь не есть лишь следствие столкновения этносов, к чему будет склоняться бóльшая часть позднейших
мнений. Для Г.И. Новицкого самопогребение чуди, прежде всего и более всего – следствие духовного
кризиса, который поразил чудской народ. «Сей тако по
гибе, яко ниже вещь какову памяти своей остави,
толико осташа знамение пагубы их некия ямища, иже обретаються в сих странах Сибирского царства.
В сию же погибель низведе их искони человекоубийца враг, ослепи бо я зле веровати некое во
оном вецы уготованное им с боги пирование, его же омрачены лестию сердца желающе соз
ыдаху себе
ровы некия пространныя, верх же полагаху кровлю на столпех, на ню же множество земли и камений
налагаху, егда же поощраше лесть сердца их преселитися на иный век, и ускорится пировать с
безстудным многобожием, тогда со всем своим имением домовники и чады собра вся во оныя ровы
въходять и п
одсекшее столпы землею и камением убиваються и нисхождаху путем темным во тму
кромешную и в вечное в место пирования мучение» [6, с. 26].
Примечательно, что эту версию Г.И. Новицкий обосновывает именно на археологическом мате-
риале. «Досели же жители стран сих в тех ровищах и курганах знаходять премного златых сосудов и
сребра мн
ожество и прочая, зане со всим имением своим убивахуся» [6, с. 26]. Впрочем, не отвергает
Г.И. Новицкий и прагматический вариант исчезновения чуди. «Частию же Татарских князей, на Ишиме
владычествующих, яко Тайбуки и прочих <…> оружием избиены; тако погибоша яко не толико
достойная кая вещь памяти их, но ниже язык оста в наречие последним ро
дом» [6, с. 26]. Тем не менее,
следует признать: именно Г.И. Новицкий в своем истолковании древностей Сибири впервые в истории
нашей науки попытался осмыслить мировоззрение людей, оставивших археологические памятники.
7
Впрочем, чудь – народ неведомый; и, собственно как таковой, он мало интересует Г.И. Новицкого.
Ибо Григорий Ильич вполне разделял господствующее в его время понимание исторического процесса
как чреды внутренне целостных, завершенных циклов. «Как бы ни зависели последующие события от
предшествовавших, общая связь между ними представляется все более слабой по мере удлинения цеп
и,
пока, наконец, не создастся впечатление (курсив мой. По крайней мере, наши коллеги той эпохи были
честны! – А.Ж.) что она исчезла вовсе и что, начиная с этой точки, очередные звенья не имеют ни
соответствия, ни сходства с предыдущими <…>.
Тогда наступает один из тех периодов, на рубеже которых упомянутая выше цепь рвется так, что
предш
ествующее имеет весьма небольшое или вовсе не имеет реального или заметного отношения к
тому, что происходит далее. Новая ситуация, отличная от прежней, порождает новые интересы <…> Те,
в свою очередь, порождают новые нравы, новые привычки, новые обычаи. Чем дольше существует это
новое положение вещей, тем больше усиливается различие; и, хо
тя известное сходство между тем, что
предшествовало такому периоду, и тем, что явилось его результатом, может долго сохраняться, все же
это сходство вскоре становится предметом простого любопытства, но не полезного исследования <…>.
Если бы нам вздумалось углублять наши исследования и дальше, и перенести их в какой-нибудь
другой предшествующий период такого же типа, мы бы тр
атили время понапрасну: причины, зало-
женные в то время, прекратили свое действие, следствия, вытекающие из них, исчерпаны, а значит –
иссяк и наш интерес к тем и другим» [2, с. 71–72].
Соответственно, наибольший прагматический интерес для исследователя, жившего в начале
XVIII в., представлял лишь крайний в цепочке исторический цикл – тот, в котором сам исследовател
ь
имел счастье пребывать. Применительно к интересующей нас теме это выглядело так: «чудской народ»
сошел с исторической сцены, очередной цикл местной истории завершился – и начался новый цикл,
действительно актуальный для Г.И. Новицкого как историка просвещения Нижней Оби.
В частности, на смену неведомой чуди в Западную Сибирь при
шли ныне благополучно здравствующие
остяки. При этом, время их появления в Сибири Г.И. Новицкий фиксирует вполне определенно. «Како же по
сих (т.е. после чуди. – А.Ж.) сей Остяцкий народ в сия вселися страны наченше от дни святаго Стефана
Великия Пермыи епископа – известно есть: сей бо первый проповедник и просветитель во тме не
верия,
Великой Пермыи бысть яко солнце светом боговидения тму нечестия и скверну идолобесия от стран
Великия Пермыи начать прогонити, тогда мраком идолским одержимыя Пермяне света истинны
евангельской благодати Божией бежаша в сия полунощныя страны, укривахуся зде, где и доселе с тмою
идолобесия пребиваху» [6, с. 26–27]. Таким образом, этнографически известные аб
оригены Западной Си-
бири поселяются здесь, по мнению Г.И. Новицкого, во второй половине XIV в., т.е. по ходу просвети-
тельной деятельности святителя Стефана Пермского (1346–1396, память 26 апреля / 9 мая).
Суммируя наработки Н.-К. Витзена, С.Ю. Ремезова и Г.И. Новицкого, можно сделать вывод: на
рубеже XVII–XVIII вв. берет начало процесс интерпретации археологического и этног
рафического
материала Сибири. Отныне можно говорить не просто о накоплении соответствующего материала, но о
начале его истолкования, т.е. о начале становления наших наук. Ибо совершенно прав был умница
И.Е. Забелин, когда подчеркивал, что «археология уже не факт, а наука, то есть понимание факта; а
понимание бывает нередко и да
же часто весьма далеко от той правды, которую носит в себе факт или
памятник» [5, с. 81].
И примечательно, что археологический и этнографический материал Сибири с первых же шагов
нашей науки стали толковать одни и те же люди, т.е. люди, которые занимались и тем, и другим мате-
риалом. При этом, они де
лали это в рамках единого, целостного исследовательского процесса. Другими
словами, с самого начала, т.е. уже на рубеже XVII–XVIII вв. стало ясно, что здесь, в Сибири археоло-
гические и этнографические явления соприкасаются очень тесно; причем тесно соприкасаются они не
только территориально, но и хронологически. Археолого-этнографическая сопряженность у нас есть
объективная исследова
тельская потребность, которая вытекает из специфики источниковой базы.
Сибирская археология невозможна без этнографии – и точно так же справедливо обратное утверждение.
Но, к сожалению, случилось так, что первым по времени интерпретациям археолого-этногра-
фического материала Сибири суждено было, в значительной их части, долгое время пребывать под
спудом. Лишь некоторые истолковательные мысли Н.-К. Витзен
а своевременно увидели свет: во 2-м
издании «Северо-Восточной Тартарии», вышедшем в 1705 г., он помещает часть полученных им к тому
времени материалов по археологии Сибири. Но даже и в этом случае основные соображения по
интерпретации древностей Сибири остались у Н.-К. Витзена в его письмах. А письма эти будут опу
б-
ликованы значительно позже, только в 1882 г. [9, с. 127].
Труд С.Ю. Ремезова «Описание о сибирских народах и граней их земель», составленный в 1697–
1698 гг., который, собственно, и содержит предлагаемые им истолкования местного археолого-этно-
графического материала, извлек из архивного небытия И.Л. Черепанов, закончивший свой летописный
свод в 1782 г. При этом, са
м труд С.Ю. Ремезова утрачен, он известен лишь по цитатам, которые успел
выполнить И.Л. Черепанов. В свою очередь, «Черепановская летопись», если я не ошибаюсь, до сих пор
не опубликована и вращается в научном обороте лишь в виде цитат [1, с. 186–190; 3, с. 120–127]. При-
мечательно, что в 1987 г. Институт истории АН СССР офиц
иально отказался помещать «Черепа-
8
новскую летопись» в академический Сибирский летописный свод, не дав при этом каких бы то ни было
объяснений [7, с. 4].
Равно и книга Г.И. Новицкого, которую наши мэтры по справедливости нарекли «одной из самых
ранних в мировой литературе чисто этнографических монографий» [10, с. 6], долгое время расходилась
лишь в рукописи. Впрочем, она действительно была известна сп
ециалистам, причем не только у нас, но
и в Европе [см. об этом: 10, с. 6; 4, с. 112–113]. Тем не менее, печатное издание «Краткого описания о
народе Остяцком» увидело свет лишь в 1884 г., стараниями члена Общества Любителей Древней Пись-
менности Л.Н. Майкова.
В итоге, размышления и выводы первых по времени археологов и этнограф
ов Сибири остались, в
значительной степени, их личным достоянием. Неудивительно поэтому, что они не оказали должного,
прямого влияния на развитие научной мысли той эпохи. Грустный, но понятный расклад: Ф.-И. Штра-
ленберг, Д.-Г. Мессершмидт, Г.-В. де Геннин (как, впрочем, и В.Н. Татищев, и Г.-Ф. Миллер, и
И.-Г. Гмелин) мало интересовались Н.-К. Витзен
ом, С.Ю. Ремезовым и Г.И. Новицким. А когда пред-
ставленные в настоящем докладе материалы дошли, наконец, до печатного станка, они, давно уже
отработав свое, вполне обратились в памятники исторической мысли.
Список литературы
1. Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – Вып. 1:
XVII в. – 280 с.
2. Болингброк. Письма об изучении и пользе истории / Пер. с англ. С.М. Берковская, А.Т. Парфенов,
А.С. Розенцвейг. – М.: Наука, 1978. – 360 с. – (Памятники исторической мысли).
3. Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов – сибирский картограф и г
еограф. – М.: Наука, 1965. –
263 с.
4. Горленко В.Ф. Украинский экземпляр рукописи сочинения Григория Новицкого «Краткое описание о
народе Остяцком и Вогульском и о крещении их» // Сов. этнография. – 1963. – № 6. – С. 112–113.
5. Забелин И.Е. Опыты изучения русских древностей и истории: Исслед., описания и крит. ст. – М.:
изд-е К. Солдатенкова, 1873. – Ч. II. – 507 с.
6. Новицкий Г. Кр
аткое описание о народе Остяцком. – СПб.: Изд-е о-ва любителей древней письмен-
ности, 1884. – VI+116 с.
7. Полное собрание русских летописей. – М.: Наука, 1987. – Т. 36: Сибирские летописи. – Ч. 1: Группа
Есиповской летописи. – 383 с.
8. Радлов В.В. Сибирские древности. – СПб.: Археол. комис., 1888. – Т. I. – Вып. 1. – [8], IV, 40, 20 с. –
(Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Ар
хеологическою Комиссиею. № 3).
9. Радлов В.В. Сибирские древности. – СПб.: Археол. комис., 1894. – Т. I. – Вып. 3. – [4], 81–132, [2],
53–146, [2], XIX с. – (Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою
Комиссиею. № 15).
10. Токарев С.А. Вклад русских ученых в мировую этнографическую науку // Очерки истории русской
этнографии, фольклористики и антропологии. – М.: Наука, 1956. – Вып. I. – С. 5–29.
А.Н. Зорин, Н.В. Рычкова, Г.Р. Столярова, В.И. Яковлев
Россия, Ульяновск, государственный педагогический университет,
Казань, технологический государственный университет, государственный
университет, государственная консерватория
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ КАЗАНСКОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ (ПАМЯТИ Н.В. ЗОРИНА)
Настоящий доклад, посвящен памяти Николая Владимировича Зорина (1923–2006) – известного
советского и российского этнографа, одного из крупнейших специалистов в этнографическом изучении
русского населения Среднего Поволжья, и является одной из первых попыток представить масштаб
личности ученого и его роль в становлении этнографических исследований в Казанском университете.
Этнографическая деятельность Н.В.Зорина началась в Казанском университе
те под руководством
и в содружестве с двумя видными казанскими этнографами – профессором Николаем Иосифовичем
Воробьевым и его учеником, тогда доцентом КГУ Евгением Прокопьевичем Бусыгиным. Творческий
союз Е.П.Бусыгина и Н.В.Зорина оказался на редкость прочным, длительным (более 50 лет) и
плодотворным. Как вспоминали оба: «мы работаем вместе, думаем вместе, пишем вм
есте и часто сами
не можем понять, кто что написал». Формальными плодами их союза стали почти 50 этнографических
совместных экспедиций, добротные учебники, монографии и статьи, выступления на международных
конгрессах и внутренних конференциях, собственные диссертации и легион благодарных учеников,
постигавших под их руководством науку жить и работать.
9
Н.В.Зорин – это прочное и весьма содержательное звено, связующее единую этнографическую
традицию в Казанском университете. Он начал свою деятельность с двух направлений: работе в
этнографическом музее КГУ (до сих пор у нас считается, что лучше Н.В. ЭМ со времен его факти-
ческого основателя Б.Ф.Адлера не знает никто) и изучения материальной культуры ру
сского населения
Чувашии. Николаем Владимировичем была проведена исключительно большая работа по инвента-
ризации коллекций и оборудования, совершенствованию и расширению экспозиции музея. Им прово-
дились многочисленные экспедиции для пополнения тувинского раздела музея, для сбора коллекций и
создания экспозиций по истории и культур народов Поволжья: татар, русских, чувашей, мордвы, ма
ри.
Со временем научные интересы Н.В. значительно расширились: территориально они захватывали 3
национальные республики (Татарстан, Марий Эл и Чувашию – своеобразное ядро Среднего Поволжья),
а тематически распространились на общественный быт русских; семью, внутрисемейные отношения и
семейную обрядность; этнодемографические процессы и межэтническое взаимодействие. Весьма
органичными были переход от изучения традиционной культуры к этнографии совреме
нности и от
сельского населения к городскому, введение новых методов сбора и обработки материалов, применение
статистических методов в исследовании не только современности, но и традиционной культуры.
Именно Николай Владимирович предложил термин «статистическая этнография», высоко оцененный
московскими коллегами как удачное определение новаторского направления в науке. Можно смело
сказать, что ему принадлежит идея обос
нования ареала исследований, выделения Казанского По-
волжья. И сам термин предложил также Николай Владимирович Зорин.
В тандеме Бусыгин – Зорин формальное, внешнее лидерство принадлежало Евгению Прокопьевичу, но
каждый из них в силу личностных качеств и молчаливого взаимного согласия выполнял разные функции,
что в сочетании давало блестящий результат. Евгений Прокопьевич формулировал ст
ратегические цели и
выдвигался на позиции, требующие применения «тяжелой техники»; Николай Владимирович решал такти-
ческие задачи и был незаменим при ситуациях, требующих вмешательства и помощи, в том числе, и в
житейских вопросах. При этом Николай Владимирович и сам был неиссякаемым генератором идей,
озвучивал их зачастую на ходу и как бы мимоходом, но услы
шанные и использованные, они, как правило,
становились настоящими «изюминками» научной темы, а иногда и определяли ее.
Наверное, каждый из учеников Е.П.Бусыгина и Н.В.Зорина (мы их, по сути, не разделяли) может
привести примеры из своей научной биографии, когда обсуждение темы именно с Н.В.Зориным давало
ей нов
ый поворот. Так, например, Н.В.Зорин подарил аспиранту А.А.Столярову идею «пульсирующей
семьи» для описания и объяснения, как распада больших патриархальных семей русских в Поволжье,
так и противоположного процесса разрастания малых семей в большие; Николай Владимирович первым
заговорил о факторах, объясняющих территориальные особенности размещения национально-смешан-
ных семей (иде
я разработана Г.Р.Столяровой в кандидатской диссертации); по инициативе и с участием
Н.В. детально разрабатывалось изучение декоративно-прикладного оформления жилища (Л.С. Токсу-
баева), внутрисемейных отношений и семейной обрядности (Н.В. Лештаева-Рычкова), этнодемографи-
ческих процессов (Г.Р. Столярова); им были сделаны предложения по проблеме изучения музыкальных
народных ин
струментов (В.И. Яковлев); с него, по существу, в Казанском университете появилась этно-
графия города (А.Н. Зорин).
Вехами исследований стали циклы научных работ по материальной культуре, семье и семейным
отношениям русского населения Чувашии и других республик Поволжья, по изучению семейной обряд-
ности и в особенности свадебной. В основе работ Н.В. Зорина лежит огро
мный полевой материал,
собранный им в этнографических экспедициях более чем за 30 лет – с 1956 по 1987 год (позже, лично не
выезжая в «поле», он принимал активное участие в обсуждении планов и результатов экспедиций).
Исследователь ввел в научный оборот многочисленные архивные источники. Он открыл многие неизвест-
ные стороны культуры и быта р
усского населения края, определил оригинальные подходы к объекту
научного изучения. Большое внимание в своих трудах Николай Владимирович уделял межэтническим
контактам. Знание культуры поволжских народов позволяло ему находить тончайшие нити, связывающие
татар, русских, мари и другие национальности в единую общность, именуемую Урало-Поволжской
историко-этнографической областью. Квинтэссенцией научной деятельности Николая Владимировича
явл
ялось изучение свадебной обрядности русского населения Среднего Поволжья. Он сумел отразить
различные грани этого явления народной культуры на основе прочной источниковедческой базы. В
монографиях «Русская свадьба» и «Русский свадебный ритуал» ученый соединил знания историка,
географа, что позволило ему выйти на новый уровень обобщения и понимания предмета исследования.
Характерной чертой Николая В
ладимировича как ученого являлся непрерывный поиск новых путей и
методов в изучении этнических явлений, в чем он часто оказывался одним из первопроходцев. Своими
исследованиями Н.В. Зорин наглядно показал большие источниковедческие возможности и необхо-
димость использования методов социальной статистики, картографирования различных направлений
традиционной и современной материальной, духовной и социальной культур. Долгие го
ды Николай Вла-
димирович занимался изучением быта сельского населения, а в последнее десятилетия объектом его
пристального внимания стало городское население края. Другой сферой проявления научных интересов
Николая Владимировича стала история науки. Много лет он скрупулезно собирал материалы по
10
персоналиям и архив этнографической группы, что легло в основу совместной с Е.П. Бусыгиным
монографии «История этнографии в Казанском университете» – своеобразное подведение итогов и на-
казы будущим поколениям.
В российском этнографическом сообществе сложилось представление о казанской этнографической
школе, руководителями которой единодушно признаны Е.П. Бусыгин и Н.В. Зорин. Организационными
рамками эт
ого научного союза долгие годы была «этнографическая группа» на географическом факультете
Казанского государственного университета. Рефлексируя работу, можно с уверенностью сказать, что это
была своеобразная проектная команда единомышленников, объединенных научной темой «Русские Сред-
него Поволжья». Стержнем, центром, вокруг которого «кипела» научная жизнь были Е.П. Бусыгин и Н.В.
Зорин. На первый вз
гляд, жизнь этнографической группы была размеренной: «от экспедиции до экспе-
диции», «от конференции до конференции», «от сессии до сессии» и т.д. Столь же формально регламен-
тированными были отношения внутри коллектива. Но коллеги отмечали особый микроклимат у этнографов,
который был важной составляющей организационной культуры. Этнографическое мышление объединяло
членов команды. Не то
лько научные факты, гипотезы, идеи, но и песни, анекдоты, байки были из области
этнографии народов Среднего Поволжья. Легенды о жизни в экспедиции транслировались новичкам. На них
воспиталось не одно поколение этнографов-полевиков.
В этнографическую группу мог войти любой студент, сотрудник, в сфере интересов которых
появлялась этнография. Но далеко не каждый становился членом команды. Недостаточн
о было любить
этнографию, разделять ценности членов этнографической группы. Своеобразным испытанием на
профессиональную пригодность была этнографическая экспедиция, где проверялся не только
потенциал вхождения в профессию, но и черты характера исследователя.
Сегодня, оглядываясь назад, с благодарностью понимаешь, какой подарок сделала судьба, сведя
нас с нашими Учителями, широко эрудированными и мыслящими, на
стоящими профессионалами,
людьми с твердой гражданской и научной ответственностью, и одновременно очень гуманными, по
человечески привлекательными. Очень сложно в небольшом по объему материале раскрыть все грани
таланта Н.В.Зорина. Поэтому мы рассматриваем этот доклад как заявку на дальнейшее глубокое
исследование жизни и научного творчества этого замечательного человека, педагога и учено
го. Наша
основная задача – опираясь на наследие Учителей, помня их заветы развивать традиции казанской этно-
графической науки и просвещения.
Основные вехи биографии жизни и научной деятельности Н.В. Зорина
25 февраля 1923 г. – родился в селе Новорусово (позднее Калинино) Чувашской Республики в
семье лесничего.
Июнь 1941 г. – закончил Чебоксарскую среднюю школу № 1.
19
41–1948 гг. – участие в Великой Отечественной войне и срочная служба в армии.
Август 1948 г. – поступил на географический факультет Казанского государственного университета.
1953 г. – с отличием окончил университет, начал работать старшим лаборантом по этнографи-
ческому музею на кафедре экономической географии.
С 1963 г. – ассистент кафедры.
1964 г. – защитил диссертацию «Материальная культура русского населения Чувашской А
ССР» на
степень кандидата исторических наук.
1967 г. – получил ученое звание доцента.
До 2005 г. работал доцентом кафедры физической географии КГУ.
8 мая 2006 г. – скончался в Казани, похоронен на Арском кладбище.
Автор более 160 работ, в том числе 13 монографий, 2 учебных пособий. Боевые и трудовые
заслуги перед страной отмечены 12 правительственными наградами, в том числе орденом «Отечест-
венн
ой войны» II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть», почетным званием «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации» и др.
Л.Ю. Китова
Россия, Кемерово, государственный университет
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА С.А. ТЕПЛОУХОВА
В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ РУССКОГО МУЗЕЯ
Нынешним посетителям Российского этнографического музея трудно представить выставку по
первобытной археологии в его стенах, еще труднее – существование этнографического отдела в Рус-
ском музее (ГРМ). А ведь первоначально этнографический отдел (ЭО) находился в составе Русского
музея и только в 1934 г. был преобразован в самостоятельный Государственный музей этнографии.
