Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе
Подождите немного. Документ загружается.

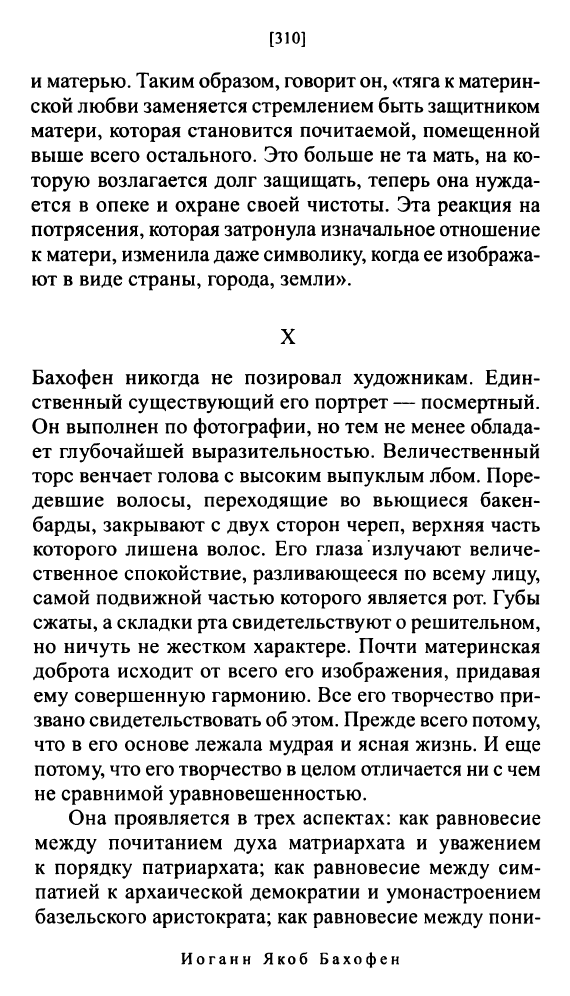
и матерью. Таким образом, говорит он, «тяга к материн-
ской любви заменяется стремлением быть защитником
матери, которая становится почитаемой, помещенной
выше всего остального. Это больше не та мать, на ко-
торую возлагается долг защищать, теперь она нужда-
ется в опеке и охране своей чистоты. Эта реакция на
потрясения, которая затронула изначальное отношение
к матери, изменила даже символику, когда ее изобража-
ют в виде страны, города, земли».
X
Бахофен никогда не позировал художникам. Един-
ственный существующий его портрет — посмертный.
Он выполнен по фотографии, но тем не менее облада-
ет глубочайшей выразительностью. Величественный
торс венчает голова с высоким выпуклым лбом. Поре-
девшие волосы, переходящие во вьющиеся бакен-
барды, закрывают с двух сторон череп, верхняя часть
которого лишена волос. Его глаза излучают величе-
ственное спокойствие, разливающееся по всему лицу,
самой подвижной частью которого является рот. Губы
сжаты, а складки рта свидетельствуют о решительном,
но ничуть не жестком характере. Почти материнская
доброта исходит от всего его изображения, придавая
ему совершенную гармонию. Все его творчество при-
звано свидетельствовать об этом. Прежде всего потому,
что в его основе лежала мудрая и ясная жизнь. И еще
потому, что его творчество в целом отличается ни с чем
не сравнимой уравновешенностью.
Она проявляется в трех аспектах: как равновесие
между почитанием духа матриархата и уважением
к порядку патриархата; как равновесие между сим-
патией к архаической демократии и умонастроением
базельского аристократа; как равновесие между пони-
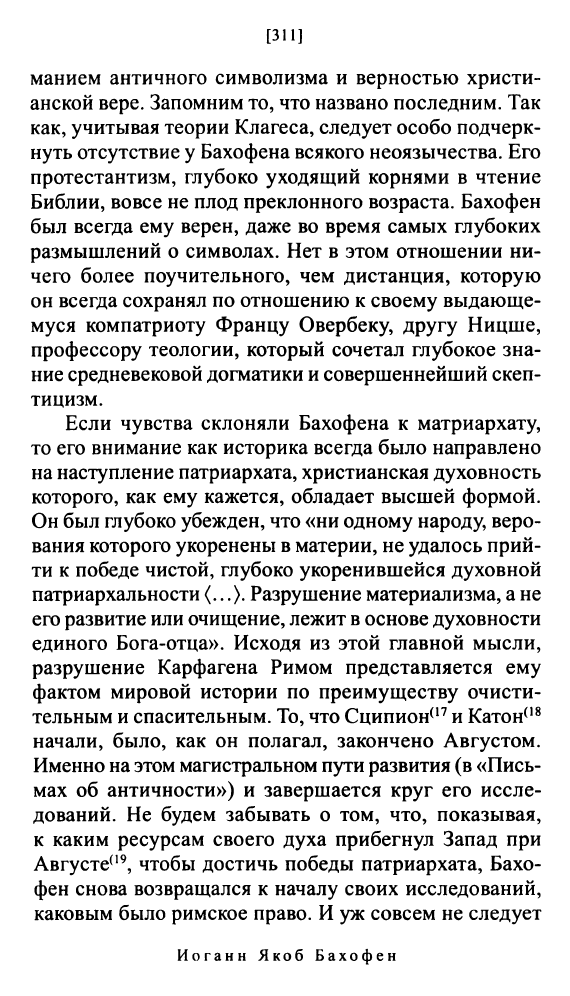
манием античного символизма и верностью христи-
анской вере. Запомним то, что названо последним. Так
как, учитывая теории Клагеса, следует особо подчерк-
нуть отсутствие у Бахофена всякого неоязычества. Его
протестантизм, глубоко уходящий корнями в чтение
Библии, вовсе не плод преклонного возраста. Бахофен
был всегда ему верен, даже во время самых глубоких
размышлений о символах. Нет в этом отношении ни-
чего более поучительного, чем дистанция, которую
он всегда сохранял по отношению к своему выдающе-
муся компатриоту Францу Овербеку, другу Ницше,
профессору теологии, который сочетал глубокое зна-
ние средневековой догматики и совершеннейший скеп-
тицизм.
Если чувства склоняли Бахофена к матриархату,
то его внимание как историка всегда было направлено
на наступление патриархата, христианская духовность
которого, как ему кажется, обладает высшей формой.
Он был глубоко убежден, что «ни одному народу, веро-
вания которого укоренены в материи, не удалось прий-
ти к победе чистой, глубоко укоренившейся духовной
патриархальности (...). Разрушение материализма, а не
его развитие или очищение, лежит в основе духовности
единого Бога-отца». Исходя из этой главной мысли,
разрушение Карфагена Римом представляется ему
фактом мировой истории по преимуществу очисти-
тельным и спасительным. То, что Сципион
07
и Катон
08
начали, было, как он полагал, закончено Августом.
Именно на этом магистральном пути развития (в «Пись-
мах об античности») и завершается круг его иссле-
дований. Не будем забывать о том, что, показывая,
к каким ресурсам своего духа прибегнул Запад при
Августе
09
, чтобы достичь победы патриархата, Бахо-
фен снова возвращался к началу своих исследований,
каковым было римское право. И уж совсем не следует
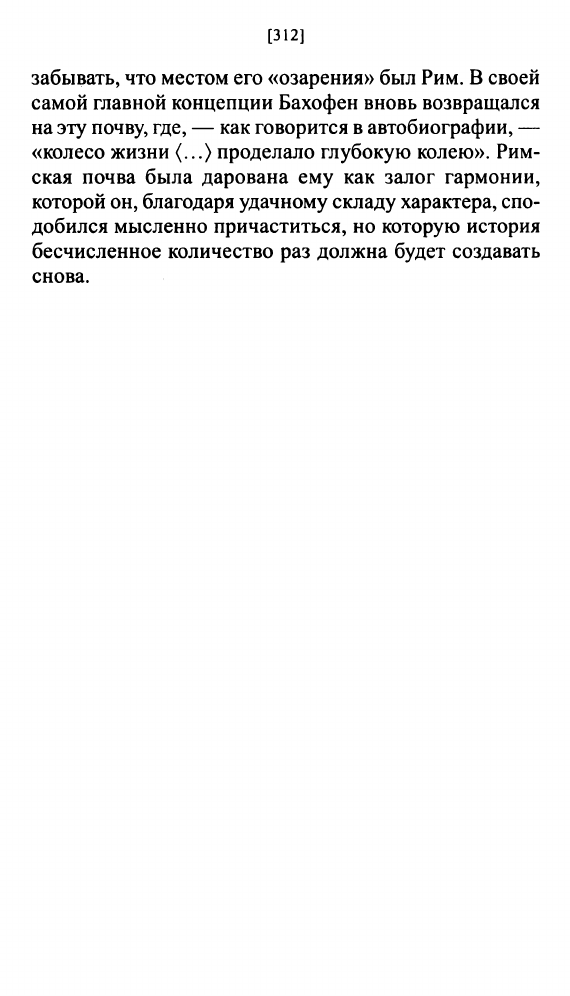
забывать, что местом его «озарения» был Рим. В своей
самой главной концепции Бахофен вновь возвращался
на эту почву, где, — как говорится в автобиографии, —
«колесо жизни (...) проделало глубокую колею». Рим-
ская почва была дарована ему как залог гармонии,
которой он, благодаря удачному складу характера, спо-
добился мысленно причаститься, но которую история
бесчисленное количество раз должна будет создавать
снова.
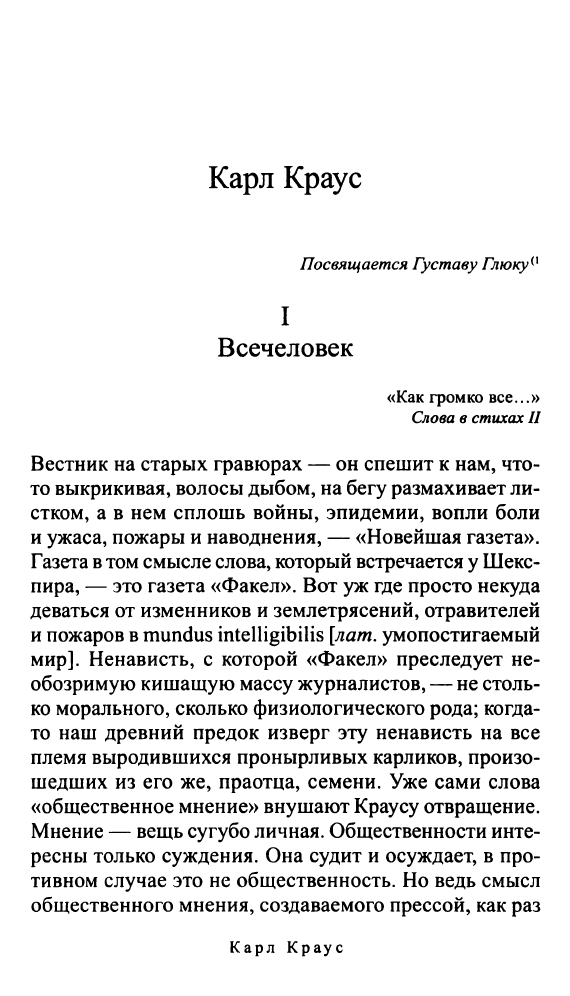
Карл Kpayc
Посвящается Густаву Глюку
(I
I
Всечеловек
«Как громко все...»
Слова в стихах II
Вестник на старых гравюрах — он спешит к нам, что-
то выкрикивая, волосы дыбом, на бегу размахивает ли-
стком, а в нем сплошь войны, эпидемии, вопли боли
и ужаса, пожары и наводнения, — «Новейшая газета».
Газета в том смысле слова, который встречается у Шекс-
пира, — это газета «Факел». Вот уж где просто некуда
деваться от изменников и землетрясений, отравителей
и пожаров в mundus intelligibilis [лат. умопостигаемый
мир].
Ненависть, с которой «Факел» преследует не-
обозримую кишащую массу журналистов, — не столь-
ко морального, сколько физиологического рода; когда-
то наш древний предок изверг эту ненависть на все
племя выродившихся пронырливых карликов, произо-
шедших из его же, праотца, семени. Уже сами слова
«общественное мнение» внушают Краусу отвращение.
Мнение — вещь сугубо личная. Общественности инте-
ресны только суждения. Она судит и осуждает, в про-
тивном случае это не общественность. Но ведь смысл
общественного мнения, создаваемого прессой, как раз
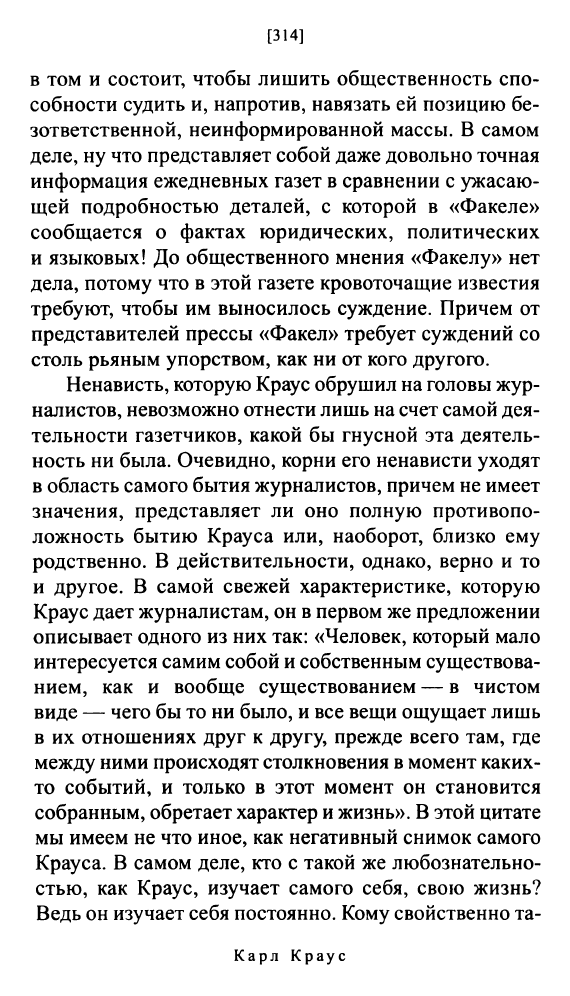
в том и состоит, чтобы лишить общественность спо-
собности судить и, напротив, навязать ей позицию бе-
зответственной, неинформированной массы. В самом
деле,
ну что представляет собой даже довольно точная
информация ежедневных газет в сравнении с ужасаю-
щей подробностью деталей, с которой в «Факеле»
сообщается о фактах юридических, политических
и языковых! До общественного мнения «Факелу» нет
дела, потому что в этой газете кровоточащие известия
требуют, чтобы им выносилось суждение. Причем от
представителей прессы «Факел» требует суждений со
столь рьяным упорством, как ни от кого другого.
Ненависть, которую Краус обрушил на головы жур-
налистов, невозможно отнести лишь на счет самой дея-
тельности газетчиков, какой бы гнусной эта деятель-
ность ни была. Очевидно, корни его ненависти уходят
в область самого бытия журналистов, причем не имеет
значения, представляет ли оно полную противопо-
ложность бытию Крауса или, наоборот, близко ему
родственно. В действительности, однако, верно и то
и другое. В самой свежей характеристике, которую
Краус дает журналистам, он в первом же предложении
описывает одного из них так: «Человек, который мало
интересуется самим собой и собственным существова-
нием, как и вообще существованием — в чистом
виде — чего бы то ни было, и все вещи ощущает лишь
в их отношениях друг к другу, прежде всего там, где
между ними происходят столкновения в момент каких-
то событий, и только в этот момент он становится
собранным, обретает характер и жизнь». В этой цитате
мы имеем не что иное, как негативный снимок самого
Крауса. В самом деле, кто с такой же любознательно-
стью,
как Краус, изучает самого себя, свою жизнь?
Ведь он изучает себя постоянно. Кому свойственно та-
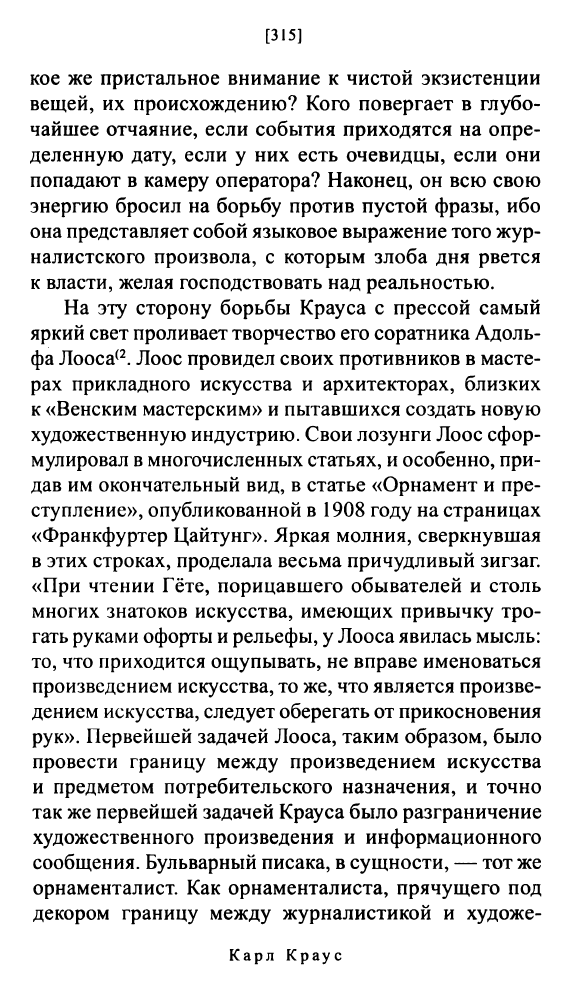
кое же пристальное внимание к чистой экзистенции
вещей, их происхождению? Кого повергает в глубо-
чайшее отчаяние, если события приходятся на опре-
деленную дату, если у них есть очевидцы, если они
попадают в камеру оператора? Наконец, он всю свою
энергию бросил на борьбу против пустой фразы, ибо
она представляет собой языковое выражение того жур-
налистского произвола, с которым злоба дня рвется
к власти, желая господствовать над реальностью.
На эту сторону борьбы Крауса с прессой самый
яркий свет проливает творчество его соратника Адоль-
фа Лооса
(2
. Лоос провидел своих противников в масте-
рах прикладного искусства и архитекторах, близких
к «Венским мастерским» и пытавшихся создать новую
художественную индустрию. Свои лозунги Лоос сфор-
мулировал в многочисленных статьях, и особенно, при-
дав им окончательный вид, в статье «Орнамент и пре-
ступление», опубликованной в 1908 году на страницах
«Франкфуртер Цайтунг». Яркая молния, сверкнувшая
в этих строках, проделала весьма причудливый зигзаг.
«При чтении Гёте, порицавшего обывателей и столь
многих знатоков искусства, имеющих привычку тро-
гать руками офорты и рельефы, у Лооса явилась мысль:
то,
что приходится ощупывать, не вправе именоваться
произведением искусства, то же, что является произве-
дением искусства, следует оберегать от прикосновения
рук».
Первейшей задачей Лооса, таким образом, было
провести границу между произведением искусства
и предметом потребительского назначения, и точно
так же первейшей задачей Крауса было разграничение
художественного произведения и информационного
сообщения. Бульварный писака, в сущности, — тот же
орнаменталист. Как орнаменталиста, прячущего под
декором границу между журналистикой и художе-
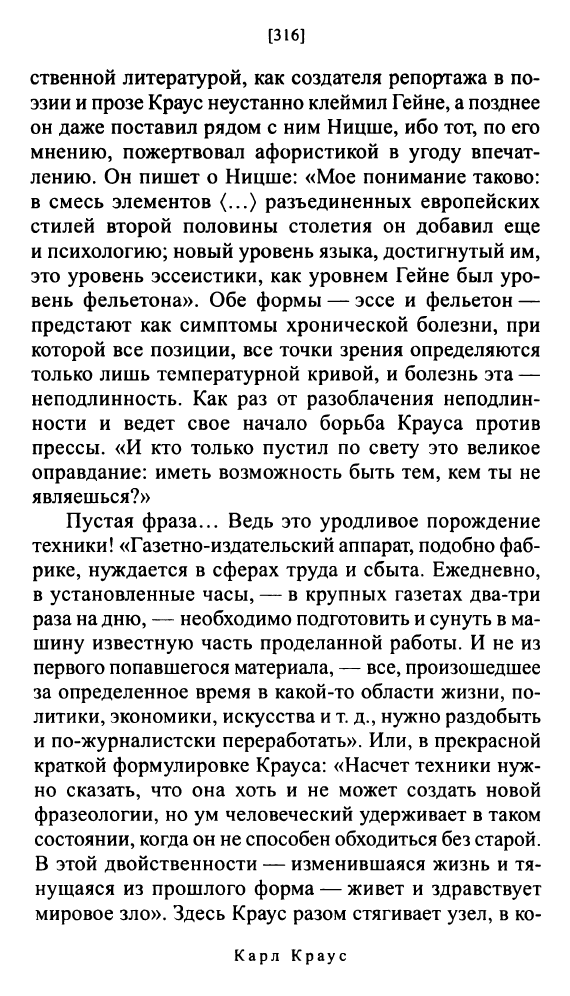
ственной литературой, как создателя репортажа в по-
эзии и прозе Краус неустанно клеймил Гейне, а позднее
он даже поставил рядом с ним Ницше, ибо тот, по его
мнению, пожертвовал афористикой в угоду впечат-
лению. Он пишет о Ницше: «Мое понимание таково:
в смесь элементов (...) разъединенных европейских
стилей второй половины столетия он добавил еще
и психологию; новый уровень языка, достигнутый им,
это уровень эссеистики, как уровнем Гейне был уро-
вень фельетона». Обе формы — эссе и фельетон —
предстают как симптомы хронической болезни, при
которой все позиции, все точки зрения определяются
только лишь температурной кривой, и болезнь эта —
неподлинность. Как раз от разоблачения неподлин-
ности и ведет свое начало борьба Крауса против
прессы. «И кто только пустил по свету это великое
оправдание: иметь возможность быть тем, кем ты не
являешься?»
Пустая фраза... Ведь это уродливое порождение
техники! «Газетно-издательский аппарат, подобно фаб-
рике, нуждается в сферах труда и сбыта. Ежедневно,
в установленные часы, — в крупных газетах два-три
раза на дню, — необходимо подготовить и сунуть в ма-
шину известную часть проделанной работы. И не из
первого попавшегося материала, — все, произошедшее
за определенное время в какой-то области жизни, по-
литики, экономики, искусства и т. д., нужно раздобыть
и по-журналистски переработать». Или, в прекрасной
краткой формулировке Крауса: «Насчет техники нуж-
но сказать, что она хоть и не может создать новой
фразеологии, но ум человеческий удерживает в таком
состоянии, когда он не способен обходиться без старой.
В этой двойственности — изменившаяся жизнь и тя-
нущаяся из прошлого форма — живет и здравствует
мировое зло». Здесь Краус разом стягивает узел, в ко-
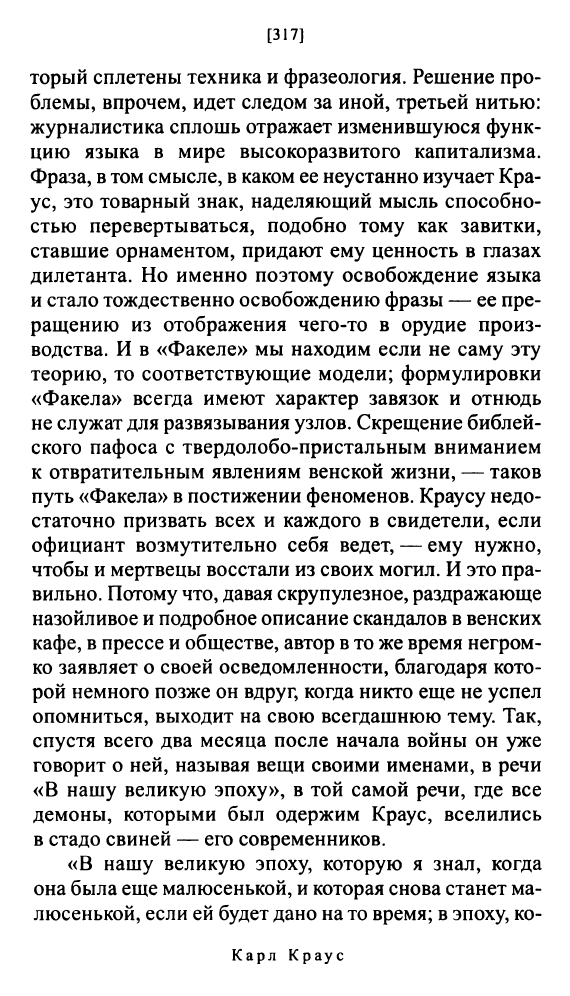
торый сплетены техника и фразеология. Решение про-
блемы, впрочем, идет следом за иной, третьей нитью:
журналистика сплошь отражает изменившуюся функ-
цию языка в мире высокоразвитого капитализма.
Фраза, в том смысле, в каком ее неустанно изучает Кра-
ус,
это товарный знак, наделяющий мысль способно-
стью перевертываться, подобно тому как завитки,
ставшие орнаментом, придают ему ценность в глазах
дилетанта. Но именно поэтому освобождение языка
и стало тождественно освобождению фразы — ее пре-
ращению из отображения чего-то в орудие произ-
водства. И в «Факеле» мы находим если не саму эту
теорию, то соответствующие модели; формулировки
«Факела» всегда имеют характер завязок и отнюдь
не служат для развязывания узлов. Скрещение библей-
ского пафоса с твердолобо-пристальным вниманием
к отвратительным явлениям венской жизни, — таков
путь «Факела» в постижении феноменов. Краусу недо-
статочно призвать всех и каждого в свидетели, если
официант возмутительно себя ведет, — ему нужно,
чтобы и мертвецы восстали из своих могил. И это пра-
вильно. Потому что, давая скрупулезное, раздражающе
назойливое и подробное описание скандалов в венских
кафе, в прессе и обществе, автор в то же время негром-
ко заявляет о своей осведомленности, благодаря кото-
рой немного позже он вдруг, когда никто еще не успел
опомниться, выходит на свою всегдашнюю тему. Так,
спустя всего два месяца после начала войны он уже
говорит о ней, называя вещи своими именами, в речи
«В нашу великую эпоху», в той самой речи, где все
демоны, которыми был одержим Краус, вселились
в стадо свиней — его современников.
«В нашу великую эпоху, которую я знал, когда
она была еще малюсенькой, и которая снова станет ма-
люсенькой, если ей будет дано на то время; в эпоху, ко-
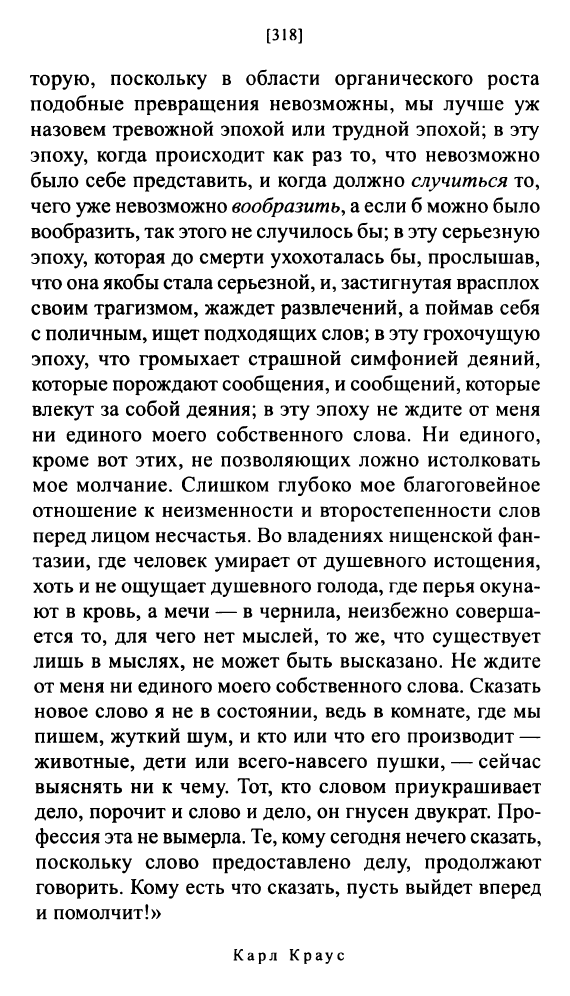
торую, поскольку в области органического роста
подобные превращения невозможны, мы лучше уж
назовем тревожной эпохой или трудной эпохой; в эту
эпоху, когда происходит как раз то, что невозможно
было себе представить, и когда должно случиться то,
чего уже невозможно вообразить, а если б можно было
вообразить, так этого не случилось бы; в эту серьезную
эпоху, которая до смерти ухохоталась бы, прослышав,
что она якобы стала серьезной, и, застигнутая врасплох
своим трагизмом, жаждет развлечений, а поймав себя
с поличным, ищет подходящих слов; в эту грохочущую
эпоху, что громыхает страшной симфонией деяний,
которые порождают сообщения, и сообщений, которые
влекут за собой деяния; в эту эпоху не ждите от меня
ни единого моего собственного слова. Ни единого,
кроме вот этих, не позволяющих ложно истолковать
мое молчание. Слишком глубоко мое благоговейное
отношение к неизменности и второстепенности слов
перед лицом несчастья. Во владениях нищенской фан-
тазии, где человек умирает от душевного истощения,
хоть и не ощущает душевного голода, где перья окуна-
ют в кровь, а мечи — в чернила, неизбежно соверша-
ется то, для чего нет мыслей, то же, что существует
лишь в мыслях, не может быть высказано. Не ждите
от меня ни единого моего собственного слова. Сказать
новое слово я не в состоянии, ведь в комнате, где мы
пишем, жуткий шум, и кто или что его производит —
животные, дети или всего-навсего пушки, — сейчас
выяснять ни к чему. Тот, кто словом приукрашивает
дело,
порочит и слово и дело, он гнусен двукрат. Про-
фессия эта не вымерла. Те, кому сегодня нечего сказать,
поскольку слово предоставлено делу, продолжают
говорить. Кому есть что сказать, пусть выйдет вперед
и помолчит!»
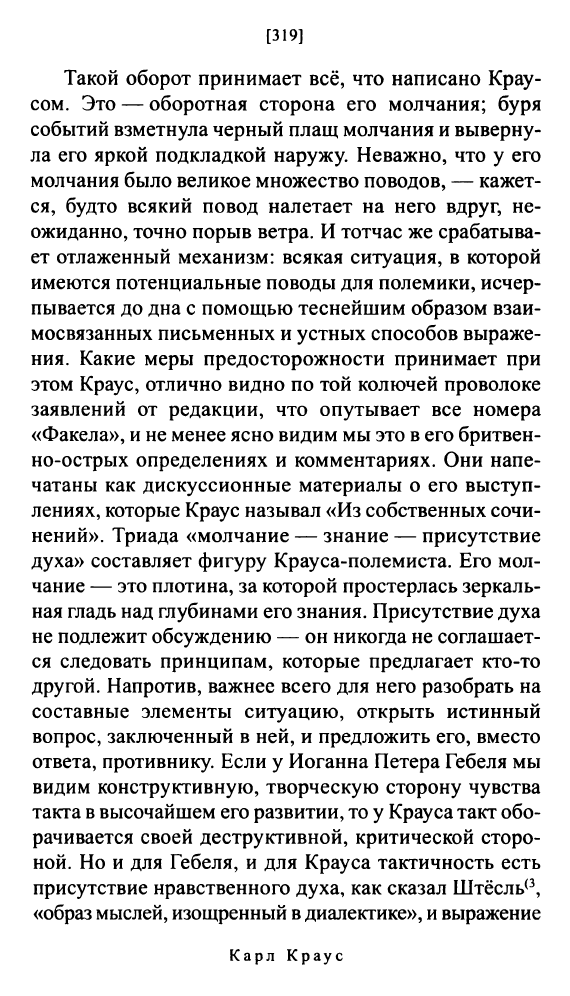
Такой оборот принимает всё, что написано Крау-
сом. Это — оборотная сторона его молчания; буря
событий взметнула черный плащ молчания и выверну-
ла его яркой подкладкой наружу. Неважно, что у его
молчания было великое множество поводов, — кажет-
ся,
будто всякий повод налетает на него вдруг, не-
ожиданно, точно порыв ветра. И тотчас же срабатыва-
ет отлаженный механизм: всякая ситуация, в которой
имеются потенциальные поводы для полемики, исчер-
пывается до дна с помощью теснейшим образом взаи-
мосвязанных письменных и устных способов выраже-
ния. Какие меры предосторожности принимает при
этом Краус, отлично видно по той колючей проволоке
заявлений от редакции, что опутывает все номера
«Факела», и не менее ясно видим мы это в его бритвен-
но-острых определениях и комментариях. Они напе-
чатаны как дискуссионные материалы о его выступ-
лениях, которые Краус называл «Из собственных сочи-
нений». Триада «молчание — знание — присутствие
духа» составляет фигуру Крауса-полемиста. Его мол-
чание — это плотина, за которой простерлась зеркаль-
ная гладь над глубинами его знания. Присутствие духа
не подлежит обсуждению — он никогда не соглашает-
ся следовать принципам, которые предлагает кто-то
другой. Напротив, важнее всего для него разобрать на
составные элементы ситуацию, открыть истинный
вопрос, заключенный в ней, и предложить его, вместо
ответа, противнику. Если у Иоганна Петера Гебеля мы
видим конструктивную, творческую сторону чувства
такта в высочайшем его развитии, то у Крауса такт обо-
рачивается своей деструктивной, критической сторо-
ной. Но и для Гебеля, и для Крауса тактичность есть
присутствие нравственного духа, как сказал Штёсль
(3
,
«образ мыслей, изощренный в диалектике», и выражение
