Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе
Подождите немного. Документ загружается.


Это — кардинальный вопрос, определяющий отноше-
ния политики и морали и не терпящий никакого сгла-
живания. Сюрреализм постоянно приближался к ком-
мунистическому ответу на него. А это значит: песси-
мизм по всему фронту. Исключительно и только он
один. Неверие в литературу, неверие в свободу, неверие
в население Европы, но прежде всего — неверие, не-
верие и неверие в любое согласие: классов, народов,
индивидов. И неограниченная вера в «ИГ Фарбен»
(28
и в мирное усовершенствование военной авиации.
И что же теперь, что дальше?
Тут в свои права вступает та точка зрения, согласно
которой, как сказано в последней книге Арагона «Трак-
тат о стиле», необходимо различать сравнение и образ.
Удачное проникновение в вопросы стиля, требующее
разъяснения. Разъяснение: нигде они — сравнение
и образ — не сталкиваются так откровенно и так
непримиримо, как в политике. Поэтому организация
пессимизма означает не что иное, как изъятие мораль-
ных метафор из сферы политики и признание про-
странства политических действий стопроцентно образ-
ным. Однако это образное пространство абсолютно
непостижимо с позиций созерцательности. Если при-
знать, что двойной задачей революционной интел-
лигенции является свержение интеллектуального
господства буржуазии и установление контакта с про-
летарскими массами, то оказывается, что во втором
случае она потерпела почти полное поражение, по-
скольку созерцательностью тут больше ничего не до-
бьешься. Тем не менее лишь незначительному мень-
шинству это помешало постоянно ставить задачу так,
словно ситуация именно такова, и взг
т
*ать к пролетар-
ским поэтам, мыслителям и художникам. Подобную
точку зрения опроверг уже Троцкий в «Литературе и
революции», указывая, что они могут быть порождены

только победоносной революцией. В действительности
главное не в том, чтобы сделать художника буржуазно-
го происхождения мастером «пролетарского искус-
ства», а в том, чтобы, пусть и за счет художественно-
сти творчества, заставить его действовать на важных
участках этого образного пространства. Да и отчего бы
перерыву в его «карьере художника» не стать важной
частью подобной деятельности?
Тем лучше будут анекдоты, которые он рассказыва-
ет. И тем лучше станет он их рассказывать. Потому что
и в анекдоте, в поношении, в недоразумении, везде, где
само действие порождает образ и становится им, при-
тягивает его и пожирает, где близость глядится сама
в себя, именно там открывается искомое образное
пространство — мир всесторонней и интегральной
актуальности, где нет места «гостиной», одним словом,
такое пространство, где политический материализм
и физиология делят между собой внутренний мир
человека: психику, индивидуальность и прочее, чем мы
их можем попрекнуть, делят по диалектической спра-
ведливости, так, что у него и жилочки целой не оста-
ется. И все равно, именно после диалектического
уничтожения это пространство остается образным про-
странством, конкретнее — телесным пространством.
Ничего не поделаешь, необходимо признать: метафизи-
ческий материализм по Фогту
(29
и Бухарину
00
нельзя
целиком и полностью превратить в материализм антро-
пологический, каким он предстает у сюрреалистов,
а ранее — у Гебеля, Георга Бюхнера
(31
, Ницше
(32
, Рем-
бо.
Кое-что остается. Коллективное тоже телесно.
А физической оболочки, которую дает ему техника, при
всей ее политической и предметной реальности можно
добиться лишь в том самом образном пространстве,
которое мы обживаем при помощи мирского озаре-
ния. Лишь тогда, когда взаимопроникновение тела
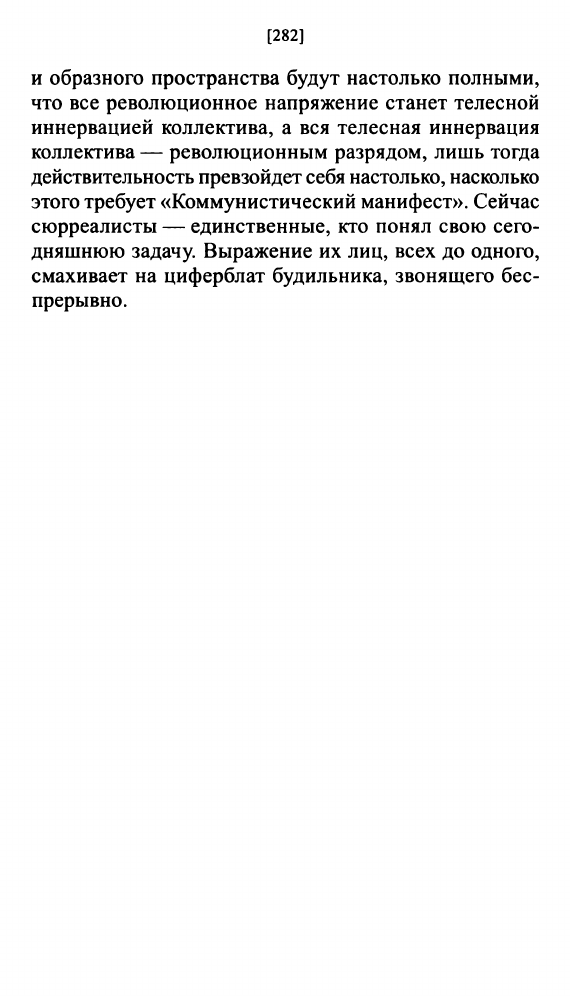
и образного пространства будут настолько полными,
что все революционное напряжение станет телесной
иннервацией коллектива, а вся телесная иннервация
коллектива — революционным разрядом, лишь тогда
действительность превзойдет себя настолько, насколько
этого требует «Коммунистический манифест». Сейчас
сюрреалисты — единственные, кто понял свою сего-
дняшнюю задачу. Выражение их лиц, всех до одного,
смахивает на циферблат будильника, звонящего бес-
прерывно.
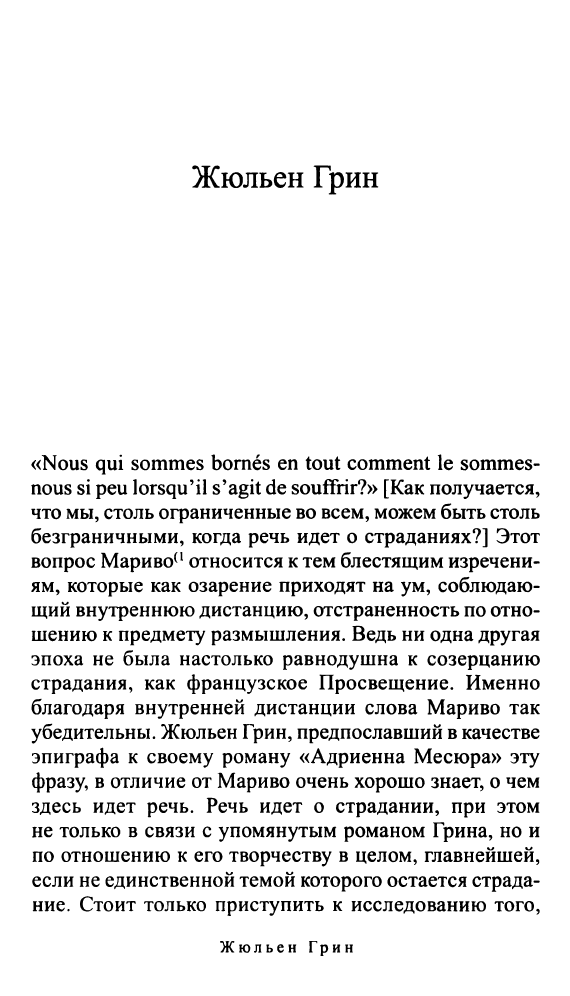
Жюльен Грин
«Nous qui sommes bornes en tout comment le sommes-
nous si peu lorsqu'il
s'agit
de souffrir?» [Как получается,
что мы, столь ограниченные во всем, можем быть столь
безграничными, когда речь идет о страданиях?] Этот
вопрос Мариво
0
относится к тем блестящим изречени-
ям,
которые как озарение приходят на ум, соблюдаю-
щий внутреннюю дистанцию, отстраненность по отно-
шению к предмету размышления. Ведь ни одна другая
эпоха не была настолько равнодушна к созерцанию
страдания, как французское Просвещение. Именно
благодаря внутренней дистанции слова Мариво так
убедительны. Жюльен Грин, предпославший в качестве
эпиграфа к своему роману «Адриенна Месюра» эту
фразу, в отличие от Мариво очень хорошо знает, о чем
здесь идет речь. Речь идет о страдании, при этом
не только в связи с упомянутым романом Грина, но и
по отношению к его творчеству в целом, главнейшей,
если не единственной темой которого остается страда-
ние.
Стоит только приступить к исследованию того,
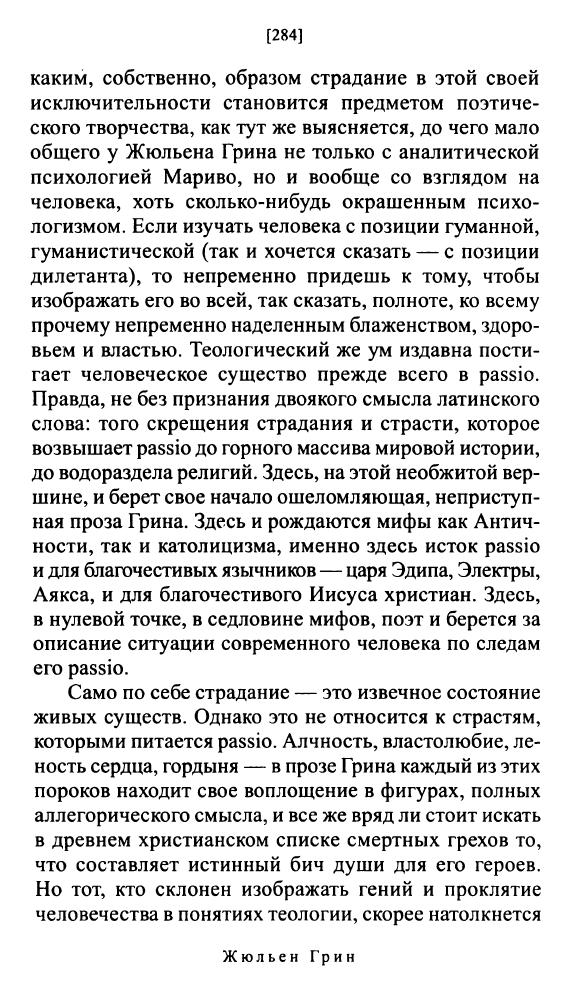
каким, собственно, образом страдание в этой своей
исключительности становится предметом поэтиче-
ского творчества, как тут же выясняется, до чего мало
общего у Жюльена Грина не только с аналитической
психологией Мариво, но и вообще со взглядом на
человека, хоть сколько-нибудь окрашенным психо-
логизмом. Если изучать человека с позиции гуманной,
гуманистической (так и хочется сказать — с позиции
дилетанта), то непременно придешь к тому, чтобы
изображать его во всей, так сказать, полноте, ко всему
прочему непременно наделенным блаженством, здоро-
вьем и властью. Теологический же ум издавна пости-
гает человеческое существо прежде всего в passio.
Правда, не без признания двоякого смысла латинского
слова: того скрещения страдания и страсти, которое
возвышает passio до горного массива мировой истории,
до водораздела религий. Здесь, на этой необжитой вер-
шине, и берет свое начало ошеломляющая, неприступ-
ная проза Грина. Здесь и рождаются мифы как Антич-
ности, так и католицизма, именно здесь исток passio
и для благочестивых язычников — царя Эдипа, Электры,
Аякса, и для благочестивого Иисуса христиан. Здесь,
в нулевой точке, в седловине мифов, поэт и берется за
описание ситуации современного человека по следам
его passio.
Само по себе страдание — это извечное состояние
живых существ. Однако это не относится к страстям,
которыми питается passio. Алчность, властолюбие, ле-
ность сердца, гордыня — в прозе Грина каждый из этих
пороков находит свое воплощение в фигурах, полных
аллегорического смысла, и все же вряд ли стоит искать
в древнем христианском списке смертных грехов то,
что составляет истинный бич души для его героев.
Но тот, кто склонен изображать гений и проклятие
человечества в понятиях теологии, скорее натолкнется

на этот новейший и с точки зрения ада актуальный
порок — нетерпение. Эмили Флетчер
(2
, Адриенна Ме-
сюра, Поль Гере
(3
— все они — языки пламени нетерпе-
ния, колеблющегося в порывах ветра судьбы. Не хочет
ли Грин показать нам, — а именно так, апологетиче-
ски,
можно интерпретировать его произведения, — что
сталось бы с родом человеческим, если бы тот не смог
утолить раздирающее его нетерпение неслыханным
убыстрением движения, новостей и наслаждения? Или
же,
скорее всего, он хочет обуздать опасные силы, ко-
торые таятся внутри этого поколения и только и ждут
возможности еще в тысячу раз ускорить разрушитель-
ный темп? Поскольку страсть (а это основной мотив
passio) нарушает не только Божьи заповеди, но и при-
родный порядок, она пробуждает разрушительные
силы во всей вселенной. Одержимому страстью угро-
жает не столько наказание Божье, сколько бунт приро-
ды против того, кто нарушает естественный ход вещей
и искажает ее облик. Тяготеющий над страстью злой
рок осуществляется с помощью самой же страсти,
и в своем мирском обличье он предстает в виде случая.
В «Левиафане», последней и самой зрелой книге Гри-
на, уничтожение страдающего человека происходит
не столько вследствие внутреннего конфликта, сколь-
ко в результате вовлечения в крайне запутанный клубок
событий. Как и Кальдерон
(4
, мастер драматических
страстей, положивший в основу своих драм барочную
завязку, сугубо механическое роковое стечение обсто-
ятельств, Грин отдает должное и крайности, и значимо-
сти внешних обстоятельств. Случай — это богом забы-
тая необходимость. Потому-то отвергаемая Грином
внутренняя, сущностная сторона страсти в действи-
тельности полностью находится под властью внешних
обстоятельств, так что по сути своей страсть для Божь-
его создания оказывается не чем иным, как агентом слу-

чая.
Составляющая случая — скорость, заражающая
отчаянием судьбы человеческие. Надежда выступает
как ритардандо
(5
судьбы. У Грина люди не в состоянии
надеяться; они не находят для этого времени. Надежда
их бездыханна.
Терпение — вот слово, что вбирает в себя все доб-
родетели, присущие самому автору и отсутствующие
у его героев. Человек, так много знающий об этих не-
истовцах, смотрит отчужденно, широко раскрыв глаза.
Правильностью черт и оливковым оттенком кожи его
лицо напоминает испанца. В безупречном благородстве
его голоса содержится нечто, что не допускает много-
словия, подобное же впечатление производит и его
почерк с четкими, лишенными завитушек буквами: они
движутся словно крадучись. О буквах так и хочется
сказать, что они научились смирению. Труднее всего
поддается описанию та ребячливая позиция, которую
обнаруживает следующее признание Грина: изображе-
ние самого что ни на есть простейшего события, — за-
явил он однажды, — ему не удается, если это событие
произошло с ним самим. Более странное утверждение,
чем это, трудно себе представить, если искать в его
словах заведомо отсутствующую привязку к общепри-
нятому представлению о романе, об этой противоречи-
вой мешанине из пережитого и вымышленного. Грин
стоит по ту сторону пустого и бесплодного двуедин-
ства. Он не записывает ничего из того, что было пере-
жито им самим. Личные его переживания заключают-
ся в самом процессе письма. Однако он ничего и не
выдумывает. Ведь то, что он пишет, не терпит свобод-
ного пространства. По его словам, ничто не вызывает
у него в процессе работы столько сомнений, как про-
стое действие, движение сюжета. Оно не поддается
вымыслу. Он принимается за рукопись и в процессе
писания продолжает жизнь своих персонажей настоль-
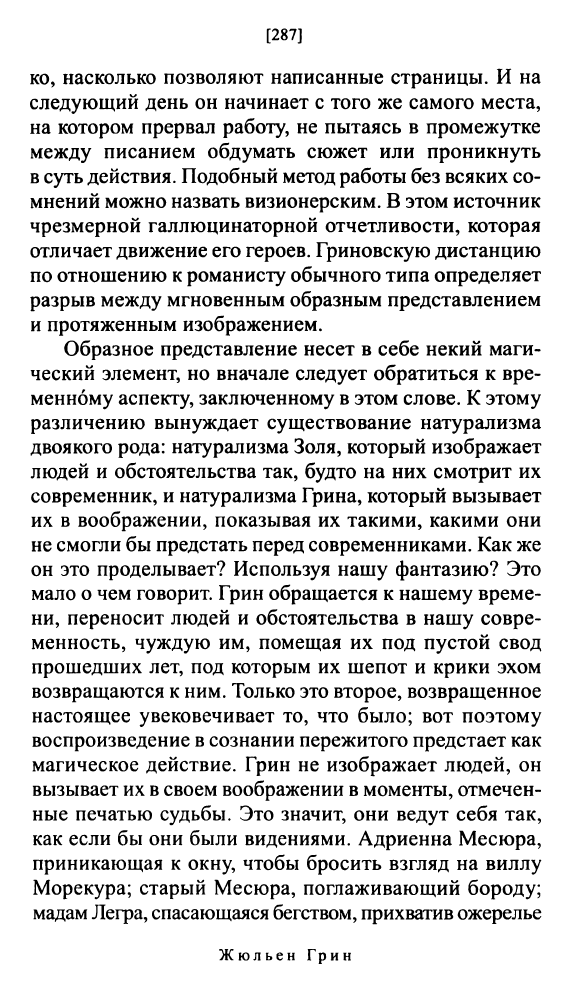
ко,
насколько позволяют написанные страницы. И на
следующий день он начинает с того же самого места,
на котором прервал работу, не пытаясь в промежутке
между писанием обдумать сюжет или проникнуть
в суть действия. Подобный метод работы без всяких со-
мнений можно назвать визионерским. В этом источник
чрезмерной галлюцинаторной отчетливости, которая
отличает движение его героев. Гриновскую дистанцию
по отношению к романисту обычного типа определяет
разрыв между мгновенным образным представлением
и протяженным изображением.
Образное представление несет в себе некий маги-
ческий элемент, но вначале следует обратиться к вре-
менному аспекту, заключенному в этом слове. К этому
различению вынуждает существование натурализма
двоякого рода: натурализма Золя, который изображает
людей и обстоятельства так, будто на них смотрит их
современник, и натурализма Грина, который вызывает
их в воображении, показывая их такими, какими они
не смогли бы предстать перед современниками. Как же
он это проделывает? Используя нашу фантазию? Это
мало о чем говорит. Грин обращается к нашему време-
ни,
переносит людей и обстоятельства в нашу совре-
менность, чуждую им, помещая их под пустой свод
прошедших лет, под которым их шепот и крики эхом
возвращаются к ним. Только это второе, возвращенное
настоящее увековечивает то, что было; вот поэтому
воспроизведение в сознании пережитого предстает как
магическое действие. Грин не изображает людей, он
вызывает их в своем воображении в моменты, отмечен-
ные печатью судьбы. Это значит, они ведут себя так,
как если бы они были видениями. Адриенна Месюра,
приникающая к окну, чтобы бросить взгляд на виллу
Морекура; старый Месюра, поглаживающий бороду;
мадам Легра, спасающаяся бегством, прихватив ожерелье
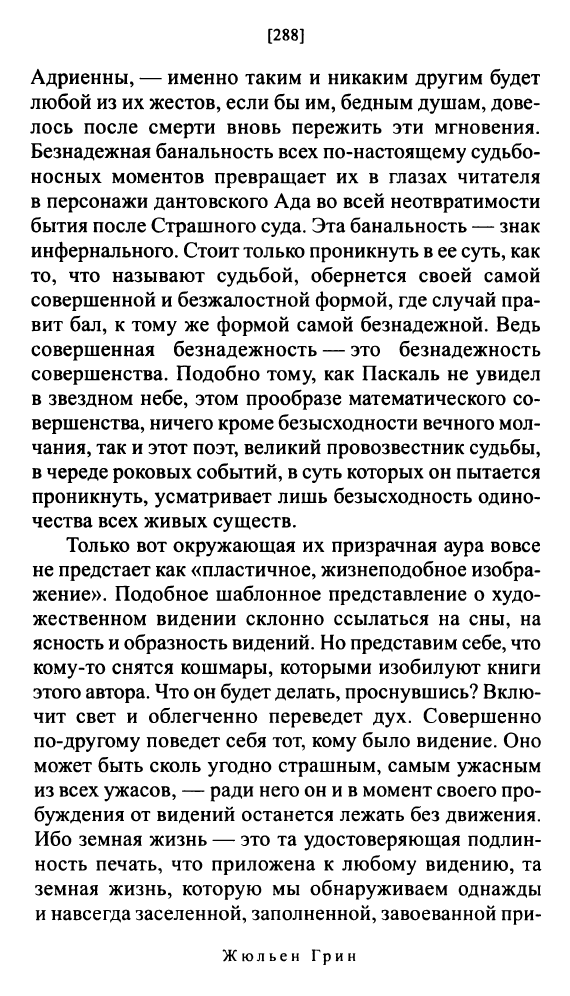
Адриенны, — именно таким и никаким другим будет
любой из их жестов, если бы им, бедным душам, дове-
лось после смерти вновь пережить эти мгновения.
Безнадежная банальность всех по-настоящему судьбо-
носных моментов превращает их в глазах читателя
в персонажи дантовского Ада во всей неотвратимости
бытия после Страшного суда. Эта банальность — знак
инфернального. Стоит только проникнуть в ее суть, как
то,
что называют судьбой, обернется своей самой
совершенной и безжалостной формой, где случай пра-
вит бал, к тому же формой самой безнадежной. Ведь
совершенная безнадежность — это безнадежность
совершенства. Подобно тому, как Паскаль не увидел
в звездном небе, этом прообразе математического со-
вершенства, ничего кроме безысходности вечного мол-
чания, так и этот поэт, великий провозвестник судьбы,
в череде роковых событий, в суть которых он пытается
проникнуть, усматривает лишь безысходность одино-
чества всех живых существ.
Только вот окружающая их призрачная аура вовсе
не предстает как «пластичное, жизнеподобное изобра-
жение». Подобное шаблонное представление о худо-
жественном видении склонно ссылаться на сны, на
ясность и образность видений. Но представим себе, что
кому-то снятся кошмары, которыми изобилуют книги
этого автора. Что он будет делать, проснувшись? Вклю-
чит свет и облегченно переведет дух. Совершенно
по-другому поведет себя тот, кому было видение. Оно
может быть сколь угодно страшным, самым ужасным
из всех ужасов, — ради него он и в момент своего про-
буждения от видений останется лежать без движения.
Ибо земная жизнь — это та удостоверяющая подлин-
ность печать, что приложена к любому видению, та
земная жизнь, которую мы обнаруживаем однажды
и навсегда заселенной, заполненной, завоеванной при-
Ж юл ье
н
Гр
и
н

зраками этих видений. Сменяющие друг друга фазы
погружения в видение и выхода из него — так, должно
быть, следует представлять себе деятельность этого
автора; пребывание в лихорадке, порожденной тысячей
страхов, каждый из которых — страх, связанный с са-
мым фактом рождения. В безжалостном освещении
внешний мир отбрасывает рваные, глубокие тени. Взо-
ру пробуждающегося открывается «юдоль плача».
И возможно, это следует понимать так: когда у чело-
века иссякают все слезы, то сам мир вокруг него увлаж-
няется потом или росой стенаний. Вот на угольном
складе, где скрывается Гере, перебравшийся сюда через
стену, лежат три огромные кучи угля. Грин очень
точно описывает черные груды, мерцающие в лунном
свете. Я помнил это место, когда однажды спросил
писателя, что, по его мнению, стоит у истоков его про-
изведений. Характер? Некий опыт? Идея? На что он
лишь ответил: «Вот о том, что побудило меня написать
мою последнюю книгу, я могу вам сказать совершенно
точно. Это была куча угля, на которую я однажды на-
толкнулся»^ него все группируется вокруг подобных
образов, какими их навечно запоминает взгляд челове-
ка, пробудившегося от страха. Особенно это заметно
в самом начале его книг. Во всех его романах первый
персонаж, с которым знакомится читатель, — это глав-
ный герой, обычно пребывающий в состоянии некой
углубленности: Гере, погруженный в созерцание соб-
ственных часов, Адриенна, сосредоточенно рассматри-
вающая дагерротипы своих предков, Эмили, отрешен-
но созерцающая пейзаж за окном. Все это мгновения
странной рассеянности, погруженности в банальное,
ведь воздействие рока проявляется у гриновских пер-
сонажей в виде симптомов некой болезни. Такими
он их и видит, какими и мы по прошествии многих лет
видим сами себя в воспоминаниях, которые ведь
