Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру
Подождите немного. Документ загружается.


ориентацию в качестве основы для самоидентификации личности бросают
вызов легитимности устоявшихся конституционных демократий.
Отражая общественную динамику, которую мы только еще начинаем
постигать, глобальная интеграция развивается наряду с социокультурной
дезинтеграцией, возрождением различных проявлений сепаратизма, а также
международным терроризмом. Разумеется, тенденция к нарастанию экономи-
ческой, культурной и социальной однородности не первый раз в истории
человеческого рода встречает сопротивление и противодействие, протесты
и
переоценку со стороны тех, кто стремится сохранить автономию собственного
образа жизни и свою систему ценностей. Достаточно вспомнить о
сопротивлении рабочего класса и крестьянства наступлению ранней стадии
промышленного капитализма в Западной Европе. Однако, независимо от
того, называем ли мы нынешние движения «борьбой за признание» (Чарльз
Тейлор, Нэнси Фрейзер и Аксель
Хоннет), «движениями за идентичность или
особость» (Айрис Янг, Уильям Конноли) или «движениями за культурные
права и мультикультурное гражданство» (Уилл Кимли-ка), они
сигнализируют о новых политических подходах, которые выводят проблемы
культурной идентичности в их
мом широком смысле на передний план политического дискурса*.
В этой книге я обращаюсь к тем вызовам, которые бросает теории и
практике либеральной демократии сосуществование в одном и том же
временном и политическом пространстве этих многочисленных движений
- что Джеймс Тьюлли называет «странным многообразием» нашего
времени (Tully 1995). Придерживаясь той точки зрения, что становление
культур происходит в процессе отстаивания социальных традиций, я
считаю, что ответом на это «странное многообразие» стал неоправданный
нормативизм значительной части современной политической теории.
Иными словами, налицо излишне поспешная идентификация тех или иных
групп, неспособность выяснить смысл культурной идентичности и
пренебрежение социологической и исторической литературой по этим
темам. Тут господствует методологический «конструктивизм».
Непродуманный нормативизм выразился в поспешных политических
рекомендациях, грозящих законсервировать существующие групповые
различия.
В противоположность этому я предлагаю модель совещательной
демократии, допускающую максимально широкое - в рамках и с
использованием институтов и объединений гражданского общества -
культурное соперничество в публичной сфере. Отстаивая конституционный
и правовой универсализм на уровне государства, я в то же время считаю, что
определенные формы правового плюрализма и институционального раз-
деления властей за счет предоставления части полномочий региональным
и местным парламентам вполне совместимы с подходами,
предусматривающими совещательную демократию. Я усматриваю различие
между тем, чем занимаются разработчик демократической теории и
теоретик мультикулъту-рализма. При этом я не сомневаюсь, что
большинство мульти-культуралистов полностью поддерживает
демократические порядки и институты. Но мы по-разному расставляем
акценты и считаем приоритетными различные принципы, Болынин-
" Дискурс (лат. discurs, англ, discourse) — рассуждение, разговор,
обоснование чего-либо в ходе обсуждения. — Прим. Ред

ство специалистов, работающих в области теории демократии,
приветствует и поддерживает борьбу за признание и движения за обретение
идентичности или особости в той мере, в какой таковые отождествляются
с движениями за демократию, за большую социальную и политическую
справедливость, культурную подвижность. Мне же представляется, что
движения в поддержку чистоты культурных форм противоречат как
демократическим, так и более глубинным эпистемологическим
соображениям. С философской точки зрения у меня вызывает сомнения
чистота культур и сама возможность идентифицировать их как осмысленно
обособленные целостности. Для меня культуры представляют собой
совокупность элементов человеческой деятельности по осмыслению и
репрезентации, организации и интерпретации [действительности], которая
раскалывается на части конфликтующими между собой нарративами.
Становление культур происходит через сложный диалог между ними. В
большинстве культур, которые достигли некоторой степени внутренней
дифференциации, диалог с другим(и) носит скорее внутренний, нежели
внешний по отношению к самой культуре характер.
Если мы признаем внутреннюю неоднозначность и спорность сущности
культур, то борьба за признание, ведущая к расширению демократического
диалога, осуждению исключительности и иерархичности сложившегося
культурного устройства, достойна нашей поддержки. Культуралистские
движения могут быть оппозиционными и разрушительными в той мере, в
какой они мотивируются иными импульсами
, нежели те, что направлены
на сохранение традиционных ценностей. Очень важно понять,
поддерживаем ли мы требования культурного порядка в силу того, что
хотим сохранить культуры меньшинств в либеральном демократическом
государстве, или же потому, что стремимся расширить круг
демократического участия. В отличие от мультикультуралиста, теоретик
демократического направления признает, что в зрелых обществах
по-
литическое инкорпорирование новых групп приведет, скорее всего, к
гибридизации культурного наследия на обоих полюсах. Современные люди
могут выбрать, поддерживать ли им свои культурные традиции или
разрушить их. Равным образом иммигранты могут быть инкорпорированы
в культуру большинства в ходе процессов пересечения, размывания или
сдвигания границ между доминантной и миноритарной культурами (см
.
Zolberg and Long 1999). Короче говоря, демократическое
инкорпорирование и сохранение преемственности культур могут и не быть
взаимоисключающими. Если все же выбирать между ними, то я поставила
бы распространение демократического участия и равенство выше
сохранения культурных особенностей. Однако часто можно в какой-то
мере одновременно получить и то, и другое. Демократическое равенство и
совещательные процедуры
вполне совместимы с экспериментированием в
культуре и с новыми правовыми и институциональными формами,
сопровождающими культурный плюрализм.
Я использую здесь методы сравнительной культурологии, лингвистики и
политологии, черпая примеры из сферы культурной политики в Испании и
Нидерландах, в Канаде и Турции. Сравнительный подход заставляет нас
почувствовать, как одни и те же движения и требования могут

приобретать в отдельных странах совершенно различный смысл и приносить
неодинаковые результаты. С точки зрения мультикулътурализ-ма
справедливость возникает в промежутках между подобными конфликтами и
парадоксами. Нет путей, которые позволяли бы легко примирить, будь то в
теории или на практике, права индивидуальной свободы с правами
коллективного культурного самовыражения. Находя подсказки в
современных культурных конфликтах, касающихся прав женщин и детей, я
пытаюсь показать, как полное жизни общество совещательной демократии
могло бы с успехом реализовать возможности по максимальному
культурному самоопределению и обеспечению коллективной справедливости
на межгрупповом уровне.
В ходе всего изложения эмпирические и нормативные соображения
сплетены воедино, дабы показать, что в рамках совещательной
демократической модели можно совместить внимание к проблемам
культурного своеобразия и следование универсалистским принципам.
Выступая против попыток других теоретиков пожертвовать либо культурной
политикой, либо нормативным универсализмом, я считаю, что
модернистский взгляд на культуру
, позволяющий видеть в ней сформи-
рованный, но оспариваемый смысл, и универсалистская позиция
совещательной демократии дополняют друг друга.
[Хотелось бы сделать] еще одно замечание более личного плана. С тех пор, как
была написана книга «Определить свое место: тендер, сообщество и
постмодернизм в современной этике» (Benhabib 1992), я настаиваю, что
должным образом истолкованный моральный и политический
универсализм можно примирить с признанием, уважением и демократичес-
ким обсуждением определенных форм различия между людьми. В прошлом я
старалась это доказать, демонстрируя, как совместить уважение
фундаментальных прав с чуткостью и восприимчивостью к тендерным
различиям. Но в данной книге я рассматриваю формы различий,
проистекающие главным образом из общего уклада жизни и культурных
традиций. Не род, мужской или женский, а культура находится на переднем
плане в моем анализе. Хотя, конечно, я пишу и о том, что между культурной
пестротой и тендерными особенностями имеется глубокая и неизбежная связь
(см. далее четвертую главу).
Эта книга начинается на философской ноте. Во введении и второй главе я
рассматриваю философские аспекты своих подходов к культуре, нарративу и
идентичности, а также обрисовываю перспективу комплексных культурных
диалогов. Я пытаюсь показать, что мое видение культур как сущностно
оспариваемых и внутренне противоречивых нарративов совместимо с
приверженностью
дискурсивной этике. Широко распространены сомнения
относительно того, что нормативный универсализм и плюралистически
оспаривающий взгляд на культуры вообще можно примирить друг с другом.
Учитывая это, во второй главе я задаю вопрос: является ли универсализм
приемлемым с точки зрения морали? Ответив на него отрицательно, я
вступаю в спор с философскими теориями, которые страдают
серьезной
несоразмерностью, поскольку они в лучшем случае непоследовательны, а в
худшем - внутренне противоречивы. Прояснив некоторые из
метафилософских
моментов, до недавних пор засорявших дебаты по поводу культурного
релятивизма, в третьей и четвертой главах я перехожу к рассмотрению

политики формирования идентичности/ особости в глобальном контексте.
Третья глава сфокусирована на часто упоминаемом изменении парадигмы
современной политики, [а именно, на сдвиге акцента] от перераспределе-
ния к признанию. В ней рассмотрены три теории культурного признания,
принадлежащие Чарльзу Тейлору, Уиллу Кимли-ке и Нэнси Фрейзер.
Положения о [приоритете] сохранения культуры, которые лежат в основе
некоторых позиций Тейлора и Кимлики, я считаю неприемлемыми. Вместе
с тем я согласна с Фрейзер, что признание культурных особенностей можно
рассматривать в контексте всеобщей справедливости. В то же время
конфликты, возникающие по вопросам прав женщин и детей, которые в
странах либеральной демократии принадлежат к культурным меньшинствам
или к группам иммигрантов, позволяют нам отчетливо увидеть, что в
пропаганде сохранения традиционных культурных своеобразий помимо и
невзирая на индивидуальные права заключен определенный моральный и
политический выбор. В четвертой главе, озаглавленной
«Мультикулътурализм и тендерное гражданство», эти дилеммы
обсуждаются в контексте трех тем: культурной защиты по судебным
делам в рамках американского уголовного права; влияния личного и
семейного кодекса на жизнь мусульманок в Индии; а также «дела о
платках», недавно имевшего место во Франции.
В пятой главе развернута модель двухуровневой концепции совещательной
демократии, в которой определены задачи официальных законодательных,
исполнительных и судебных органов в гражданских обществах и роль
неофициальных гражданских объединений, групп общественных интересов
и социальных движений в публичной сфере. Я отстаиваю данную модель в
противоположность другим современным концепциям
, подобным
«перекрестному консенсусу» Джона Ро-улза, «либеральному эгалитаризму»
Брайана Бэрри и подходу с точки зрения «мультикультурной юрисдикции»,
который защищает Айэлет Шачар. Я утверждаю, что двухуровневый
подход к вопросам мультикультурализма и соответствующим
конфликтам более жизнеспособен, чем то, что предлагают эти альтернативные
теории. Им свойственно сосредоточиваться на официальной публичной
сфере, обходя вниманием модель усвоения культуры в гражданском обществе
через культурный конфликт. Я также уверена, что федеративные институты,
как и некоторые формы мультикультурной юрисдикции, которые не
подрывают принципов индивидуальной и общественной автономии,
прекрасно совмещаются с совещательной демократией.
Центральным вопросом шестой главы являются изменения института
гражданства в современной Европе. Сегодня Европа оказалась зажата между
объединяющими и централизующими силами Европейского Союза, с одной
стороны, и силами мультикультурализма, иммиграции и культурного сепа-
ратизма, с другой. Рассматривая положение выходцев из других государств,
проживающих в странах Европейского Союза
, но не имеющих европейского
гражданства, я анализирую проблему взаимозависимости национальной
принадлежности и гражданства в современном национальном государстве.
Выдвигаемый мною тезис состоит в том, что на уровне европейских
институтов мы является свидетелями «эффекта расщепления», в результате
которого утрачивают связь между собой различные компоненты гражданства -
такие как коллективная идентичность, политические права и
право на со-
циальное обеспечение. Действующими лицами этой масштабной трансформации,

означающей переход от институтов единого гражданства и суверенитета к
«гибкому гражданству» и «рассеянному суверенитету», выступают
современные движения мультикультуралистского характера. В заключение я
привожу некоторые наблюдения, касающиеся последствий таких
трансформаций для потенциала демократического гражданства в условиях
глобальной цивилизации.
Хотя эта книга была завершена летом 2001 года, то есть еще до событий 11
сентября,
многие из обсуждаемых в ней вопросов не только не утратили
своего значения» но и обрели
дополнительную актуальность в свете террористических актов против
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. Я
сосредоточилась в своих размышлениях на условиях жизни мусульман -
мужчин, женщин и детей - в современных либеральных демократических
странах Европы, а
также на положении женщин-мусульманок в Индии и
Израиле, где практикуются мультикультурные модели юрисдикции.
Обратив внимание на дилеммы и затруднения, возникающие из-за попыток
подобных групп сохранить неприкосновенность собственной культуры в
институциональных рамках светских либеральных демократических
государств, мы можем лучше оценить глубинные причины того
недовольства, которым воспользовались в своих целях международные
террористические сети. Трудно найти какие-то нормативные или институ-
циональные ответы на вопрос, как удовлетворить желание религиозно-
этнических мусульманских общин продолжать свой традиционный образ
жизни в культурной среде либерально-демократического универсализма.
Некоторые приходят к выводу, что сосуществование невозможно и
нежелательно. Однако огромное большинство мусульман по всему миру -
как и те
люди, среди которых они живут, - охвачено экспериментом
обучения демократии. В этом демократическом эксперименте культурные
претензии на сохранение многообразия, на «поклонение... древним богам и
подчинение старым священным пророчествам», о чем напоминает нам
Вацлав Гавел, сталкиваются друг с другом и встраиваются в контекст новой
глобальной цивилизации. Мы опутаны паутиной взаимозависимостей,
ставящих нас в
тупик и вызывающих недоумение. В подобных условиях
претензии культур на сохранение своей особости можно реализовать только
путем острых диалогов с представителями иных культур, что может иметь
своим результатом не только лучшее знакомство и взаимное понимание, но
также и отчуждение и соперничество.
Слова благодарности
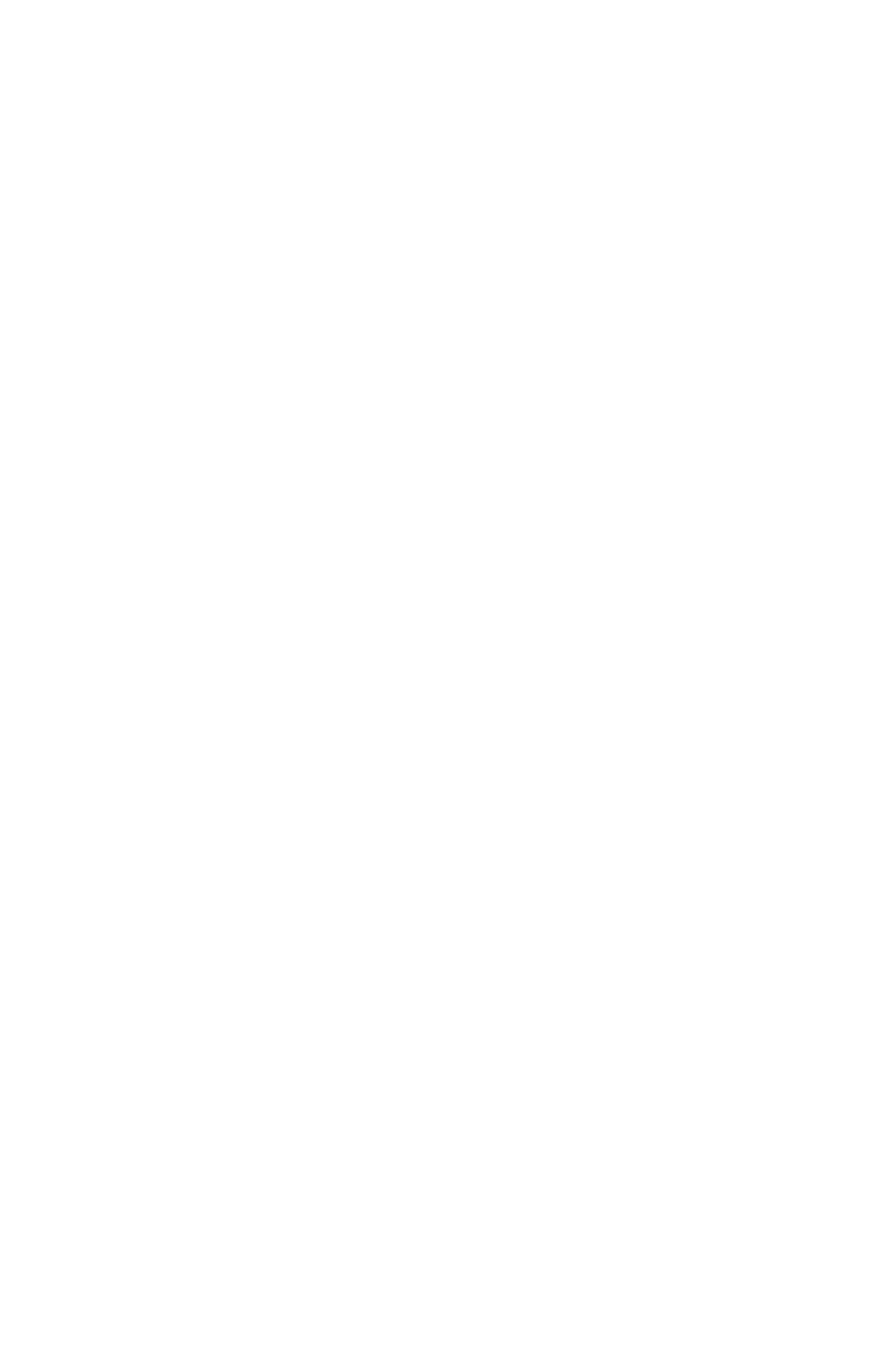
Весной 1998 года я имела честь выступить с тремя лекциями по
приглашению Гауссовских семинаров в Принстоне. Этому
предшествовали лекции в память Макса Хоркхаймера, которые я читала в
Университете имени Иоганна Вольфганга Гете во Франкфурте в 1997
году. Данное мероприятие было совместно поддержано издательством
«Фишер» и факультетом философии. Текст лекции памяти Макса
Хоркхаймера был опубликован в Германии в 1999 году под названием
«Кulturelle
Vielfalt und demokratische Gleichheit: Politische Partizipation im Zeitalter
der
Globalisierung»
(«Культурное разнообразие и демократическое равенство:
политическое участие в эпоху глобализации»). В настоящую книгу
включена часть этого материала, однако для английского издания он был
тщательно переработан и расширен. Введение, четвертая и пятая главы, а
также заключение написаны заново, все прочие главы существенно
изменены.
Мое понимание рассматриваемых в книге проблем изменилось за
последние пять лет в результате общения с несколькими людьми. Прежде
всего это мои студенты Патчен Мар-келл, Санхар Муту, Эдвина Барбоза,
Микаэль Фергюсон, а также Даниэль Сулейман. Их докторские
диссертации и, в случае с Даниэлем, его дипломная работа обогатили мое
ощущение важности культуры
для политики. Мои коллеги в Комитете по
присуждению степеней в области социальных исследований в Гарварде —
Эйприл Флэкн, Пратар Мета, Глин Морган и Сейрс Руди —
благожелательно, хотя порою и скептически, наблюдали, как я работаю над
своей аргументацией. Я особенно благодарна Каролин Эмке, Райнеру
Форсту, Нэн
си Фрейзер, Бонни Хониг, Моррису Каплану, Лоренцо Симп-
сону, Лесли МакКоллу и больше всех Амели Рорти и Дорис Соммер,
которые читали и комментировали разные части этой работы. Анни Штильц
была дотошным ассистентом-исследователем, вычитывала текст и
обсуждала идеи. Без ее усердной работы эта книга так и не обрела бы
окончательного вида
. Я благодарна также Ралуке Мунтону и Виллему Мису
из Йельс-кого университета, чья помощь особенно пригодилась на за-
вершающих стадиях работы.
Развить свои идеи, поделившись ими с другими людьми, мне дали
возможность несколько конференций и академические связи. Я выражаю
признательность Стивену Льюксу и Кристиану Иоппке за организацию
прекрасной конференции «Мультикультурализм, меньшинства и
гражданство» в Европейском университетском институте во Флоренции в
апреле 1996 года. Вторая глава основана на публикации материалов этой
конференции (см. Benhabib 1999a). Весной 1997 года я работала
приглашенным профессором по линии Фонда Канада Бланк (Canada Blanc
Foundation) в Университете Валенсии, а летом 2000 года — профессором по
гранту имени Баруха Спинозы в Амстердамском университете. Эти поездки
приоткрыли мне глаза на сложность языковой и этнической ситуации в
современной Европе, на ее многообразие и зависимость от конкретных
условий. Я благодарю профессора Неуса Кам-пилло из Валенсии и
профессоров Гента де Ври, Байта Баде-ра и Карин Винтгес из Амстердама
за понимание и высказанные ими замечания. Особая благодарность
выражается также участникам Группы по политической теории в
Университете Торонто: Рональду Байнеру, Джо Каренсу и Дженифер Не-
дельски. Они ознакомились с выдержками из третьей и пятой глав на
различных стадиях их написания и дали свои комментарии.

Слушатели Гауссовских лекций, которые я читала в Прин-стоне, поддержали
многие отстаиваемые мною положения, но и выдвинули возражения против
ряда других. Я высоко ценю замечания и критику Эми Гутман, Джорджа
Кэтеба, Джакоба Леви, Мишель Ламон и Майкла Уолцера.
Фонд Рассела Сейджа обеспечил замечательные и комфортные
организационные условия зимой 2001 года, позволившие мне завершить
подготовку своей рукописи. Мне также хотелось бы отметить значение
исследовательского гранта имени Тозье-Кларка от Гарвардского
университета в поддержку настоящего труда.
Лора и Джим, моя семья, разделили со мной испытания и неприятности двух
нелегких лет работы. Я благодарна им за любовь, разумность, юмор и
терпение, а также за то, что они всегда меня поддерживали.
Эта книга посвящается моим сестрам — Лизет Шамаш и Доли Бен-Хавив. Они
научили меня преодолевать различия культур, языков, территорий и
гражданства, сохраняя при этом солидарность и достоинство.
О пользе культуры и злоупотреблении ею
(Введение)
Культура и ее мутации
Превращение культуры в арену интенсивных политических столкновений
составляет один из наиболее интересных аспектов нашего современного
состояния. Мы ежедневно имеем дело со «стычками», если не с войнами,
из-за культуры: начиная с решений Верховного суда о праве участников
публичных представлений мазать себя составами, похожими на
экскременты, до признания в канадском суде устных историй о коренных
народах в качестве законного свидетельства; от споров о том, как
сохранить историческую память с помощью произведений искусства,
смысл которых для различных культурных групп сильно варьируется, до
дебатов по поводу преподавания истории в рамках мультикультурных
учебных планов.
Притязания разных групп, выдвигаемые по поводу того или иного
аспекта их культурной идентичности, соперничают между собой в
публичной сфере стран капиталистической демократии и вплетены в
типичные столкновения, возникающие по поводу перераспределения и
признания. Культура стала общеупотребительным синонимом
идентичности, ее характерным и определяющим признаком. Конечно,
культура всегда была знаком социальной
дифференциации. Новым же ока-
зывается то, что сейчас группы, формирующиеся вокруг подобных
знаков идентичности, требуют от государства и его органов правового
признания и предоставления им ресурсов для сохранения и защиты своих
культурных особенностей. Политика [признания] идентичности вовлекает
государство в культурные войны. Соответственно, изменилось и само
понятие культуры
Слово «культура» происходит от латинского colare и означает деятельность
по сохранению, заботе и уходу. Римляне считали ведение сельского
хозяйства по преимуществу «культурной» деятельностью. Однако с
наступлением на Западе эпохи модернити, с приходом капиталистического

товарного производства, рационализированного научного мировоззрения и
бюрократического административного контроля исходный смысл культуры
кардинально изменился. В период романтизма культура
противопоставлялась цивилизации, отличительной чертой которой было как
раз то, что она не поощряла заботливого «ухода» за чем-либо. В этом
отражался вызов, брошенный капиталистическим товарным
производством, которое подталкивало науку и промышленность ко все
более быстрой экспансии. В изложении немецких романтиков, таких как
Иоганн Готфрид Гердер, Kultur представляет собою общие ценности,
смыслы, языковые знаки и символы народа, который, в свою очередь,
рассматривается как единая и однородная общность (см. Parens 1994). Kultur
относится к формам выражения, через которые дает о себе знать «дух»
одного народа, отличающий его от других. С такой точки зрения обретение
культуры отдельным индивидом предполагает духор-ное погружение в
ценности коллектива и воспитание через постижение [этих ценностей].
Подразумевая под культурой процесс интеллектуально-духовного
формирования (Bildung-придание душе определенной формы и
очертания), данное Гердером определение сохраняет некоторые аспекты
первоначальных значений формирующей деятельности, которые связывались
с культурой. Цивилизация же, напротив, имеет отношение к материальным
ценностям и порядкам, которые приняты сообществом людей и не
отражают индивидуальности. Она приблизительно обозначает буржуазный
капиталистический мир. Зто противопоставление цивилизации и культуры
стоит в одном ряду с другими парами противоположностей, такими как
экспансия и обращенность вовнутрь, поверхностность и глубина, линейный
прогресс и органичное развитие, а также индивидуализм и коллективизм
1
.
С появлением в Европе массовых тоталитарных движений в 1920-е и 1930-
е годы возникло беспокойство по поводу
самой возможности существования культуры. Бывает ли культура
«массовой»? Способны ли массы осваивать культуру? Дискуссия на этот
счет началась уже в Веймарской республике в 1920-е годы. Во время
Второй мировой войны эмигранты-интеллектуалы, такие как Ханна
Арендт и члены Франкфуртской школы, перенесли ее через Атлантику и в
этом свете проанализировали опыт массового потребительского общества в
демократических странах. Массовая культура характеризовалась всеми
негативными атрибутами, которые прежде связывались с понятием
Zivuisation, а именно: поверхностностью, однородностью, механической
воспроизводимостью, нестойкостью и неоригинальностью. Массовая
культура никого не воспитывает и не изменяет; она не формирует душу, не
выражает духа или коллективного гения народа. Это чистое развлечение, а
по памятному выражению Теодора Адорно, «развлечение есть
предательство» ([1947] 1969, pp. 128-158). Развлечение обещает радость
массам потребителей, которые видят на экране и в голливудских
персонажах то обещание счастья, которое развитый капитализм всегда им
сулит, но никогда не обеспечивает.
Наблюдая дискуссии о культуре, идущие сегодня в академических кругах и
за их пределами, поражаешься, насколько устарело прежнее ценностно-
нагруженное противопоставление между Kuttur и Zivilisation. Теперь
преобладает эгалитарное представление о культуре, берущее начало в
социальной антропологии Бронислава Малиновского, Эванса Притчарда,
Маргарет Мид и Клода Леви-Строса, критиковавших евроцентричное
понимание культуры. Они рассматривали культуру как сумму социальных
систем и порядков, связанных с наделением смыслом, репрезентацией и

символизацией. У них имеется собственная автономная логика, отдельная
от и не сводимая к намерениям тех, в чьих действиях и поступках культура
проявляется и воспроизводится. Прежний контраст между культурой и
цивилизацией, как и связанная с ним тревога по поводу массовой
культуры, иногда вновь выходят в этих дискуссиях на поверхность, но
чаще всего
общепринятый смысл автономии культуры связывается с
понятием идентичности. Британская социальная антропология и
французский
структурализм демократизируют понятие культуры, устраняя его
противопоставление понятию цивилизации. Тем не менее, хотя
противопоставление Гердером культуры и цивилизации, как
представляется, мало соответствует этим новым подходам,
отождествление духа народа с проявлениями его культурной самобытности
сохраняет свое значение.
В этом смысле многое в современной культурной политике ныне
представляет собой странную смесь антропологических воззрений на
демократическое равенство всех культурных форм самовыражения и
романтического акцента в духе Гердера на неустранимой уникальности
всякой такой формы (см. Joppke and Lukes 1999, p. 5). Будь то в
политическом процессе или в государственной политике, в суде или в
средствах массовой информации, повсюду принято считать, что у каждой
группы людей «имеется» своего рода «культура» и что границы между этими
группами и контуры их культур можно точно установить и относительно
легко описать. Помимо прочего, нам говорят, что такие культуры и
культурные различия следует сохранять и передавать по наследству.
Консерваторы настаивают, что культуры нужно сохранять, чтобы держать
группы по отдельности друг от друга, так как смешение культур ведет к
конфликту и нестабильности. Они надеются избежать «столкновения
цивилизаций» путем укрепления политических союзов, строго
соответствующих делению на основе культурной идентичности (Huntington
1996), поскольку попытки преодолеть такое деление ведут к мешанине и
беспорядку
2
. Прогрессисты же, напротив, утверждают, что культуры
необходимо сохранять, чтобы избавиться от доминирования и вреда,
связанного с неприятием и подавлением одних культур другими.
Представления как консерваторов, так и прогрессистов имеют общие
ошибочные эпистемологические посылки: (1) будто культуры
представляют собой четко очерченные целостности; (2) будто культуры
соответствуют группам населения и возможно непротиворечивое описание
культуры определенной группы людей; (3) будто даже если культуры и груп-
пы не полностью соответствуют друг другу
, если в рамках одной группы
заключено более одной культуры и более одной
группы могут иметь одни и те же культурные черты, это не составляет
серьезной проблемы для политического процесса и государственной
политики. Подобные предположения составляют то, что я назвала бы
«упрощенческой социологией культуры». По словам Теренса Тернера,
подобная точка зрения «несет в себе опасность возведения в абсолют идеи
культуры как свойства этнической группы или расы; превращения культур
в самостоятельные сущности вследствие придания слишком большого
значения их разграничению и особос-ти; чрезмерного упора на внутреннюю
однородность культур в условиях, которые потенциально оправдывают
репрессивные требования в пользу подчинения общим правилам; своим же
отношением к культурам как к знакам групповой идентичности эта точка

зрения создает тенденцию фетишизировать их таким образом, что они
оказываются вне досягаемости для критического анализа» (Turner 1993, р.
412). Центральный тезис настоящей книги состоит в том, что значительная
часть современных споров в сфере политической и правовой философии
обусловлена такого рода ошибочной эпистемологией. Это имеет серьезные
нормативные политические последствия в отношении того, как, по нашему
мнению, нужно восстанавливать справедливость в отношениях между
группами и как надлежит содействовать разнообразию и плюрализму в
человеческом общежитии. Наше понимание подобных вопросов страдает от
нашей приверженности упрощенческой социологии культуры.
Социальный конструктивизм и его нормативные следствия
На всем протяжении этой книги я выступаю за социальный конструктивизм
как исчерпывающее объяснение культурных различий и против усилий в
области нормативной политической теории, направленных на
абсолютизацию культурных групп и их борьбы за свое признание. Без
сомнения, многие современные авторы, пишущие о мультикультурализме,
тоже отвергают
подобный культурный эссенциализм (см.Tally 1995, р. 7 и
далее; Parekh 2000, pp. 77-80,142-158; Carens 2000, p. 52
и далее). Но они делают это по иным причинам, а эпистемологические
предпосылки, приводящие их к подобному отрицанию, зачастую остаются
неясными. Мою критику культурного эссенциализма отличает нарративный
взгляд на действия и питающую их культуру. По моему мнению, всякий
анализ культуры, будь то эмпирический или нормативный, должен начи-
наться с проведения различия между точками зрения социального
наблюдателя и социального агента. Социальный наблюдатель - будь то
повествователь или хроникер в XVIII веке; генерал, лингвист или
реформатор сферы образования в XIX веке; антрополог, секретный агент
или специалист в области теории развития в XX веке - это тот, кто вместе с
местными элитами приписывает единство и последовательность культурам
как наблюдаемым целостностям. Во всяком случае, взгляд,
воспринимающий культуры как четко очерченные целостности,
представляет собой взгляд извне, и он устанавливает связи, позволяющие
осмысливать реальность и контролировать ее. Те же, кто непосредственно
участвует в [той или иной] культуре, напротив, воспринимают свои
традиции, истории, ритуалы, а также символы, навыки и материальные ус-
ловия жизни через общие, пусть даже небесспорные и оспариваемые
[другими] нарративы
3
. Изнутри культура вовсе не кажется некоей
целостностью; скорее, она задает горизонт, постоянно удаляющийся по
мере приближения к нему.
Один из самых эффектных примеров создания культурного единства за счет
многообразных внешних дискурсивных интервенций можно увидеть в
индуистской практике сати, согласно которой овдовевшая жена приносит
себя в жертву, всходя на погребальный костер своего мужа. Анализируя про-
цесс формирования традиций, Ума Нарайан задумывается о том, «как и
почему эта специфическая практика, маргинальная для многих
индуистских сообществ, не говоря уж об Индии в целом, стала считаться
одной из основных индийских традиций» (Narayan 1997, р. 61). Ее ответ,
основанный на современной историографии Индии колониального
периода, состоит в том, что смысл и статус сати как одной из традиций
возникли в [процессе] переговоров между британскими колонизаторами и
местными индийскими элитами. Колониальная администрация, движимая
моральным и цивилизационным отвращением к этой практике, стремилась
