Бенестад Ф., Шельдеруп-Эббе., Д. Эдвард Григ - человек и художник
Подождите немного. Документ загружается.

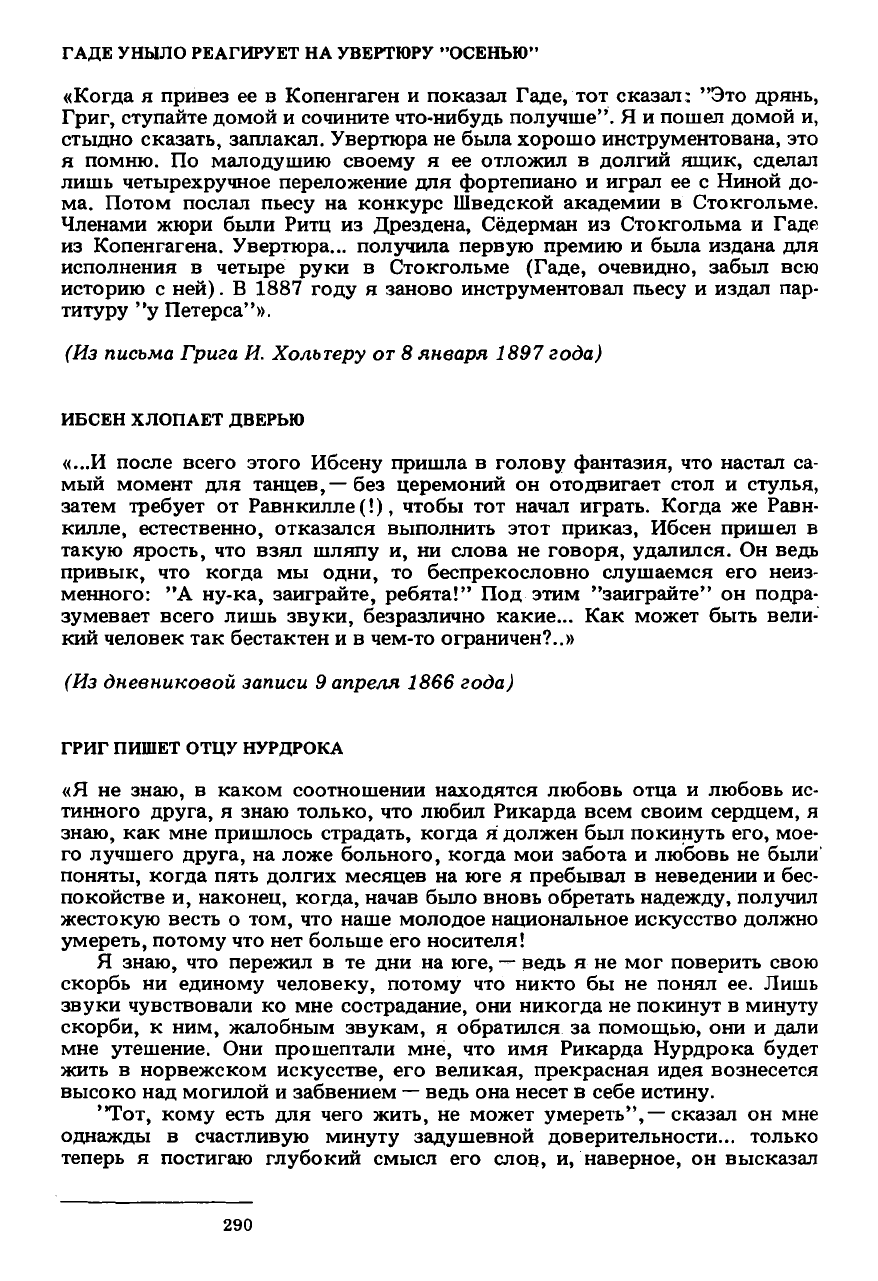
ГАДЕ УНЫЛО РЕАГИРУЕТ НА УВЕРТЮРУ "ОСЕНЬЮ"
«Когда я привез ее в Копенгаген и показал Гаде, тот сказал: "Это дрянь,
Григ, ступайте домой и сочините что-нибудь получше". Я и пошел домой и,
стыдно сказать, заплакал. Увертюра не была хорошо инструментована, это
я помню. По малодушию своему я ее отложил в долгий ящик, сделал
лишь четырехручное переложение для фортепиано и играл ее с Ниной до-
ма. Потом послал пьесу на конкурс Шведской академии в Стокгольме.
Членами жюри были Ритц из Дрездена, Сёдерман из Стокгольма и Гаде
из Копенгагена. Увертюра... получила первую премию и была издана для
исполнения в четыре руки в Стокгольме (Гаде, очевидно, забыл всю
историю с ней). В 1887 году я заново инструментовал пьесу и издал пар-
титуру "у Петерса"».
(Из письма Грига И. Холътеру от
8 января 1897 года)
ИБСЕН ХЛОПАЕТ ДВЕРЬЮ
«...И после всего этого Ибсену пришла в голову фантазия, что настал са-
мый момент для танцев,—без церемоний он отодвигает стол и стулья,
затем требует от Равнкилле(!), чтобы тот начал играть. Когда же Равн-
килле, естественно, отказался выполнить этот приказ, Ибсен пришел в
такую ярость, что взял шляпу и, ни слова не говоря, удалился. Он ведь
привык, что когда мы одни, то беспрекословно слушаемся его неиз-
менного: "А ну-ка, заиграйте, ребята!" Под этим "заиграйте" он подра-
зумевает всего лишь звуки, безразлично какие... Как может быть вели-
кий человек так бестактен и в чем-то ограничен?..»
(Из
дневниковой записи 9 апреля
1866
года)
ГРИГ ПИШЕТ ОТЦУ НУРДРОКА
«Я не знаю, в каком соотношении находятся любовь отца и любовь ис-
тинного друга, я знаю только, что любил Рикарда всем своим сердцем, я
знаю, как мне пришлось страдать, когда я должен был покинуть его, мое-
го лучшего друга, на ложе больного, когда мои забота и любовь не были
поняты, когда пять долгих месяцев на юге я пребывал в неведении и бес-
покойстве и, наконец, когда, начав было вновь обретать надежду, получил
жестокую весть о том, что наше молодое национальное искусство должно
умереть, потому что нет больше его носителя!
Я знаю, что пережил в те дни на юге,
—
ведь я не мог поверить свою
скорбь ни единому человеку, потому что никто бы не понял ее. Лишь
звуки чувствовали ко мне сострадание, они никогда не покинут в минуту
скорби, к ним, жалобным звукам, я обратился за помощью, они и дали
мне утешение. Они прошептали мне, что имя Рикарда Нурдрока будет
жить в норвежском искусстве, его великая, прекрасная идея вознесется
высоко над могилой и забвением
—
ведь она несет в себе истину.
"Тот, кому есть для чего жить, не может умереть",—сказал он мне
однажды в счастливую минуту задушевной доверительности... только
теперь я постигаю глубокий смысл его слоз, и, наверное, он высказал
290
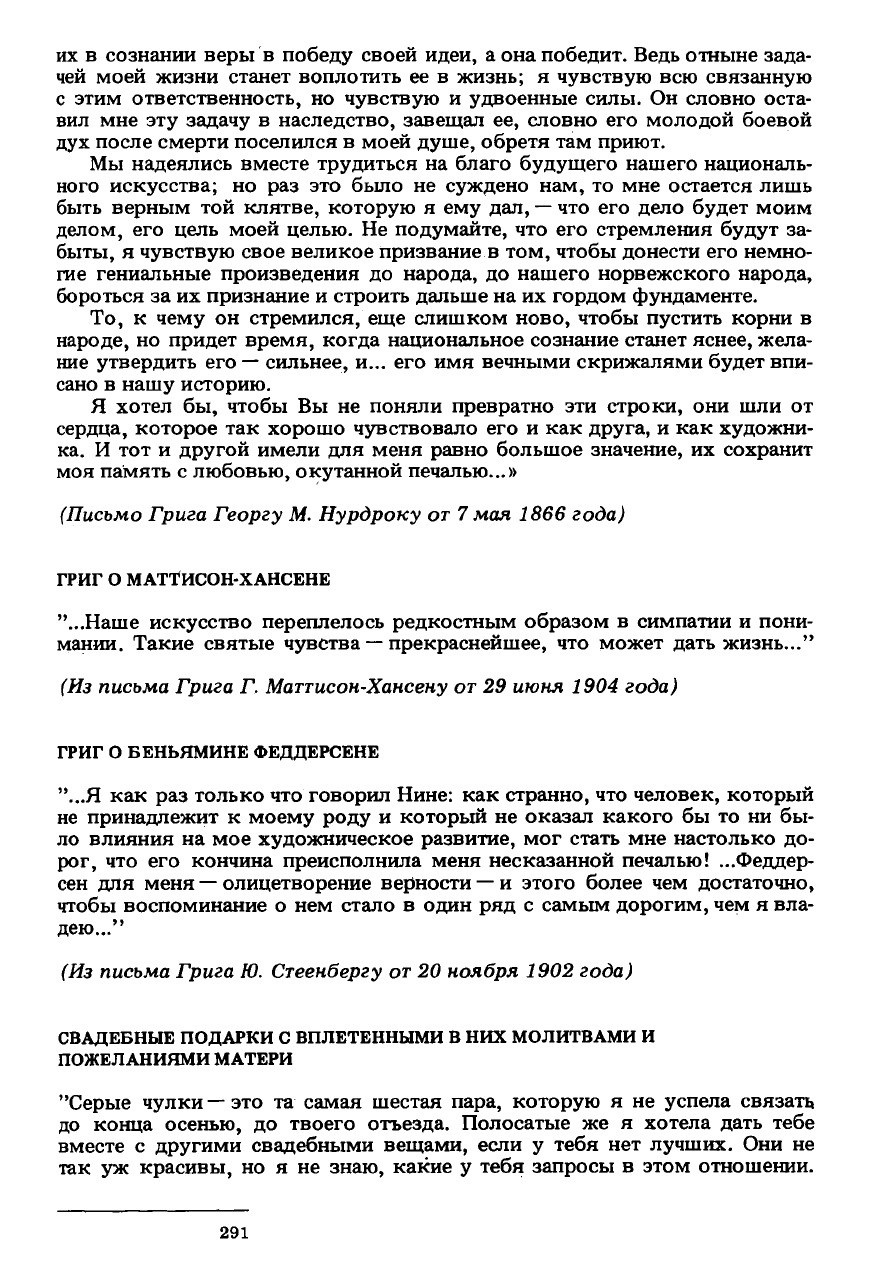
их в сознании веры в победу своей идеи, а она победит. Ведь отныне зада-
чей моей жизни станет воплотить ее в жизнь; я чувствую всю связанную
с этим ответственность, но чувствую и удвоенные силы. Он словно оста-
вил мне эту задачу в наследство, завещал ее, словно его молодой боевой
дух после смерти поселился в моей душе, обретя там приют.
Мы надеялись вместе трудиться на благо будущего нашего националь-
ного искусства; но раз это было не суждено нам, то мне остается лишь
быть верным той клятве, которую я ему дал, —что его дело будет моим
делом, его цель моей целью. Не подумайте, что его стремления будут за-
быты, я чувствую свое великое призвание в том, чтобы донести его немно-
гие гениальные произведения до народа, до нашего норвежского народа,
бороться за их признание и строить дальше на их гордом фундаменте.
То, к чему он стремился, еще слишком ново, чтобы пустить корни в
народе, но придет время, когда национальное сознание станет яснее, жела-
ние утвердить его
—
сильнее, и... его имя вечными скрижалями будет впи-
сано в нашу историю.
Я хотел бы, чтобы Вы не поняли превратно эти строки, они шли от
сердца, которое так хорошо чувствовало его и как друга, и как художни-
ка. И тот и другой имели для меня равно большое значение, их сохранит
моя память с любовью, окутанной печалью...»
(Письмо Грига Георгу М.
Нурдроку
от 7
мая
1866
года)
ГРИГ О МАТТИСОН-ХАНСЕНЕ
"...Наше искусство переплелось редкостным образом в симпатии и пони-
мании. Такие святые чувства
—
прекраснейшее, что может дать жизнь..
(Из
письма
Грига Г. Маттисон-Хансену от
29 июня 1904 года)
ГРИГ О БЕНЬЯМИНЕ ФЕДДЕРСЕНЕ
"...Я как раз только что говорил Нине: как странно, что человек, который
не принадлежит к моему роду и который не оказал какого бы то ни бы-
ло влияния на мое художническое развитие, мог стать мне настолько до-
рог, что его кончина преисполнила меня несказанной печалью! ...Феддер-
сен для меня
—
олицетворение верности
—
и этого более чем достаточно,
чтобы воспоминание о нем стало в один ряд с самым дорогим, чем я вла-
дею..."
(Из письма Грига Ю. Стеенбергу от
20 ноября 1902 года)
СВАДЕБНЫЕ ПОДАРКИ С ВПЛЕТЕННЫМИ В НИХ МОЛИТВАМИ И
ПОЖЕЛАНИЯМИ МАТЕРИ
"Серые чулки—это та самая шестая пара, которую я не успела связать
до конца осенью, до твоего отъезда. Полосатые же я хотела дать тебе
вместе с другими свадебными вещами, если у тебя нет лучших. Они не
так уж красивы, но я не знаю, какие у тебя запросы в этом отношении.
291

Мои молитвы и пожелания вплетены в них. Ими же покрыт и круглый сто-
лик
—
если ты сохранил здоровые, неиспорченные глаза, то увидишь их.
Я хочу попросить тебя относиться к нему с почтением. Столешницу его я
получила еще от моих дорогих родителей. Какое лучшее применение я
могу ей найти, как не подарить ее своему дорогому сыну
—
скромный
знак моей неизменной любви, как бы ни смешивалась она со страданием.
Любимый и уважаемый мною внук моего отца наверняка, с божьей по-
мощью, вновь обретет и ощутит счастье в жажде детского утешения и
надежной любви, которая столько раз делала меня сильной и счастливой.
Николас Кнудсен сделал основание столика, который я собиралась по-
слать тебе к дню рождения как дополнение к твоей обстановке. Но так
как рояль мы отправляем сегодня, то посылаю и столик, а заодно с ни-
ми
—
свое благословение того важного шага, который ты намереваешься
совершить. Да будет же господь милостив ко всем нам. Твоя нежная
мать..."
(Письмо
Эдварду
от матери
перед свадьбой)
ССОРА МЕЖДУ ОТЦОМ И СЫНОМ
'Ты давно не получал от меня никаких новостей, и это не должно тебя
удивлять, пока ты будешь продолжать писать мне письма, подобные по-
следнему. Похоже на то, что ты не вполне можешь справиться с ношей
своей удачи
—
ты становишься надменным, а ведь ты хорошо знаешь, что
именно это я могу терпеть менее всего. Я долго колебался, не лучше ли
мне написать Нине,
—
в надежде, что она поймет меня лучше. Но мне ка-
жется, что это противоестественно
—
использовать ее, знающую меня
так мало, для урегулирования отношений между отцом и сыном,—от-
ношений, которые всегда строились на любви. Когда я вспоминаю прежнее
время —до того, как ты стал взрослым, и позже, то могу сказать, что ты
всегда был любящим сыном, а поскольку я совершенно уверен в том, что
мое отношение к тебе не претерпело ни малейшего изменения
—
кроме
того, что я, может быть, лучше вижу и понимаю твои ошибки,
—
то твое
поведение представляет для меня загадку... Когда я сталкиваюсь с низо-
стью
—
особенно там, где я менее всего предполагаю таковую встретить,
—
то это до такой степени возмущает мою душу, что здоровье мое подка-
шивается и я становлюсь неспособен к чему бы то ни было... Но доволь-
но на этот раз, дорогой Эдвард! Дай мfee убедиться, что ты изменил свою
тактику, что ты проявляешь себя истинным христианином, покладистым
и любящим.
Прими нежные приветы от родителей и сестер
—
тебе и Нине. Живите
оба хорошо и счастливо, это пожелание
—
от всего сердца".
(Письмо
Александера
Грига
Эдварду
от
24 июля
1867
года)
ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
«...Я до такой степени занят всевозможной ерундой, что желал бы, чтобы
сутки состояли из 48 часов...
В последнее время я, как говорят портные, "образовал себя в своем
292
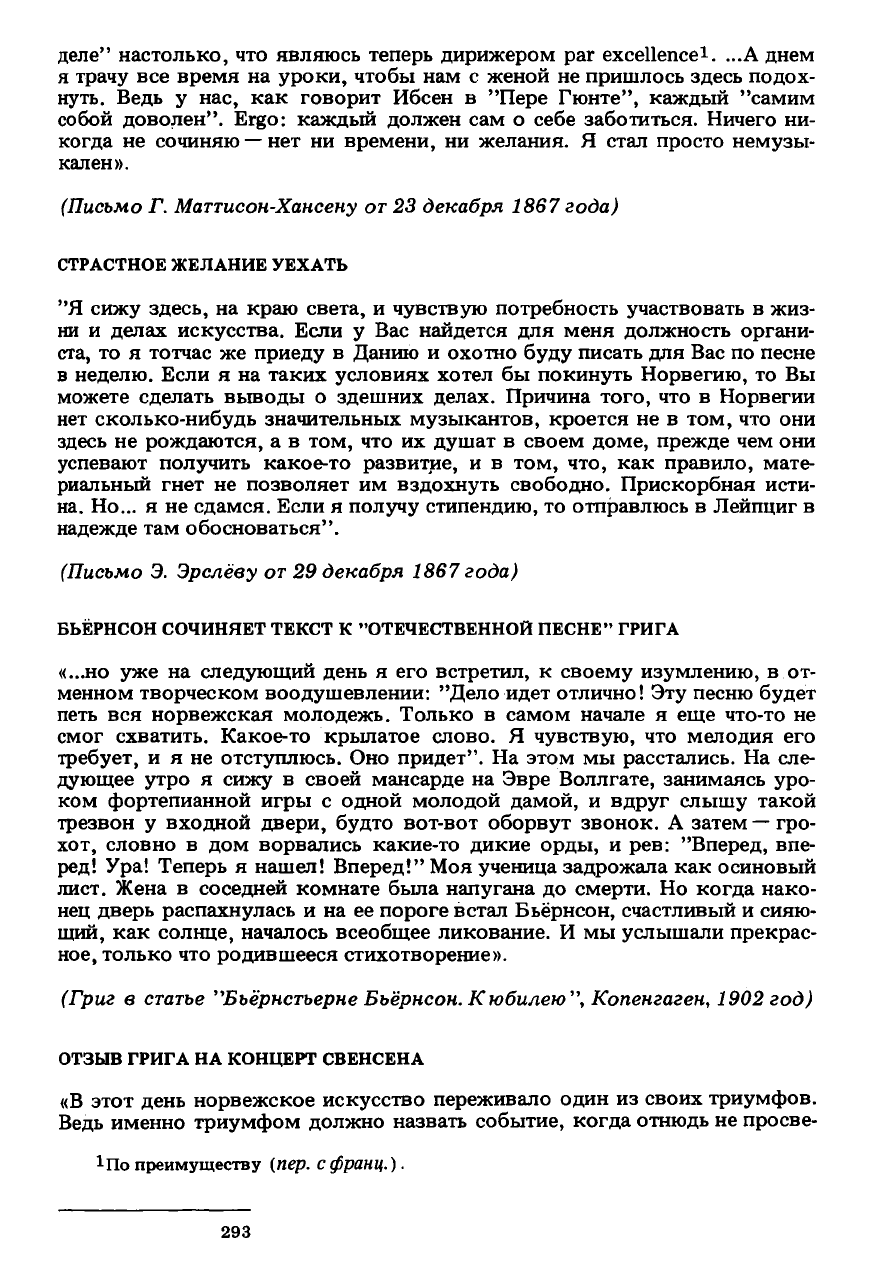
деле" настолько, что являюсь теперь дирижером par excellence
1
. ...А днем
я трачу все время на уроки, чтобы нам с женой не пришлось здесь подох-
нуть. Ведь у нас, как говорит Ибсен в "Пере Гюнте", каждый "самим
собой доволен". Ergo: каждый должен сам о себе заботиться. Ничего ни-
когда не сочиняю
—
нет ни времени, ни желания. Я стал просто немузы-
кален».
(Письмо Г. Маттисон-Хансену от
23 декабря
1867
года)
СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ УЕХАТЬ
"Я сижу здесь, на краю света, и чувствую потребность участвовать в жиз-
ни и делах искусства. Если у Вас найдется для меня должность органи-
ста, то я тотчас же приеду в Данию и охотно буду писать для Вас по песне
в неделю. Если я на таких условиях хотел бы покинуть Норвегию, то Вы
можете сделать выводы о здешних делах. Причина того, что в Норвегии
нет сколько-нибудь значительных музыкантов, кроется не в том, что они
здесь не рождаются, а в том, что их душат в своем доме, прежде чем они
успевают получить какое-то развитие, и в том, что, как правило, мате-
риальный гнет не позволяет им вздохнуть свободно. Прискорбная исти-
на. Но... я не сдамся. Если я получу стипендию, то отправлюсь в Лейпциг в
надежде там обосноваться".
(Письмо Э.
Эрслёву
от
29 декабря
1867
года)
БЬЁРНСОН СОЧИНЯЕТ ТЕКСТ К "ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕСНЕ" ГРИГА
«...но уже на следующий день я его встретил, к своему изумлению, в от-
менном творческом воодушевлении: "Дело идет отлично! Эту песню будет
петь вся норвежская молодежь. Только в самом начале я еще что-то не
смог схватить. Какое-то крылатое слово. Я чувствую, что мелодия его
требует, и я не отступлюсь. Оно придет". На этом мы расстались. На сле-
дующее утро я сижу в своей мансарде на Эвре Воллгате, занимаясь уро-
ком фортепианной игры с одной молодой дамой, и вдруг слышу такой
трезвон у входной двери, будто вот-вот оборвут звонок. А затем—гро-
хот, словно в дом ворвались какие-то дикие орды, и рев: "Вперед, впе-
ред! Ура! Теперь я нашел! Вперед!" Моя ученица задрожала как осиновый
лист. Жена в соседней комнате была напугана до смерти. Но когда нако-
нец дверь распахнулась и на ее пороге встал Бьёрнсон, счастливый и сияю-
щий, как солнце, началось всеобщее ликование. И мы услышали прекрас-
ное, только что родившееся стихотворение».
(Григ
в
статье "Бьёрнстьерне Бьёрнсон. К юбилею ", Копенгаген,
1902 год)
ОТЗЫВ ГРИГА НА КОНЦЕРТ СВЕНСЕНА
«В этот день норвежское искусство переживало один из своих триумфов.
Ведь именно триумфом должно назвать событие, когда отнюдь не просве-
1По преимуществу
(пер. с франц.).
293
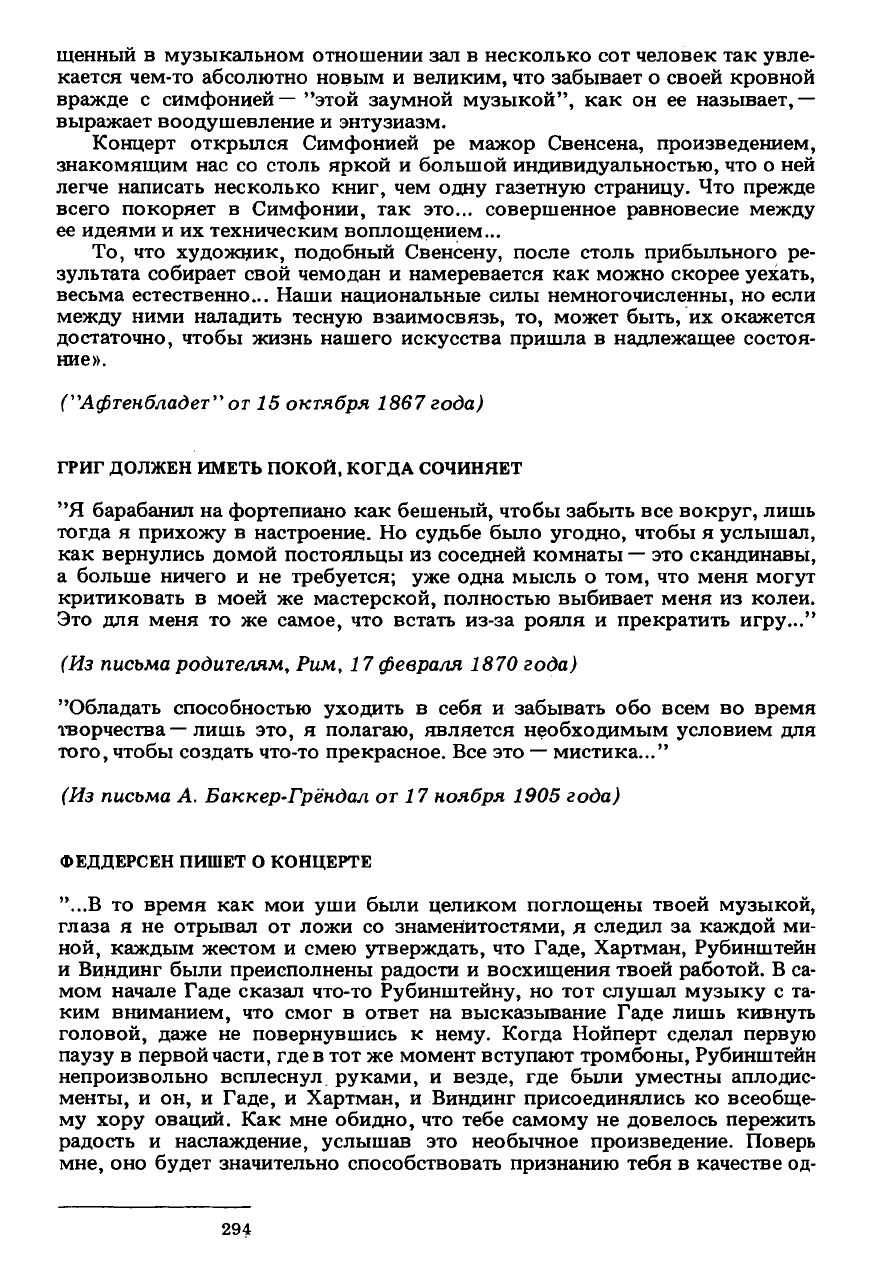
щенный в музыкальном отношении зал в несколько сот человек так увле-
кается чем-то абсолютно новым и великим, что забывает о своей кровной
вражде с симфонией
—
"этой заумной музыкой", как он ее называет,—
выражает воодушевление и энтузиазм.
Концерт открылся Симфонией ре мажор Свенсена, произведением,
знакомящим нас со столь яркой и большой индивидуальностью, что о ней
легче написать несколько книг, чем одну газетную страницу. Что прежде
всего покоряет в Симфонии, так это... совершенное равновесие между
ее идеями и их техническим воплощением...
То, что художцик, подобный Свенсену, после столь прибыльного ре-
зультата собирает свой чемодан и намеревается как можно скорее уехать,
весьма естественно... Наши национальные силы немногочисленны, но если
между ними наладить тесную взаимосвязь, то, может быть, их окажется
достаточно, чтобы жизнь нашего искусства пришла в надлежащее состоя-
ние».
("Афтенбладет" от
15
октября 1867
года)
ГРИГ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПОКОЙ, КОГДА СОЧИНЯЕТ
"Я барабанил на фортепиано как бешеный, чтобы забыть все вокруг, лишь
тогда я прихожу в настроение. Но судьбе было угодно, чтобы я услышал,
как вернулись домой постояльцы из соседней комнаты
—
это скандинавы,
а больше ничего и не требуется; уже одна мысль о том, что меня могут
критиковать в моей же мастерской, полностью выбивает меня из колеи.
Это для меня то же самое, что встать из-за рояля и прекратить игру..."
(Из письма родителям,
Рим, 17 февраля 1870 года)
"Обладать способностью уходить в себя и забывать обо всем во время
творчества
—
лишь это, я полагаю, является необходимым условием для
того, чтобы создать что-то прекрасное. Все это
—
мистика..."
(Из письма
А.
Баккер-Грёндал от
17 ноября 1905 года)
ФЕДДЕРСЕН ПИШЕТ О КОНЦЕРТЕ
"...B то время как мои уши были целиком поглощены твоей музыкой,
глаза я не отрывал от ложи со знаменитостями, я следил за каждой ми-
ной, каждым жестом и смею утверждать, что Гаде, Хартман, Рубинштейн
и Виндинг были преисполнены радости и восхищения твоей работой. В са-
мом начале Гаде сказал что-то Рубинштейну, но тот слушал музыку с та-
ким вниманием, что смог в ответ на высказывание Гаде лишь кивнуть
головой, даже не повернувшись к нему. Когда Нойперт сделал первую
паузу в первой части, где в тот же момент вступают тромбоны, Рубинштейн
непроизвольно всплеснул руками, и везде, где были уместны аплодис-
менты, и он, и Гаде, и Хартман, и Виндинг присоединялись ко всеобще-
му хору оваций. Как мне обидно, что тебе самому не довелось пережить
радость и наслаждение, услышав это необычное произведение. Поверь
мне, оно будет значительно способствовать признанию тебя в качестве од-
294
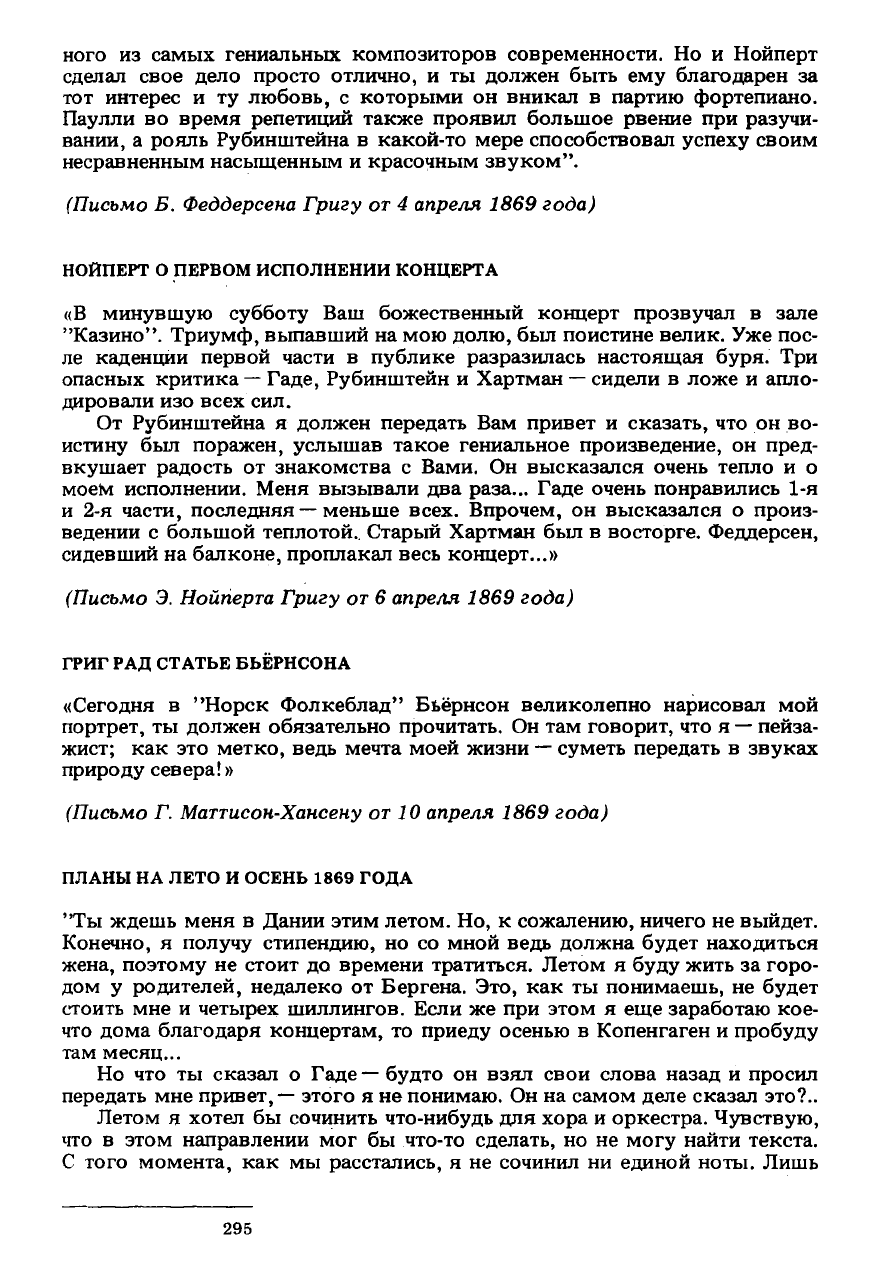
ного из самых гениальных композиторов современности. Но и Нойперт
сделал свое дело просто отлично, и ты должен быть ему благодарен за
тот интерес и ту любовь, с которыми он вникал в партию фортепиано.
Паулли во время репетиций также проявил большое рвение при разучи-
вании, а рояль Рубинштейна в какой-то мере способствовал успеху своим
несравненным насыщенным и красочным звуком".
(Письмо
Б.
Феддерсена
Григу
от
4 апреля 1869 года)
НОЙПЕРТ О ПЕРВОМ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕРТА
«В минувшую субботу Ваш божественный концерт прозвучал в зале
"Казино". Триумф, выпавший на мою долю, был поистине велик. Уже пос-
ле каденции первой части в публике разразилась настоящая буря. Три
опасных критика
—
Гаде, Рубинштейн и Хартман
—
сидели в ложе и апло-
дировали изо всех сил.
От Рубинштейна я должен передать Вам привет и сказать, что он во-
истину был поражен, услышав такое гениальное произведение, он пред-
вкушает радость от знакомства с Вами. Он высказался очень тепло и о
моем исполнении. Меня вызывали два раза... Гаде очень понравились 1-я
и 2-я части, последняя
—
меньше всех. Впрочем, он высказался о произ-
ведении с большой теплотой.. Старый Хартман был в восторге. Феддерсен,
сидевший на балконе, проплакал весь концерт...»
(Письмо Э. Нойперта
Григу
от
6 апреля 1869 года)
ГРИГ РАД СТАТЬЕ БЬЁРНСОНА
«Сегодня в "Норск Фолкеблад" Бьёрнсон великолепно нарисовал мой
портрет, ты должен обязательно прочитать. Он там говорит, что я
—
пейза-
жист; как это метко, ведь мечта моей жизни
—
суметь передать в звуках
природу севера!»
(Письмо Г. Маттисон-Хансену от
10 апреля 1869 года)
ПЛАНЫ НА ЛЕТО И ОСЕНЬ 1869 ГОДА
'Ты ждешь меня в Дании этим летом. Но, к сожалению, ничего не выйдет.
Конечно, я получу стипендию, но со мной ведь должна будет находиться
жена, поэтому не стоит до времени тратиться. Летом я буду жить за горо-
дом у родителей, недалеко от Бергена. Это, как ты понимаешь, не будет
стоить мне и четырех шиллингов. Если же при этом я еще заработаю кое-
что дома благодаря концертам, то приеду осенью в Копенгаген и пробуду
гам месяц...
Но что ты сказал о Гаде
—
будто он взял свои слова назад и просил
передать мне привет,
—
этого я не понимаю. Он на самом деле сказал это?..
Летом я хотел бы сочинить что-нибудь для хора и оркестра. Чувствую,
что в этом направлении мог бы что-то сделать, но не могу найти текста.
С того момента, как мы расстались, я не сочинил ни единой ноты. Лишь
295
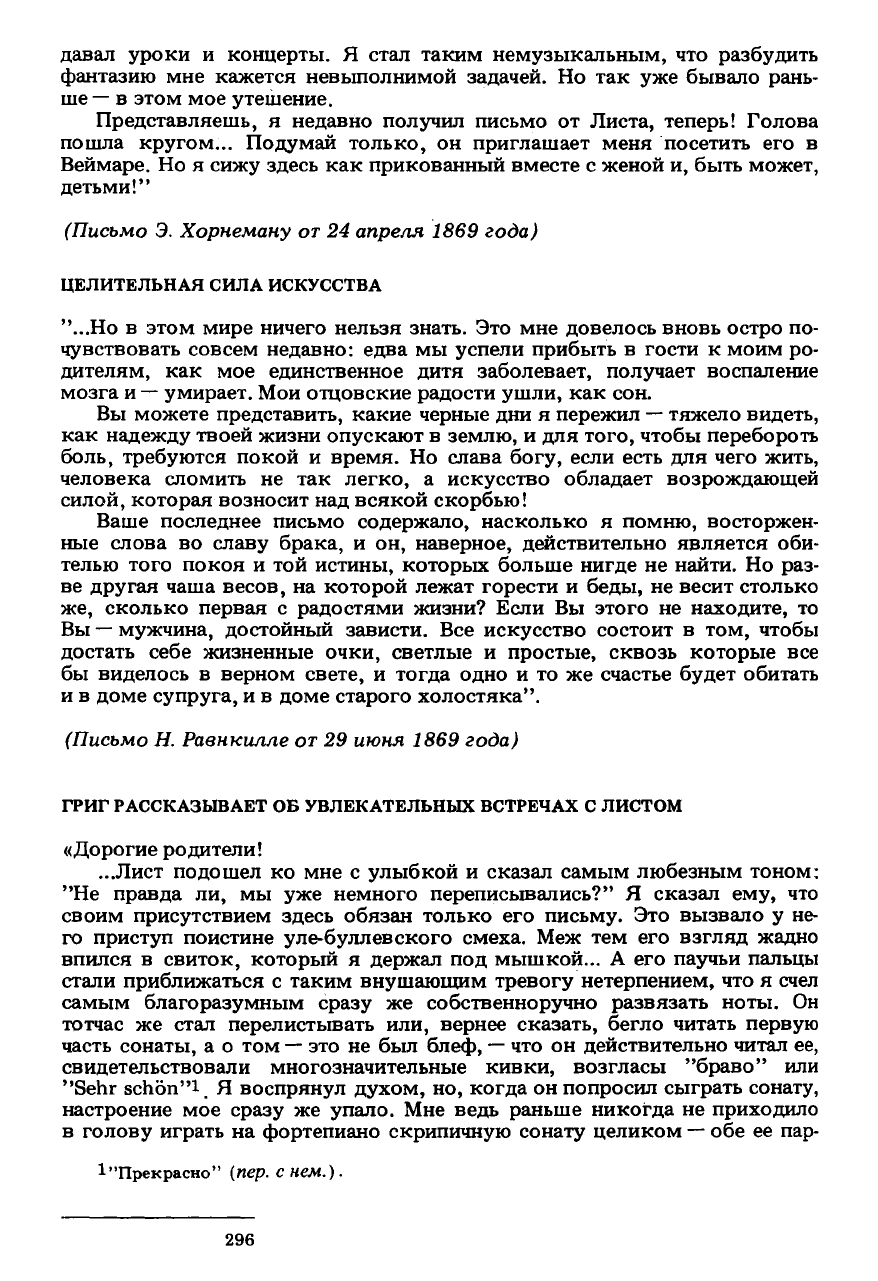
давал уроки и концерты. Я стал таким немузыкальным, что разбудить
фантазию мне кажется невыполнимой задачей. Но так уже бывало рань-
ше— в этом мое утешение.
Представляешь, я недавно получил письмо от Листа, теперь! Голова
пошла кругом... Подумай только, он приглашает меня посетить его в
Веймаре. Но я сижу здесь как прикованный вместе с женой и, быть может,
детьми!"
(Письмо Э. Хорнеману от
24 апреля 1869 года)
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ИСКУССТВА
"...Но в этом мире ничего нельзя знать. Это мне довелось вновь остро по-
чувствовать совсем недавно: едва мы успели прибыть в гости к моим ро-
дителям, как мое единственное дитя заболевает, получает воспаление
мозга и
—
умирает. Мои отцовские радости ушли, как сон.
Вы можете представить, какие черные дни я пережил
—
тяжело видеть,
как надежду твоей жизни опускают в землю, и для того, чтобы перебороть
боль, требуются покой и время. Но слава богу, если есть для чего жить,
человека сломить не так легко, а искусство обладает возрождающей
силой, которая возносит над всякой скорбью!
Ваше последнее письмо содержало, насколько я помню, восторжен-
ные слова во славу брака, и он, наверное, действительно является оби-
телью того покоя и той истины, которых больше нигде не найти. Но раз-
ве другая чаша весов, на которой лежат горести и беды, не весит столько
же, сколько первая с радостями жизни? Если Вы этого не находите, то
Вы
—
мужчина, достойный зависти. Все искусство состоит в том, чтобы
достать себе жизненные очки, светлые и простые, сквозь которые все
бы виделось в верном свете, и тогда одно и то же счастье будет обитать
и в доме супруга, и в доме старого холостяка".
(Письмо Н.
Равнкилле
от
29 июня 1869 года)
ГРИГ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧАХ С ЛИСТОМ
«Дорогие родители!
...Лист подошел ко мне с улыбкой и сказал самым любезным тоном:
"Не правда ли, мы уже немного переписывались?" Я сказал ему, что
своим присутствием здесь обязан только его письму. Это вызвало у не-
го приступ поистине уле-буллевского смеха. Меж тем его взгляд жадно
впился в свиток, который я держал под мышкой... А его паучьи пальцы
стали приближаться с таким внушающим тревогу нетерпением, что я счел
самым благоразумным сразу же собственноручно развязать ноты. Он
тотчас же стал перелистывать или, вернее сказать, бегло читать первую
часть сонаты, а о том
—
это не был блеф,
—
что он действительно читал ее,
свидетельствовали многозначительные кивки, возгласы "браво" или
"Sehr schon"l. Я воспрянул духом, но, когда он попросил сыграть сонату,
настроение мое сразу же упало. Мне ведь раньше никогда не приходило
в голову играть на фортепиано скрипичную сонату целиком
—
обе ее пар-
1 "Прекрасно"
(пер. с нем.).
296
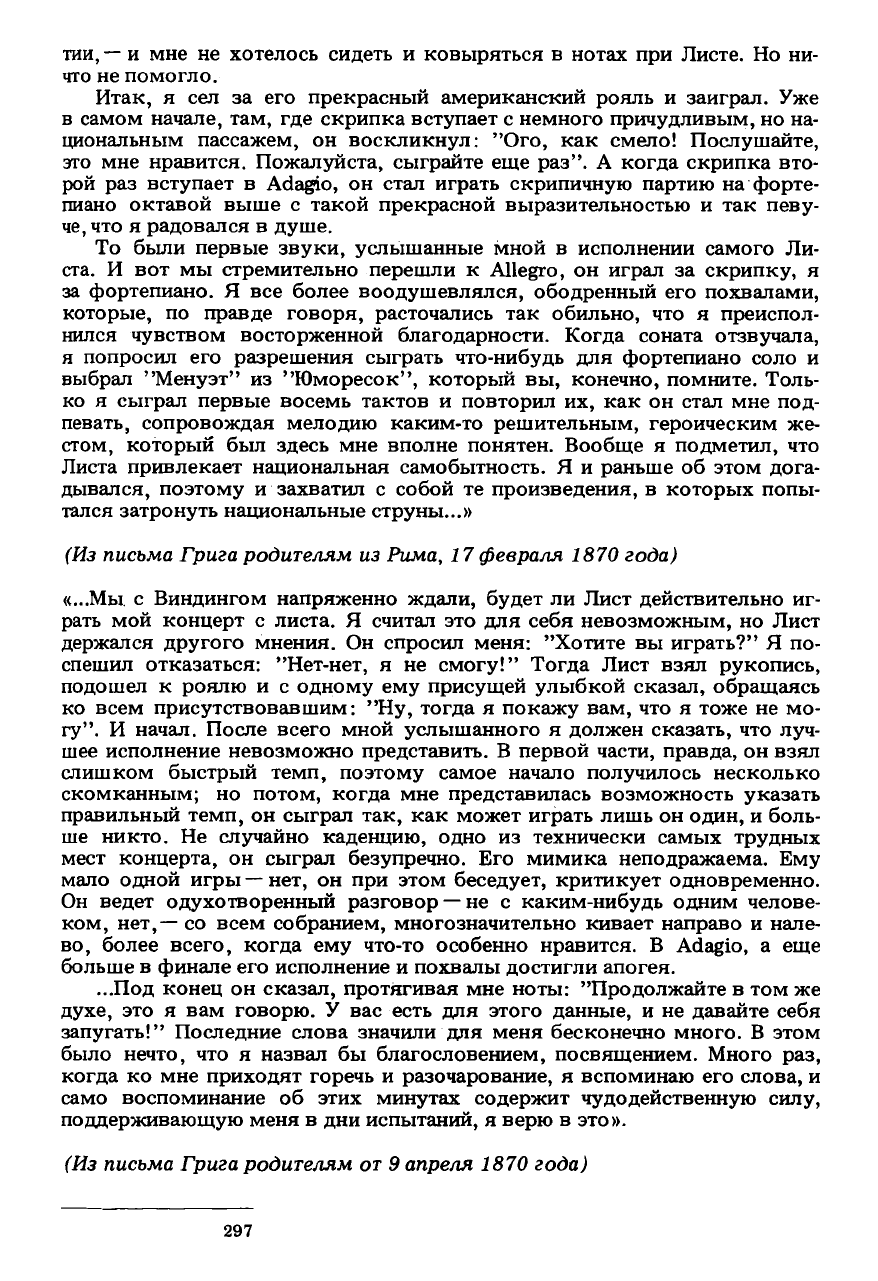
тии,
—
и мне не хотелось сидеть и ковыряться в нотах при Листе. Но ни-
что не помогло.
Итак, я сел за его прекрасный американский рояль и заиграл. Уже
в самом начале, там, где скрипка вступает с немного причудливым, но на-
циональным пассажем, он воскликнул: "Ого, как смело! Послушайте,
это мне нравится. Пожалуйста, сыграйте еще раз". А когда скрипка вто-
рой раз вступает в Adagio, он стал играть скрипичную партию на форте-
пиано октавой выше с такой прекрасной выразительностью и так певу-
че, что я радовался в душе.
То были первые звуки, услышанные мной в исполнении самого Ли-
ста. И вот мы стремительно перешли к Allegro, он играл за скрипку, я
за фортепиано. Я все более воодушевлялся, ободренный его похвалами,
которые, по правде говоря, расточались так обильно, что я преиспол-
нился чувством восторженной благодарности. Когда соната отзвучала,
я попросил его разрешения сыграть что-нибудь для фортепиано соло и
выбрал "Менуэт" из "Юморесок", который вы, конечно, помните. Толь-
ко я сыграл первые восемь тактов и повторил их, как он стал мне под-
певать, сопровождая мелодию каким-то решительным, героическим же-
стом, который был здесь мне вполне понятен. Вообще я подметил, что
Листа привлекает национальная самобытность. Я и раньше об этом дога-
дывался, поэтому и захватил с собой те произведения, в которых попы-
тался затронуть национальные струны...»
(Из
письма
Грига родителям
из
Рима, 17
февраля 1870 года)
«...Мы с Виндингом напряженно ждали, будет ли Лист действительно иг-
рать мой концерт с листа. Я считал это для себя невозможным, но Лист
держался другого мнения. Он спросил меня: "Хотите вы играть?" Я по-
спешил отказаться: "Нет-нет, я не смогу!" Тогда Лист взял рукопись,
подошел к роялю и с одному ему присущей улыбкой сказал, обращаясь
ко всем присутствовавшим: "Ну, тогда я покажу вам, что я тоже не мо-
гу". И начал. После всего мной услышанного я должен сказать, что луч-
шее исполнение невозможно представить. В первой части, правда, он взял
слишком быстрый темп, поэтому самое начало получилось несколько
скомканным; но потом, когда мне представилась возможность указать
правильный темп, он сыграл так, как может играть лишь он один, и боль-
ше никто. Не случайно каденцию, одно из технически самых трудных
мест концерта, он сыграл безупречно. Его мимика неподражаема. Ему
мало одной игры
—
нет, он при этом беседует, критикует одновременно.
Он ведет одухотворенный разговор —не с каким-нибудь одним челове-
ком, нет,
—
со всем собранием, многозначительно кивает направо и нале-
во, более всего, когда ему что-то особенно нравится. В Adagio, а еще
больше в финале его исполнение и похвалы достигли апогея.
...Под конец он сказал, протягивая мне ноты: "Продолжайте в том же
духе, это я вам говорю. У вас есть для этого данные, и не давайте себя
запугать!" Последние слова значили для меня бесконечно много. В этом
было нечто, что я назвал бы благословением, посвящением. Много раз,
когда ко мне приходят горечь и разочарование, я вспоминаю его слова, и
само воспоминание об этих минутах содержит чудодейственную силу,
поддерживающую меня в дни испытаний, я верю в это».
(Из
письма
Грига родителям от
9 апреля 1870 года)
297
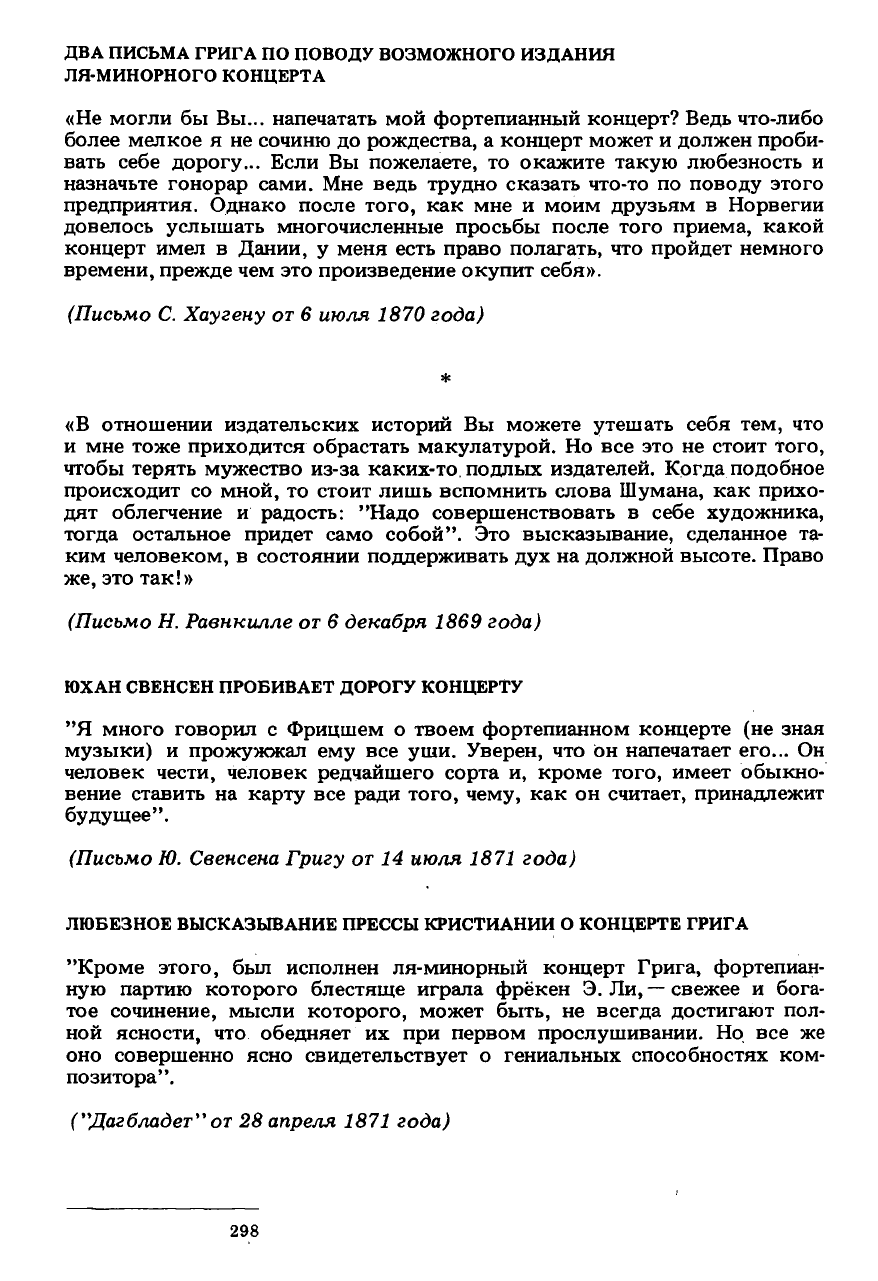
ДВА ПИСЬМА ГРИГА ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНОГО ИЗДАНИЯ
ЛЯ-МИНОРНОГО КОНЦЕРТА
«Не могли бы Вы... напечатать мой фортепианный концерт? Ведь что-либо
более мелкое я не сочиню до рождества, а концерт может и должен проби-
вать себе дорогу... Если Вы пожелаете, то окажите такую любезность и
назначьте гонорар сами. Мне ведь трудно сказать что-то по поводу этого
предприятия. Однако после того, как мне и моим друзьям в Норвегии
довелось услышать многочисленные просьбы после того приема, какой
концерт имел в Дании, у меня есть право полагать, что пройдет немного
времени, прежде чем это произведение окупит себя».
(Письмо С.
Хаугену
от
6 июля 1870 года)
*
«В отношении издательских историй Вы можете утешать себя тем, что
и мне тоже приходится обрастать макулатурой. Но все это не стоит того,
чтобы терять мужество из-за каких-то. подлых издателей. Когда подобное
происходит со мной, то стоит лишь вспомнить слова Шумана, как прихо-
дят облегчение и радость: "Надо совершенствовать в себе художника,
тогда остальное придет само собой". Это высказывание, сделанное та-
ким человеком, в состоянии поддерживать дух на должной высоте. Право
же, это так!»
(Письмо Н.
Равнкилле
от
6 декабря 1869 года)
ЮХАН СВЕНСЕН ПРОБИВАЕТ ДОРОГУ КОНЦЕРТУ
"Я много говорил с Фрицшем о твоем фортепианном концерте (не зная
музыки) и прожужжал ему все уши. Уверен, что он напечатает его... Он
человек чести, человек редчайшего сорта и, кроме того, имеет обыкно-
вение ставить на карту все ради того, чему, как он считает, принадлежит
будущее".
(Письмо Ю. Свенсена
Григу
от
14 июля
1871
года)
ЛЮБЕЗНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПРЕССЫ КРИСТИАНИИ О КОНЦЕРТЕ ГРИГА
"Кроме этого, был исполнен ля-минорный концерт Грига, фортепиан-
ную партию которого блестяще играла фрёкен Э. Ли,
—
свежее и бога-
тое сочинение, мысли которого, может быть, не всегда достигают пол-
ной ясности, что обедняет их при первом прослушивании. Но все же
оно совершенно ясно свидетельствует о гениальных способностях ком-
позитора".
("Дагбладет" от
28 апреля 1871 года)
298
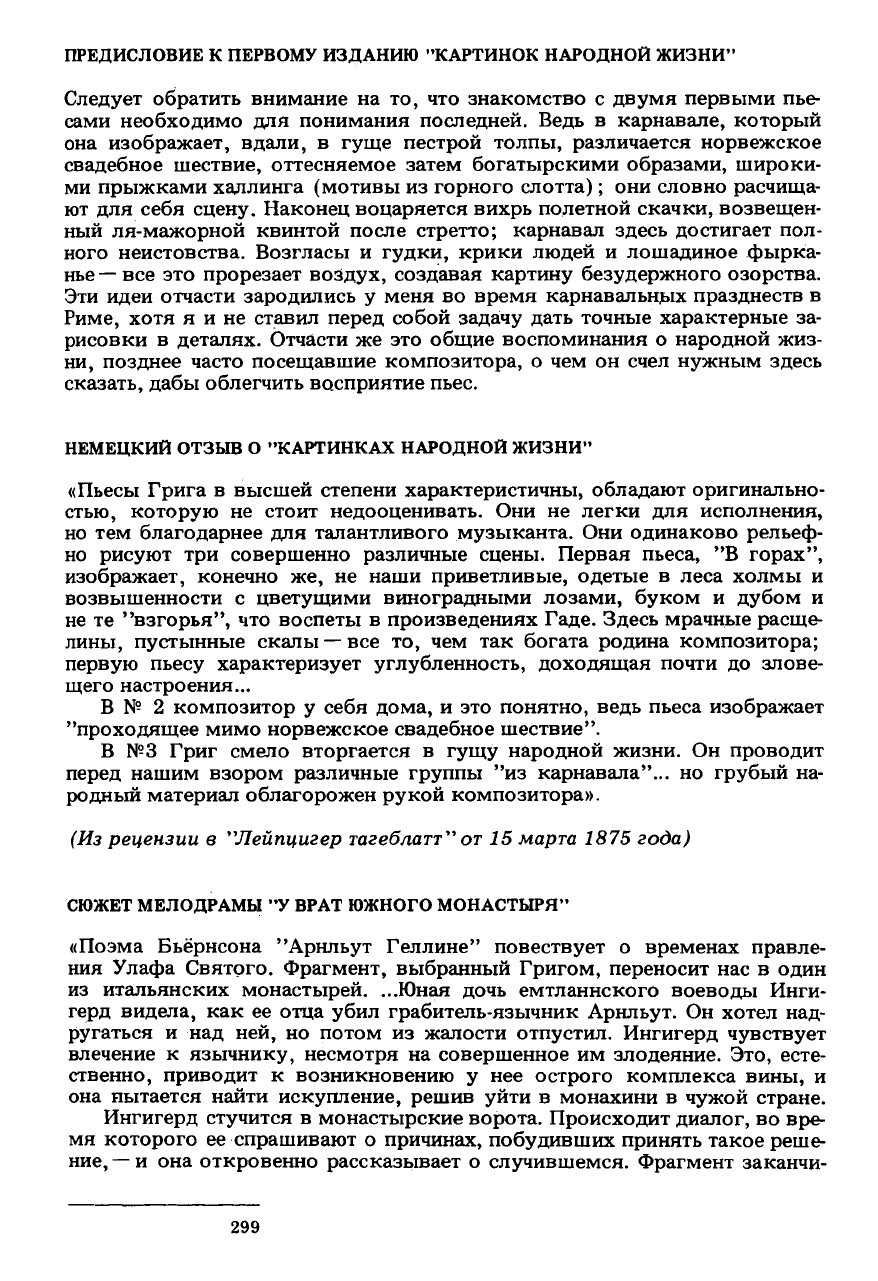
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ "КАРТИНОК НАРОДНОЙ ЖИЗНИ"
Следует обратить внимание на то, что знакомство с двумя первыми пье-
сами необходимо для понимания последней. Ведь в карнавале, который
она изображает, вдали, в гуще пестрой толпы, различается норвежское
свадебное шествие, оттесняемое затем богатырскими образами, широки-
ми прыжками хадлинга (мотивы из горного слотта); они словно расчища-
ют для себя сцену. Наконец воцаряется вихрь полетной скачки, возвещен-
ный ля-мажорной квинтой после стретто; карнавал здесь достигает пол-
ного неистовства. Возгласы и гудки, крики людей и лошадиное фырка-
нье
—
все это прорезает воздух, создавая картину безудержного озорства.
Эти идеи отчасти зародились у меня во время карнавальных празднеств в
Риме, хотя я и не ставил перед собой задачу дать точные характерные за-
рисовки в деталях. Отчасти же это общие воспоминания о народной жиз-
ни, позднее часто посещавшие композитора, о чем он счел нужным здесь
сказать, дабы облегчить восприятие пьес.
НЕМЕЦКИЙ ОТЗЫВ О "КАРТИНКАХ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ"
«Пьесы Грига в высшей степени характеристичны, обладают оригинально-
стью, которую не стоит недооценивать. Они не легки для исполнения,
но тем благодарнее для талантливого музыканта. Они одинаково рельеф-
но рисуют три совершенно различные сцены. Первая пьеса, "В горах",
изображает, конечно же, не наши приветливые, одетые в леса холмы и
возвышенности с цветущими виноградными лозами, буком и дубом и
не те "взгорья", что воспеты в произведениях Гаде. Здесь мрачные расще-
лины, пустынные скалы —все то, чем так богата родина композитора;
первую пьесу характеризует углубленность, доходящая почти до злове-
щего настроения...
В № 2 композитор у себя дома, и это понятно, ведь пьеса изображает
"проходящее мимо норвежское свадебное шествие".
В №3 Григ смело вторгается в гущу народной жизни. Он проводит
перед нашим взором различные группы "из карнавала"... но грубый на-
родный материал облагорожен рукой композитора».
(Из
рецензии в
"Лейпцигер тагеблатт" от
15
марта
1875 года)
СЮЖЕТ МЕЛОДРАМЫ "У ВРАТ ЮЖНОГО МОНАСТЫРЯ"
«Поэма Бьёрнсона "Арнльут Геллине" повествует о временах правле-
ния Улафа Святого. Фрагмент, выбранный Григом, переносит нас в один
из итальянских монастырей. ...Юная дочь емтланнского воеводы Инги-
герд видела, как ее отца убил грабитель-язычник Арнльут. Он хотел над-
ругаться и над ней, но потом из жалости отпустил. Ингигерд чувствует
влечение к язычнику, несмотря на совершенное им злодеяние. Это, есте-
ственно, приводит к возникновению у нее острого комплекса вины, и
она пытается найти искупление, решив уйти в монахини в чужой стране.
Ингигерд стучится в монастырские ворота. Происходит диалог, во вре-
мя которого ее спрашивают о причинах, побудивших принять такое реше-
ние,
—
и она откровенно рассказывает о случившемся. Фрагмент заканчи-
299
