Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства
Подождите немного. Документ загружается.

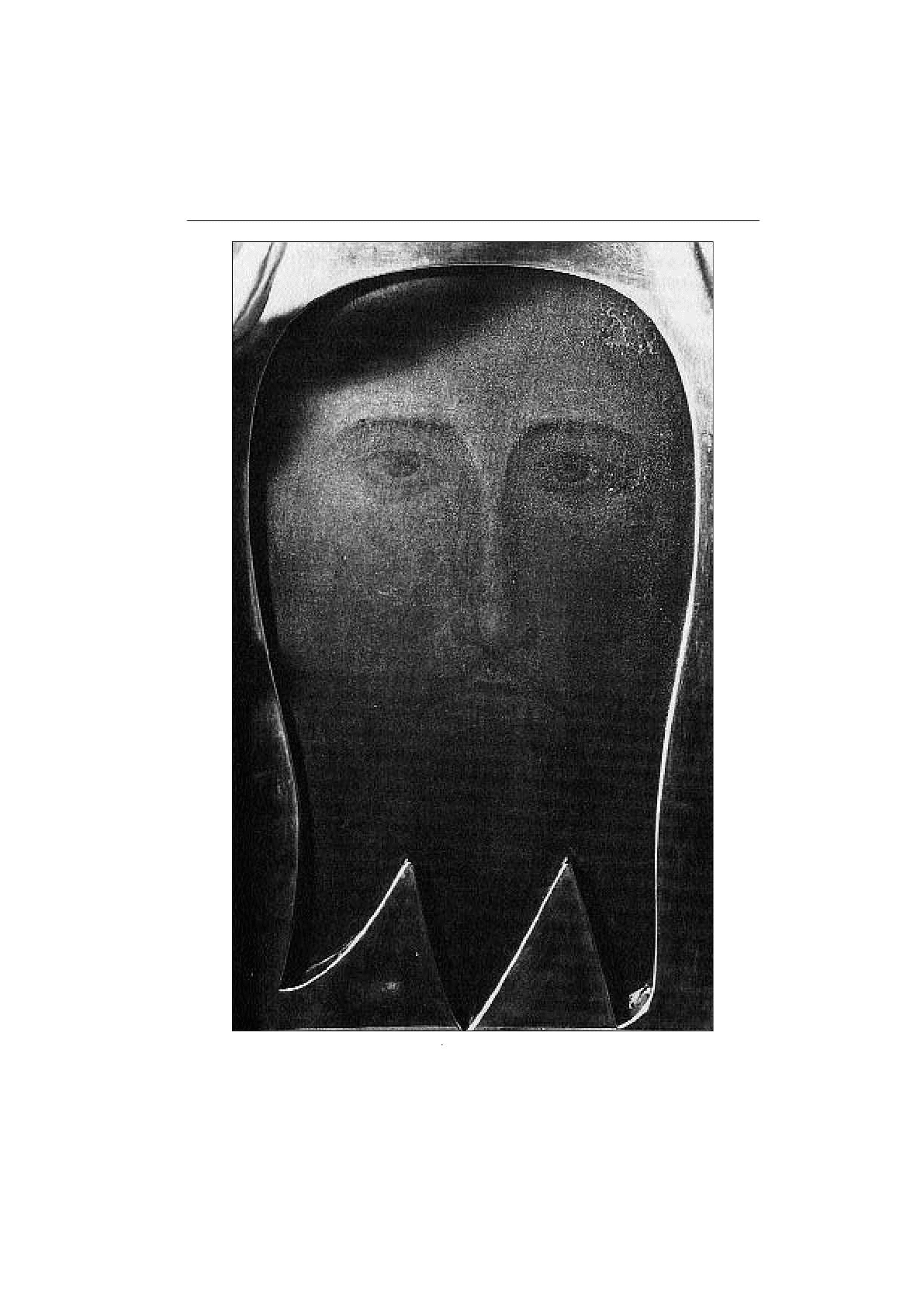
72 Небесные чудотворные образы и земные портреты
15. Мандилион («Спас Нерукотворный») из храма Сан-Сильвестро ин Капите.
VI в. Рим, Ватикан, Капелла Санта-Матильда
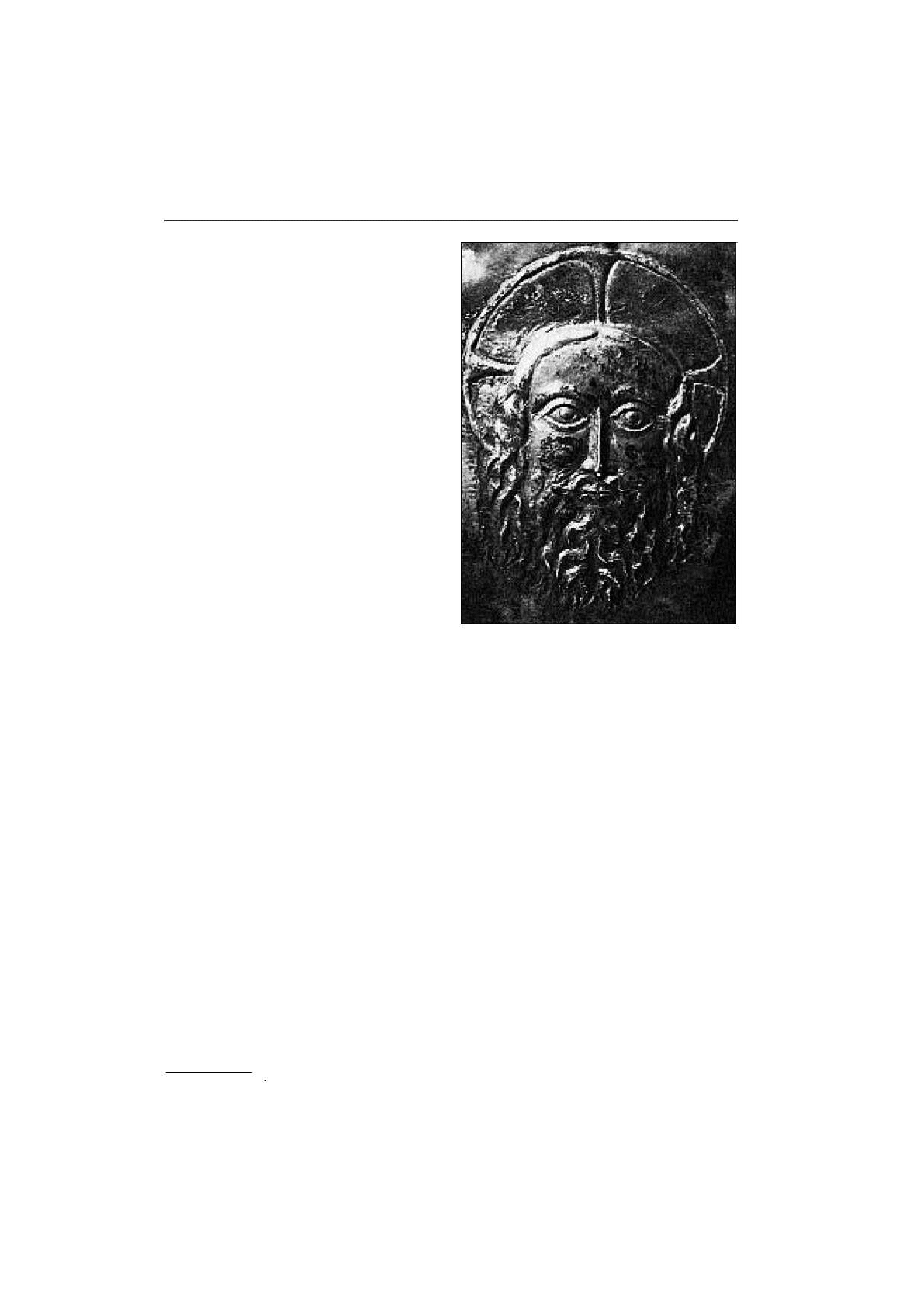
Нерукотворные образы Христа и «контактные» реликвии
73
группы подобных сказаний. Эрнст
фон Добшюц в своем знаменитом со-
чинении «Образы Христа» детально
обсуждает это
11
. Более древняя леген-
да о его возникновении сообщает об
одной язычнице, которая не хочет ве-
рить в Христа, ибо не способна его
увидеть. Она живет в одном местечке
в Малой Азии, название которого до
нас дошло как Камулиана. Однажды
она находит в колодце сада отпеча-
танный на ткани лик Христа, кото-
рый она тотчас опознает. Он прояв-
ляет свою небесную силу в том, что
он, во-первых, вынутый из воды, ока-
зывается сухим, и во-вторых, спря-
танный в одежде женщины, оставля-
ет там точный отпечаток. Для обоих
изображений строят церкви в двух
местах, и вскоре, после 560 г. один из
образов отправляется в процессии
через всю страну, чтобы собрать
16. Икона «Вероника» из Санкта Санкторум
деньги для постройки новой церкви. (деталь). Рим, Латеран
Все желают видеть образ и платят за
это. Процессия с образом была до того преимущественным правом государст-
венного портрета императора, который представлял самого императора
в провинциях (гл. 6). Впервые религиозный образ узурпирует этот ритуал.
В 574 г. процессия с образом доходит до столицы.
Там он вскоре был причислен к «сверхъестественным защитникам Констан-
тинополя»
12
и стал палладием империи в войнах с персами VII века. Уже в 586 г.
он был на поле битвы во время сражения на реке Арзамон в Месопотамии.
В 622 г. он был взят на войну Ираклия с персами, которая велась как война свя-
щенная. По этому случаю поэт Георгий Писида воспевает икону
13
. Император,
говорит Писида, взял с собой на войну «божественный образ», который был не-
рукотворным. Подобно тому как Творец вселенной был рожден женой без се-
мени мужа, он и создал на иконе «Богом нарисованный образ» (theographos typos).
Вочеловечение без зачатия и картина без участия художника уподоблены друг
другу. Образ является как бы видимым доказательством главной христианской
догмы вочеловечения Бога, которое повторилось в его земной материализации
в виде образа на плате. На миниатюре XI века портреты Христа, следуя слово-
употреблению теологов, как «живые иконы» стоят напротив Моисеевых скри-
жалей Завета: они считаются теперь скрижалями Нового Завета
14
. Правда, ико-
ноборцы возражают: только в таинстве пресуществления хлеба в тело Христово
из человеческого (рукотворного) продукта делается небесный (acheiropoieton)*
15
.
* Нерукотворный (греч.).
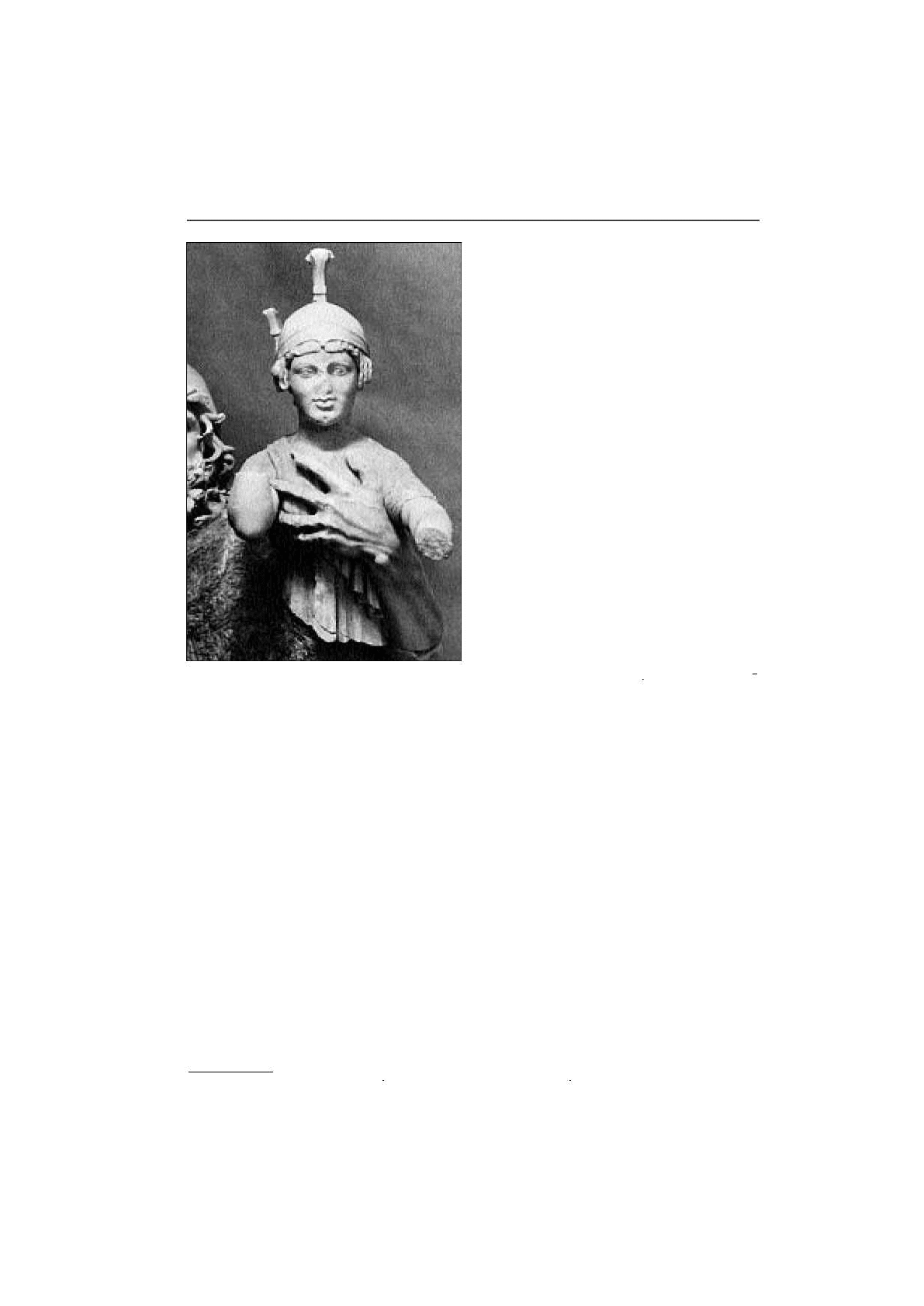
74 Небесные чудотворные образы и земные портреты
17
Эрнст фон Добшюц занимался во-
просом преемственности христиан-
ских чудотворных образов от язычес-
ких как темой истории религии
16
, что
позволяет установить как связи, так
и различия. В античности культовые
образы небесного происхождения,
например каменный идол матери бо-
гов (очевидно, метеорит) и древние
деревянные фигуры Афины Палла-
ды или Артемиды Эфесской, получа-
ли название Diipetes*, сброшенные
Зевсом. Им приписываются высказы-
вания живых лиц и неуязвимость.
В большинстве случаев они невиди-
мы и наказывают того, кто их увидит,
не имея на это права. В роли Палла-
дия они осуществляют защиту горо-
да. Город, обладающий чудотворным
образом его защитницы, неуязвим
для захватчиков. Троя могла быть за-
воевана, только если бы ее Палладий
был украден, он становится отныне
17. «Обретение образа-палладия» (рельеф
ист
°
рическ
°
й из за
°
блада
из виллы Тиверия). I в. Сперлонга ния которой спорят города. Посколь-
ку Гомер описал Трою, сильно воз-
росла слава местного культового образа Афины Паллады, хотя сам Гомер его
не упоминает. Его собирались перенести в Рим, а позднее даже в Константи-
нополь, где Константин будто бы прятал его в тайнике под порфировой
колонной со своей статуей
17
. В ответ на рационалистическую критику этой ле-
генды в эпоху поздней античности неоплатоническая философия образа по-
зднее нашла теологическое оправдание веры в народной набожности. Прав-
да, неоплатонизм, как в дальнейшем и учение об иконах, старался сгладить
отличие от других, обычных изображений.
Когда Цицерон описывает чудотворный образ Цереры не «как рукотвор-
ный, а [согласно всеобщей вере], как спустившийся с неба» (non humana manu
factum, sed de caelo lapsam), он не только перефразирует греческое понятие
Diipetes, но выражает его противоположность по отношению к делу рук чело-
веческих, для чего христианство создало противоположное понятие Acheiro-
poieton
18
. Такая концепция присутствует в античной литературе, хотя понятие
еще отсутствует. Так, император Юлиан Отступник (361-363) в своей речи
о матери богов на основании сообщения Ливия о переносе ее каменного идо-
ла в Рим в 204 г. до Р. Х. протестует против того, что это было будто бы «без-
жизненное изображение» (xoanon opsychon). Через чудо оно доказало, что «бы-
* Diipetes (греч.) — происходящим от Зевса; дословно: «падающии от Зевса».
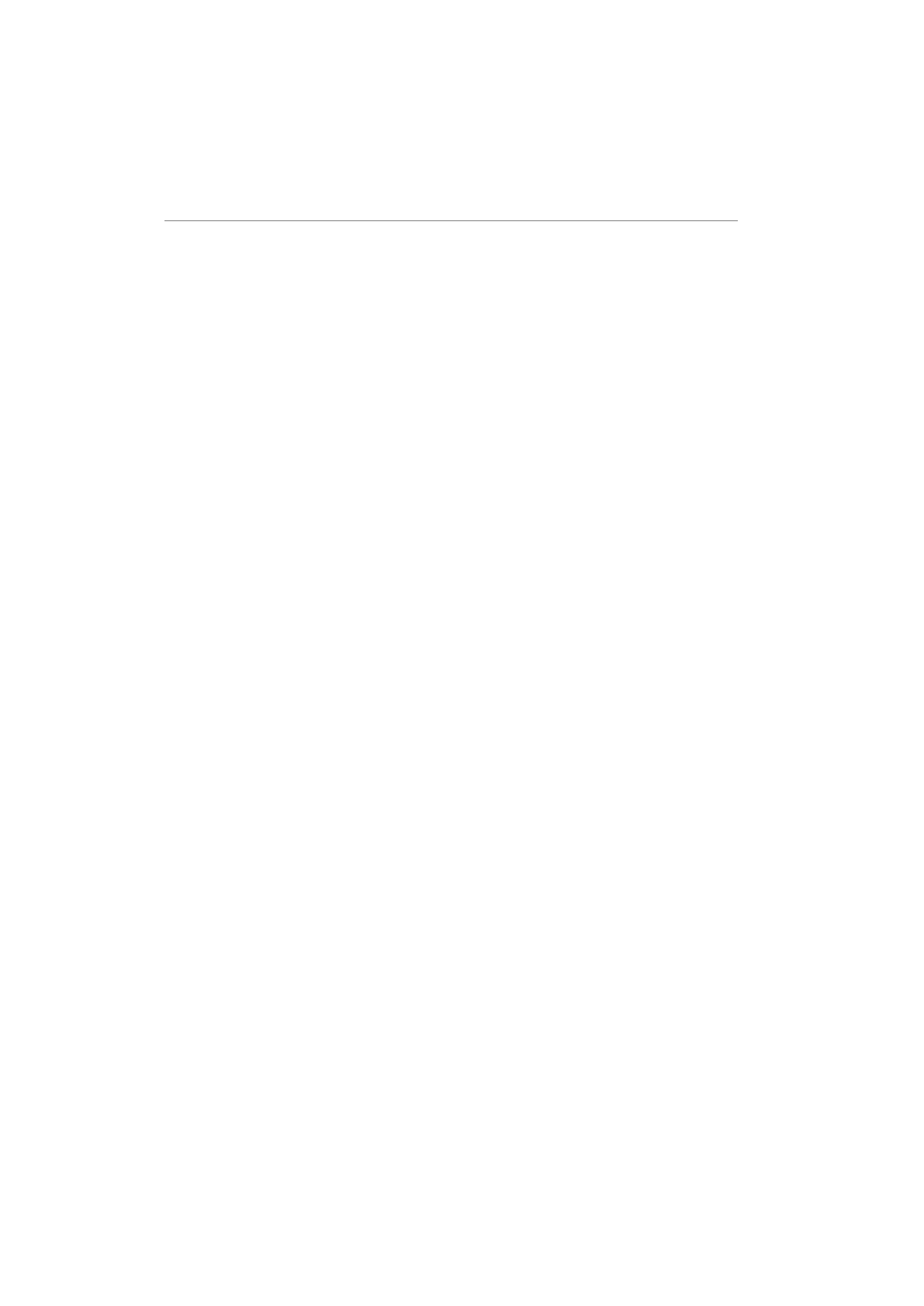
Нерукотворные образы Христа и «контактные» реликвии
75
ло не человеческим творением, а божественным» и соответственно этому об-
ладало также силой (dynamis), которая одарила его жизнью и душой
19
.
Греческое понятие «нерукотворный» возникло, кажется, в иудео-христиан-
ском разговорном языке и обозначает все, что не является безжизненной ве-
щью или произведением искусства, а следовательно, и человека
20
. В апостоль-
ских актах Павел упрекает изображение Артемиды Эфесской в том, что те,
чье изображение рукотворно, богами не являются. В ответ на это был заявлен
протест, где сообщалось, что Эфес владеет изображением небесного проис-
хождения (Diopetes или Iovis proles)
21
. Имелся в виду образ из темного дерева,
покрытый золотом, который по праздникам мыли и как изображение покро-
вительницы города несли к морю, обходили с ним земельные владения горо-
да и который «восседал» в первом ряду на представлениях в театре. Каждое
утро перед ним поднималась окутывающая его завеса в святилище (аdyton)
22
храма, где он помещался
22
.
Христианское понятие нерукотворного произведения так же реагировало
на раннехристианский запрет изображения, как и на более поздние упреки
в том, что христиане почитают рукотворные произведения и поклоняются де-
ревянным богам, написанным на досках. Сам Бог, так говорили, сотворил по
своей милости зримое доказательство своего вочеловечения в виде чудотвор-
ного образа и тем самым позволил создавать иконы
23
. Так Евагрий называет
в своей истории церкви, сочиненной ок. 600 г., истинный портрет Христа
в Эдессе (гл. 11а) «сотворенным Богом образом (theoteukton eikona), который со- 15
24
здан не рукой человека»
24
.
Согласно Эрнсту фон Добшюцу, нерукотворные культовые образы непо-
средственно продолжали традицию почитания античных небесных образов,
понимание которых христианство переняло, когда язычество уже угасло как
самостоятельная сила, но оставило христианству свою теорию и практику
культа изображений
25
. Христианские культы изображений этого рода возни-
кали сначала в эллинистических областях, где особенно почитались небесные
образы, а именно в Малой Азии и в Сирии. Прежде всего более древняя леген-
да об образе из Камулианы, который, что было новшеством, написан на тка-
ни, разделяет представление об образах с нехристианскими легендами, что
«не только отображение, но и ткань были сверхъестественного происхожде-
ния». Так легенда в данном случае является убедительным доказательством
того, что «в самом деле речь идет о перенесении античной веры на христиан-
ские представления».
Но легенда из Камулианы, как считает Добшюц, представляет не основную
концепцию нерукотворного культового образа, который не входит в число
обычных произведений искусства. Христианство привнесло «в почитание чу-
дотворного портрета... новый момент решающего значения. Это — религия
исторического откровения», связанного с исторической личностью. Так в хри-
стианскую веру в образы включаются «два существенных момента: чудесное
возникновение посредством прикосновения к изображенной личности и од-
новременно с этим обращение ко времени ее жизни». Идея отпечатка была
формулой, к которой сводили связь с подлинником. В последующей полемике
чудотворные образы «используются почти исключительно как доказательство

76 Небесные чудотворные образы и земные портреты
их древности». Так как их происхождение «относили к древним апостольским
временам», их можно было приравнивать к творениям евангелиста Луки.
Так чудотворные образы были документами в двояком смысле: они под-
тверждали историческое существование того, кто при жизни оставил отпечатки
своего тела, и в равной мере они свидетельствовали о его вневременном присут-
ствии, вследствие чего его образы могли совершать чудеса. Древность и прису-
щая им чудотворная сила были двумя различными качествами, но они допол-
няли друг друга. Часто почитали не переносные образы, а следы тела, которые
оставались на столбах (столбы бичевания) и стенах, к которым прислонялись
Христос или Мария. Эти следы, к которым можно было прикоснуться, сообща-
ли: на этом месте телесно присутствовали те, чьи останки не сохранились
в гробницах. В Святой земле такие следы, благодаря которым христианство вся-
кий раз удостоверялось в истинности времени своего основания, способствова-
ли возникновению местных культов и центров паломничества. Это относится
также к образу Девы Марии из Лидды (Диосполис). Согласно легенде, апосто-
лы воздвигли церковь в честь Девы Марии, где она оставила отпечаток своего
тела на колонне, на которую она опиралась при освящении церкви
26
.
Такие следы являются, скорее, реликвиями, но иного рода, чем неруко-
творные иконы, примером которых является портрет из Камулианы. Его не-
сли в процессии по стране так же, как государственный образ императора,
и окружали такими же легендами, как когда-то образ языческих богов. Его по-
добие, истинный портрет из Эдессы, в это же время впервые заставляет гово-
рить о себе как о личном подарке Христа, который излечил царя Авгаря, как
если бы это был сам Христос (гл. 11).
б) Иконы, писанные евангелистом Лукой, и идея портрета
Возникновение легенды о живописце Луке все еще покрыто мраком
27
. Свиде-
тельство VI века, когда она, возможно, появилась, сомнительно. История церк-
ви, которую скомпилировал Феодор Лектор, заслуживает доверия, когда она
повествует о трех церквах Богоматери, основанных императрицей Пульхери-
ей (ок. 450). Однако то, что Пульхерия получила от своей невестки Евдокии из
Иерусалима икону Богоматери, написанную евангелистом Лукой, является,
вероятно, позднейшей интерполяцией
28
. Две из трех церквей Богоматери, по-
строенных Пульхерией, между тем обладали знаменитыми реликвиями одея-
ний. Третья церковь, в которой позднее почиталась икона Одигитрия, могла
бы дать повод для возникновения легенды об иконе работы св. Луки, бывшей
тоже реликвией. В этом случае икона, согласно легенде, также прибыла из Ие-
русалима подобно ризе и поясу Богоматери.
В конце VI века иконы Богоматери уже не были редкостью. Иконы, сохра-
нившиеся в Риме и Киеве, возможно, относятся к этому времени или даже еще
21 древнее (гл. 7). Но мы не знаем, с какой из них связана легенда о Луке и когда
это произошло. В начале VIII века легенда была уже настолько известна, что
выдающиеся греческие богословы отсылали иконоборцев к иконе св. Луки
в Риме
29
. Это делали также три восточных патриарха, когда в 836 г. они писа-
ли императору Феофилу и среди двенадцати чудотворных образов упомина-
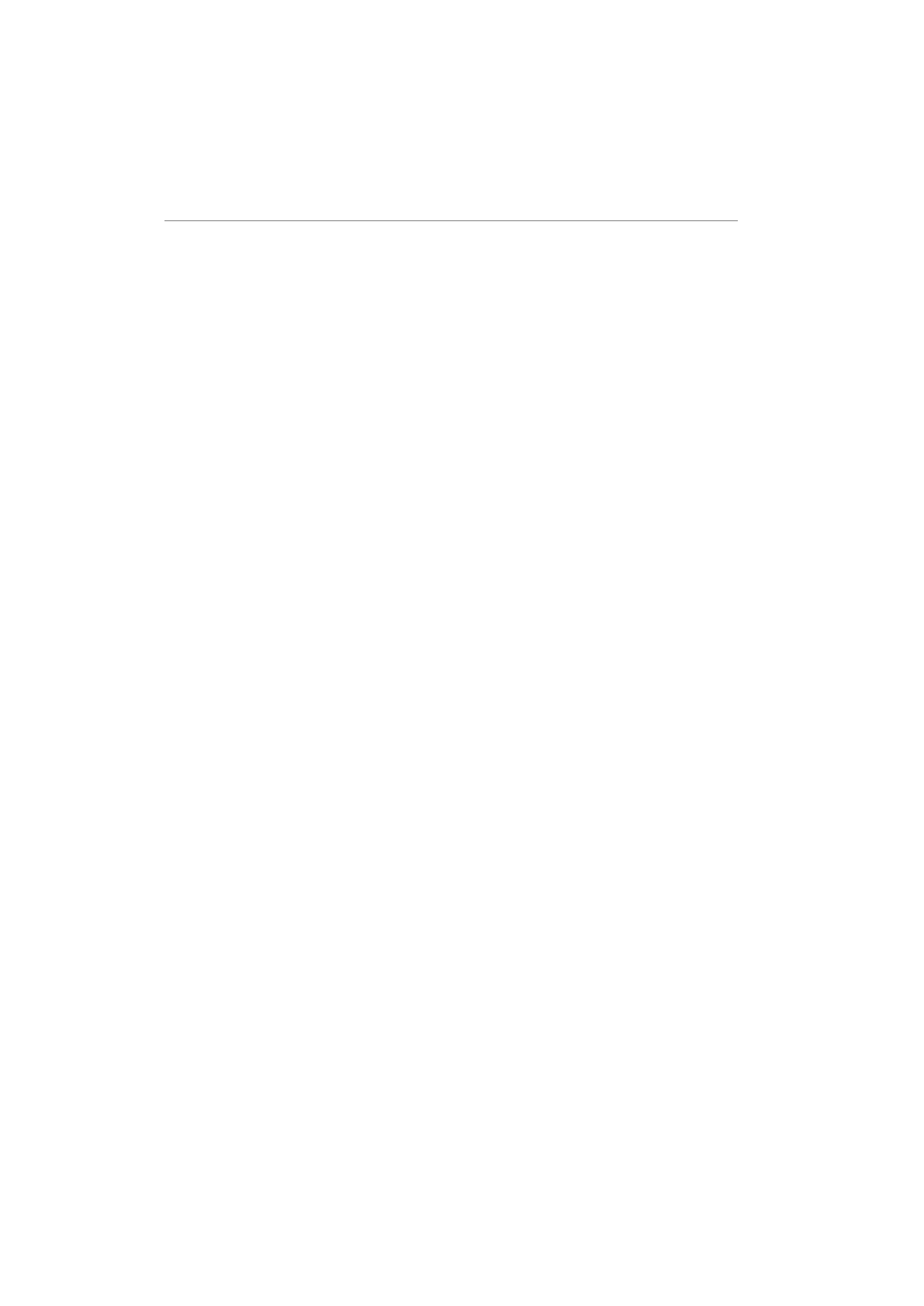
Иконы, писанные евангелистом Лукой, и идея портрета 77
ли пять изображений Богоматери
30
. В Константинополе иконы Луки под-
тверждены позднее, однако во время беспорядков иконоборчества одна ран-
няя икона Луки могла пропасть. Сказание о нерукотворном образе и другие
легенды отмечают иконы Богоматери, пожалуй, раньше, чем легенда о Луке
31
.
Эта легенда была полностью подчинена концепции аутентичного портре-
та. Идея была очевидной, т. к. большая часть икон возникала сначала как пор-
трет. Однако действительный портрет был изначально погребальным и со-
хранял эту функцию также и в культе святых (гл. 5). Он был вторичен тогда,
когда первична была гробница. Пустой гроб Богоматери не давал основания
для создания погребального портрета. Для него не подходило также изобра-
жение матери и младенца, если относиться к этому серьезно с точки зрения
жития. Кроме того, оно не было обычной портретной схемой, а, скорее, напо-
минало культовые образы материнских богинь. Своей схемой «мать и дитя»
оно так мало напоминало портрет обычного рода, что легенда позднее при-
писывала ему как раз то, чем оно изначально не было. Таким образом, леген-
де, кажется, было необходимо иметь обоснование. Она указывала на апос-
тольское происхождение, объявив одного из апостолов творцом портрета,
и перенесла, таким образом, идею портрета на изображение, которое им не
было. Если принять это всерьез, то нужно задать себе вопрос: как мог Лука на-
рисовать младенца Иисуса? Возможно, поэтому легенда получила признание
лишь позднее. Однако ведь можно было сослаться на Евангелие от Луки, где
так много места отводится именно истории детства Иисуса.
Легенде о Луке, очевидно, предпосылается образ, который она позднее ком-
ментирует. Икона Марии возникла сначала из-за младенца Христа, т. к. не бы-
ло иной возможности изобразить вочеловечение Бога, как только представить
его ребенком на руках земной матери. Нет ранней иконы Богоматери, на ко-
торой Младенец не был бы изображен. Роль матери была предопределена еще
до того, как для нее была избрана определенная личность. Нерукотворные
изображения Христа также демонстрировали «богочеловеческий образ», как
тогда говорили
32
, однако икона Богоматери делает акцент на его детстве и та-
ким образом на происхождении его человеческой природы. Отсюда следует,
что каждая икона Богоматери содержит также образ Бога. Патриарх Сергий
в 626 г. показывал на стенах Константинополя «святые иконы Богоматери,
на которых Спасителя, представленного младенцем, мать несла на руках»
33
.
О погребальном портрете Богомладенца не могло быть и речи. Такое изо-
бражение не могло быть портретом хотя бы потому, что Христа могли бы изо-
бразить младенцем лишь в том случае, если бы он и умер младенцем. Скорее,
младенец относится к традиции изображения небесного младенца. Достаточ-
но лишь вспомнить младенца Хора на груди Исиды
34
. Несоответствие между 7
двумя противоположными идеями нельзя устранить при взгляде на образ Бо-
гоматери. Кажется, в нем повторялось явление сына божеств, но с другой сто-
роны — демонстрировались как раз человеческие обстоятельства этого явле-
ния. Варианты ранних икон Марии подчеркивают то божественную,
то человеческую природу Иисуса. Тронная Богоматерь напоминает мать-им-
ператрицу, которая представляет нового суверена. Когда же она вместо мла-
денца держит перед собой щит с его изображением (с. 136), она напоминает

78 Небесные чудотворные образы и земные портреты
ту Нику-Викторию*, которая «выставляет» портрет императора. Если младе-
нец на этой «картине в картине» восседает на троне над радугой на голубом
небе, то эта двойственная тема становится до удивления конкретным поняти-
ем: земная мать показывает небесного Бога до того, как он приобрел в ее чре-
ве человеческий облик
35
.
Если существовал определенный спектр нескольких ранних образов Бого-
матери, то легенда о Луке, в том числе и ее поздние варианты, связывалась
прежде всего с полуфигурным изображением Марии и Младенца, которое
было ближе всего к схеме портрета, хотя им и не было. Легенда о Луке вери-
фицирует известную икону как документ и реликвию. При этом она подхва-
тывает мысль, заключенную в образе, и подчеркивает реальность человечес-
кого детства Иисуса, подтверждая, что изображение является достоверным
портретом. Так она со своей стороны придает значение обязательной подлин-
ности, на которую претендуют истинные изображения Христа. Возможно, ле-
генда возникла ок. 600 г., как раз когда получили хождение легенды о неруко-
творных портретах Христа, и в ней использовалась сходная схема объяснения
для икон Богоматери. Чем более распространялся культ Богоматери, тем бо-
лее легенды подчеркивали ее активную роль. Так, в IX веке три патриарха ут-
верждали, что Богоматерь одобрила эту икону и освятила ее
36
. Постепенно ле-
генды о нерукотворном отпечатке и о живописце Луке получили одинаковое
значение в такой мере, что их все чаще объединяли друг с другом.
в) Реликвия и икона в частной и общественной жизни
Раннее указание на понимание чудотворных икон Христа обнаруживается на
40 иконе св. Сергия и Вакха VI века в Киеве
37
. На ней погрудно (en buste) изображе-
ны оба святые в воинском облачении. Над их головами в медальоне представлен
сам Христос, как Vera Icon (подлинная икона) в значении ранних чудотворных
образов. Если реальность этих святых подтверждалась их гробницами, на кото-
рых происходили чудеса, историческая реальность земной жизни Христа пости-
галась через его подлинное изображение, которое совершало чудеса, какие тво-
рили лишь мощи святых. Чудеса, совершаемые образом, как бы продолжали те,
которые Богочеловек творил на земле.
Так мы наталкиваемся на признак, который подтверждает раннюю значи-
мость образа. Он становится эквивалентом реликвии. Августин высказывается
еще отрицательно о язычниках как почитателях образов и могил (adoratores
imaginum et sepulcrorum). Однако культ могил и образов становится вскоре ха-
рактерным и для христианства
38
. Чудодейственная сила, исходившая от моги-
лы святого, переносилась на образы. Промежуточным звеном между тем и дру-
гим являются «контактные» реликвии, или вrandea**, которые приобретали
чудотворную силу благодаря контакту со святыми мощами. Наконец, выступа-
ют образы, которые ведут себя так же, как реликвии. Икона, в своей веществен-
* Nika, или Nike (греч.), и Victoria (лат.) — Победа, богиня победы у греков и римлян.
** Brandeum (лат.) (в тексте множественное число) — покров, чехол для священных останков, ре-
ликвий.
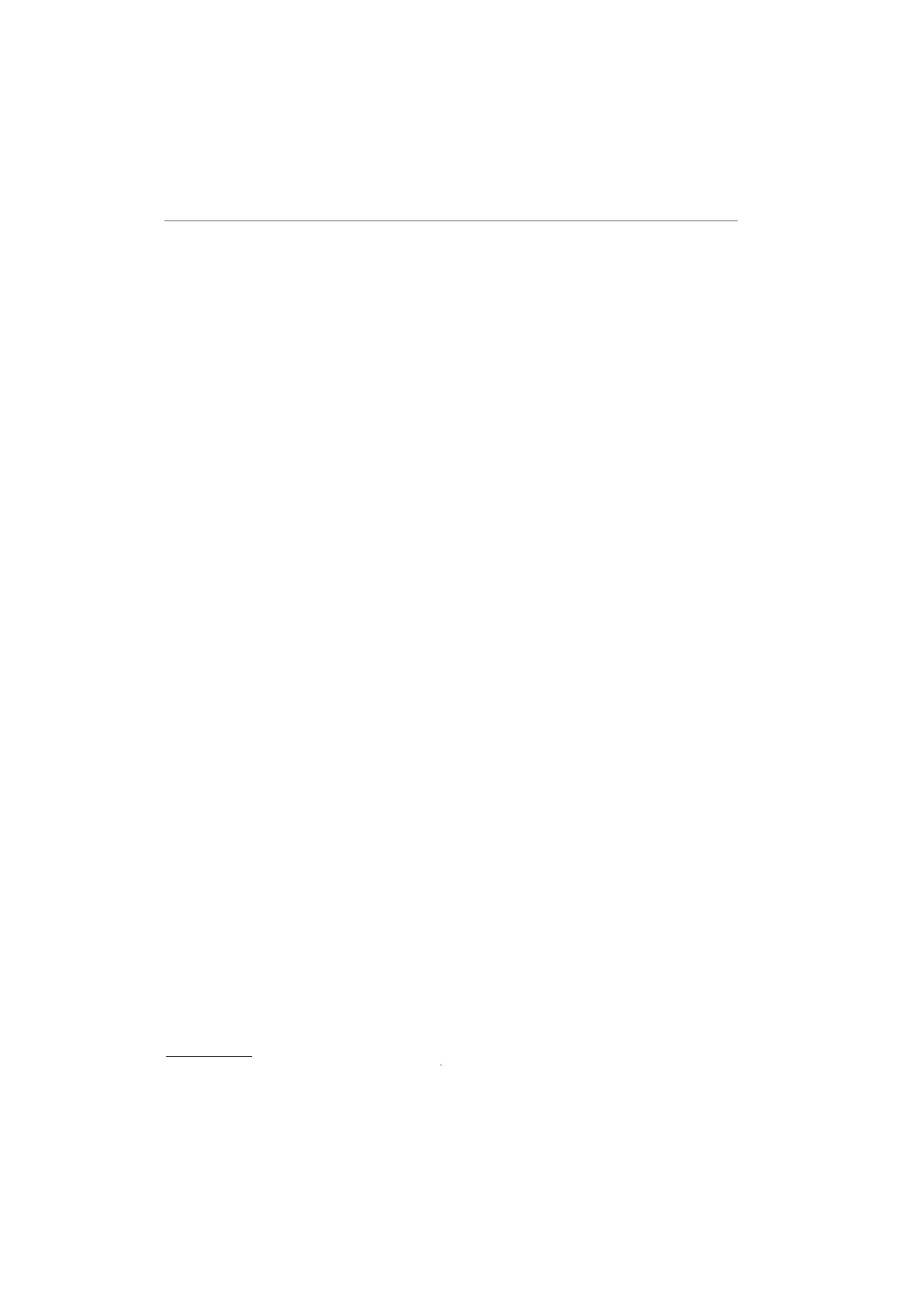
Реликвия и икона в частной и общественной жизни
79
ности и в качестве доказательства подлинности, наследует функции реликвии.
Она становится носительницей весьма реального присутствия святого.
Леонтий Кипрский ок. 600 г. защищает христиан от упреков в религиоз-
ном материализме, которые были одновременно обращены против образов
и реликвий: в кресте и в иконах, говорил он, почитают не дерево или камень,
а также не золото и бренное изображение, равно как реликвии и их футляр
почитаются не ради них самих
39
. Здесь приводится целый перечень объектов
почитания и материалов, из которых они состояли.
Особой формой реликвий-образов являются амулеты, или евлогии*, кото-
рые паломники приносили с собой домой из мест паломничества. Они содер-
жали целебное масло от гробницы святого или копию чудотворного образа
святого. В VI веке в Риме над дверью каждой лавки висел амулет сирийца Си-
меона Столпника
40
. Разнообразны связи между образом и реликвией. Они
позволяют заглянуть в сферу воздействия иконы, которой особенно на Запа-
де предстояло стать значительной. Присутствие икон святых поддерживало
чудотворную силу реликвий, не обладавших наглядностью, а со своей сторо-
ны икона заимствовала у реликвии еще большую реальность.
Амулеты были хранителями реликвий прикосновения, целебной силе ко-
торых доверяли. У них на внешней стороне имелось изображение святого или
того святого места, которое и было основой их содержания. Часто изображе- 57
ния и реликвии так срастались, что образ святого, на которого уповали, изго-
товляли из съедобного материала, который можно было принимать как лекар-
ство. Образ в этом случае не имеет самостоятельного значения, но является
знаком святого, на который была перенесена его целебная сила. Неясно,
придавали ли перенесению этой целебной силы на иконы такое же магическое
значение, как ее перенесению через физический контакт, и часто одно от дру-
гого едва отличимо, а именно тогда, когда миниатюрные образы святого при
массовом изготовлении соприкасались с живым святым или с его гробницей
или с его культовым образом. Такие обычаи предполагают, что образ пред-
ставляет самого святого или что при массовом изготовлении копий повторяли
оригинальный образ.
Однако соотношение реликвии и образа нельзя описать посредством таких
передержек. Можно констатировать, что общественные культовые образы
и личные моленные образы перенимали все больше качеств и способностей от
святых и реликвий, что, однако, не объясняет, почему это происходило и какое
понимание образа служило здесь предпосылкой. Присвоение церковью всеоб-
щего культа образов в конце VI века — это одно дело, а использование образов
в качестве реликвий, о котором мы здесь говорили, — это нечто другое.
Все чаще об образах стали утверждать то же, что обычно говорилось о свя-
тых и их гробницах: они источают целебное миро или свершают чудеса, а тот,
кто их не уважает и совершает против них преступления, подвергается нака-
занию
41
. В культе святых образ всегда восходил к подлиннику, а именно к то-
му, что пребывал в центре его культа, в церкви, где находилась гробница. Ме-
* Eulogia (греч.) — благодеяние; в христианской религии — подношение, дар, паломнические
сувениры, привозимые со святых мест.
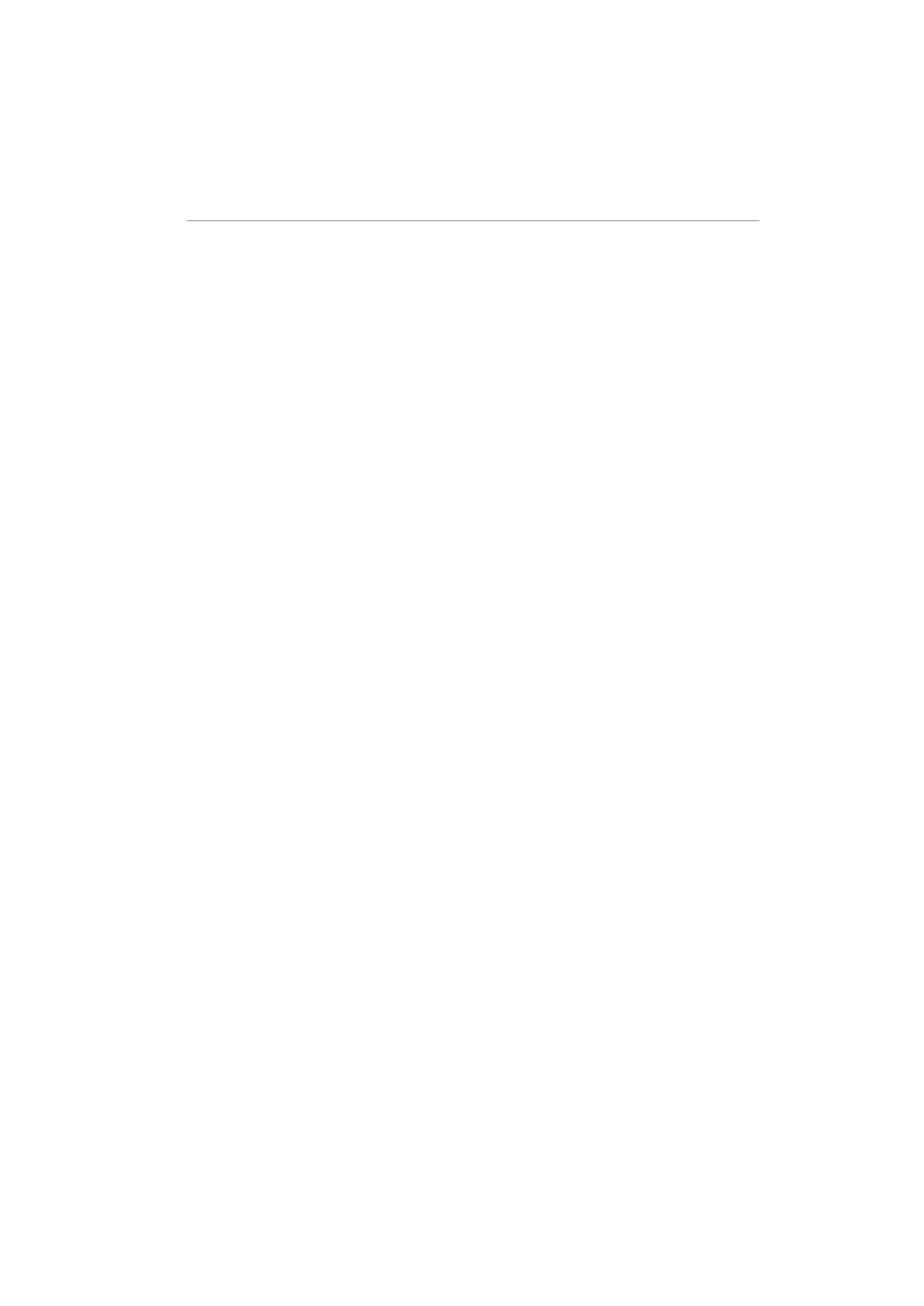
80 Небесные чудотворные образы и земные портреты
сто было для действий образа определяющим. В легендах о Димитрии, святом
покровителе города Фессалоники, ок. 600 г. речь идет о сновидениях, в кото-
рых святой призывает идти в его церковь, чтобы получить исцеление. Придя
туда, рассказчик узнает святого по его «храмовому образу», который выгля-
34 дит совершенно так, как ему святой являлся во сне
42
.
Место является символом присутствия святого и сферой действия его пра-
ва и власти. Оно обычно обозначено гробницей, но в случае с Димитри-
36 ем — иконой, которая помещается в собственной капелле, «cella», внутри
церкви (с. 109). К ней шли те, кто нуждался в помощи святого. Сам город так-
же прибегал к ее защите в бурные времена враждебных вторжений ок. 600 г.
Тогда усиливался общественный культ святого покровителя города, которому
больше доверяли, чем императору и собственной военной обороне. Он нахо-
дил конкретное воплощение в культе образа, который не отличался от культа
реликвий, но больше окрылял фантазию.
Питер Браун в остроумном исследовании по-новому осветил связи между
культом святых и культом икон как в общественной, так и в личной жизни эпо-
хи, ссылаясь на константинопольского святого Даниила Столпника (умер
в 493 г.), тело которого, вертикально укрепленное на доске, почиталось «как
икона»
43
. «Святой муж», часто отшельник и чудотворец, как «живая икона» бо-
гоугодного человека и как мощный заступник обладал ореолом, который пе-
реносили на его иконы. Он не был членом церковной иерархии, но у него бы-
ла группа приверженцев среди горожан, которая еще при его жизни
обращалась к нему за советом и помощью. Истинных чудес, которые зримо де-
монстрировали его продолжающееся присутствие, ждали, однако, у его гроб-
ницы. Телесное присутствие покровителя на небесах, обладавшего знакомым
человеческим лицом, переживалось перед иконой, которая сохраняла лик
усопшего. По этому лику его снова узнавали и с ним его себе представляли. Так
святой оказывался в центре личной набожности как его икона, на помощь ко-
торой надеялись. Икона представляла святого уже при жизни, но иначе, чем
реликвия, и одновременно, как и реликвия, заполняла ту пустоту, которая воз-
никала после его смерти, в особенности как портрет конкретной личности.
Согласно Питеру Брауну, и в городской жизни икона также стала «види-
мым выражением невидимых уз», которые связывали отдельный город с его
святым покровителем. Местный патриотизм, пробудивший вновь древние
культы, обрел во времена общей неуверенности символ единства и защиты не
в центре империи, а в культе местночтимых святых, который развивал цент-
робежную тенденцию. В их «храмах», у их гробниц и перед их иконами, с ко-
торыми хотелось вступать в беседу, городские святые заботились о лояльнос-
ти населения к их христианскому городу.
Защита жителей города передавалась небесному покровительству, которое
пребывало в данном месте либо в виде своих реликвий, либо в виде изображе-
ния. В легендах о Димитрии сообщается, что перед лицом небесных посланцев
он отказался покинуть город, который его почитал, и энергично вмешивался
в ход событий. Небесный защитник своим физическим присутствием делает
город таким же неприступным, как когда-то Палладий город Трою. Эта идея
была доказана в Эдессе в Сирии уже за два поколения до того (гл. 11). Когда

Реликвия и икона в частной и общественной жизни
81
персы в 544 г. хотели штурмовать город, они нашли на всех городских воротах
надпись с текстом одного послания Христа, который обещал городу свою лич-
ную защиту. Послание тогда сохранялось в городе как реликвия. Несколько
позднее к посланию добавился образ. Истинный портрет был также получен
непосредственно от самого Христа: значит, и портрет был также реликвией,
однако другого рода, который предполагал иную, новую ценность образа.
В третьей общине, в Константинополе, также четко выражена близость ре-
ликвии и образа как гарантов небесной защиты во времена ок. 600 г. Неруко-
творный образ Христа, реликвия крестного древа и риза Марии по отдельности
или все вместе демонстрируются на городских стенах как оружие обороны про-
тив нападающих, а иконы Богоматери принимают в этом надлежащее участие
44
.
Риза Марии, «контактная» реликвия, вместо отсутствующей телесной реликвии
была помещена в тройной реликварий, как становится известно из проповеди
620 г. Способ известен по сохранившимся реликвариям VI века в Варне, в кото-
рых содержались подлинные реликвии: в каменном ящике стоял футляр из се-
ребра, а в нем еще один из золота с эмалью
45
. Автор проповеди упоминает ка-
менный ящик, футляр «из золота и серебра» и еще третий, хотя в другой
последовательности
46
. Когда находившийся внутри ящик вскрыли, «распрост-
ранилось такое сильное благоухание, что оно заполнило всю церковь».
Это знакомый пример, когда речь идет о вскрытии святых гробниц. Одна-
ко автор проповеди с этой историей из культа гробниц связывает другую ана-
логичную, когда он описывает вскрытие реликвария как надругательство. Те,
кому было поручено спасти сокровища во Влахернской церкви от нападав-
ших врагов, «осмелились даже приложить руку к этому божественному ре-
ликварию и демонстрировать чудо, которое до того было скрыто от всех глаз».
Это намек на Палладий — небесный образ, защищавший Трою, — который
хранился в своей комнате невидимым. Снова обнаруживается близость ре-
ликвии и образа, даже в их публичной функции гаранта спасения и безопас-
ности. Функция, которая в Трое поручалась изображению, а в Риме — щиту
с образом Бога, происходящему с неба, была принесена на «контактную» ре-
ликвию, которая представляла Богоматерь.
Ираклий, который тогда был императором, приписывал падение своего
предшественника в 610 г. помощи иконы Богоматери, которую он привез
в Константинополь: она будто бы сыграла роль в последующих событиях
47
.
В столице он обнаружил культ нерукотворного образа Христа, который он ис-
пользовал: когда в 622 г. он отправился в поход против персов, он забрал с со-
бой этот чудотворный образ как подлинного суверена, с помощью которого
он надеялся победить, тем более что его противники были неверующими
48
.
В Константинополе он передал тогда патриарху свои полномочия и оставил
иконы Богоматери, которые в 626 г. были взяты в поход против аваров, осаж-
давших Константинополь. Патриарх выставлял на стенах на виду у нападав-
ших «вызывающий страх образ нерукотворного происхождения», который
парализовал врагов «образом, внушающим страх»
49
. Это описание, кажется,
должно было бы относиться к образу Христа, однако победа приписывается
одной Богоматери. Так, мы узнаем также из проповеди того времени, что па-
триарх будто бы показывал иконы Богоматери и при этом говорил: «Борьба
