Бачинин В.А. Философия права и преступления
Подождите немного. Документ загружается.


Совершенство в качестве атрибута Бога и бытия имело несколько главных модификаций:
а) благо и ведущая к нему нравственность;
б) справедливость и восходящее к ней право;
в) красота как предмет устремлений всех видов искусства, в том числе и музыки.
Таким образом, у музыки и права оказывались общими не только онтология, но и метафизика. Эта
общность с разительной отчетливостью обнаруживает себя в «духе музыки». В свете метафизической
категории «духа музыки», введенной Ф. Ницше, живая музыка, звучащая в повседневной
действительности, — это всего лишь явление этого духа. Сам же дух музыки представляет собой
некую глубинную «метамузыку», раздающуюся из метафизических глубин универсума и
заставляющую отзываться «струны» самых разных реалий, начиная с живого космоса (музыка
небесных сфер) и вплоть до человеческого духа и созданных человеком музыкальных инструментов.
Дух музыки имеет два ведущих модуса — модус становления, творения (дух творящий) и модус
разрушения и гибели (дух разрушающий). Это энергия созидания-разрушения, пронизывающая все
бытие, повсеместно разлитая во всем сущем, способная в разных формах заявлять о себе, в том числе в
виде музыкальных гармоний и дисгармоний и социальных норм и аномии. Имея собственный
метафизический ритм, способный попеременно чередовать темы созидания и разрушения, дух музыки
своими маятниковыми колебаниями побуждает целые народы то к созиданию порядка и гармонии, то к
разрушению и хаосу.
ПРИНЦИП ПРОТИВОРЕЧИЯ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ
МЫСЛИ
Классическая философская традиция, идущая от Гераклита, через Гегеля, к нам, видит универсальное
бытийное основание разнообразных форм действительности в динамической оппозиции внутренних
противоположностей. Она позволяет усматривать то, как через пульсирующие ритмы столкновений
различных пар противоположностей любая вещь пребывает в свойственном ей качестве, оставаясь
собой и становясь иной, поддаваясь воздействию сил разрушения и активно сопротивляясь им.
В свете данного подхода ведущим направлением философского анализа правовых феноменов является
обнаружение в них универсального основания в виде того или иного противоречия.
Познавательная установка на отыскание противоречий, именуемая принципом противоречия, ставит
философию права лицом к лицу с действительностью, заставляет восприни-

мать ее негативные, неправовые, криминальные формы не как случайные, несущественные вкрапления
в социальную реальность, но как ее необходимые, неотъемлемые составляющие.
В качестве исследовательского императива принцип противоречия предписывает не уклоняться от
анализа темных, сумеречных сторон социальной жизни. С его позиций целью философско-правового
анализа является не имитация познавательных усилий в духе идеологического ханжества или
морализирующего жеманства, а установление максимально точного социального диагноза. Вместе с
тем, данный принцип не позволяет исследователю негативных социальных явлений упускать из поля
зрения противоположный ценностный полюс и общий вид исторического горизонта с его перспективой
и надеждой на возможность и достижимость социальных гармоний.
Опора на принцип противоречия как на ведущее аналитическое средство предполагает, что социально-
правовому противоречию придается статус основного предмета философского исследования и что
правовая реальность может быть с необходимой и достаточной степенью полноты описана в терминах
противоречий, конфликтов, антагонизмов, коллизий, антиномий, антитез, оппозиций, контрастов,
диссонансов и т. п. Предположение такого рода основывается на том, что противоречие — это
действительно универсальная бытийная структура, присутствующая во всех сферах природного,
социального и духовного бытия, в том числе и в содержании правовой реальности.
Введение принципа противоречия в качестве аналитического инструмента в живую ткань социально-
правовых проблем открывает перед философской мыслью возможность избежать теоретического
«верхоглядства», позволяет проникать в сущностный уровень социально-правовых реалий, «смотреть в
корень», выявлять самое главное — живой пульс права, то есть изучать его не в статике, а в динамике.
Принцип противоречия обязывает не сглаживать остроту драматических социальных коллизий, а
беспристрастно анализировать и бескомпромиссно оценивать их.
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ
Какие структурно-содержательные параметры определяют характер и природу социально-правового
противоречия?
П е р в о е. В каждом социально-правовом феномене содержатся и могут быть выявлены различные по
своей значимости пары противоположных сторон, свойств, качеств, функциональных особенностей,
взаимообусловливающих и одновременно взаимоисключающих друг друга, находящихся в
отношениях взаимозави-
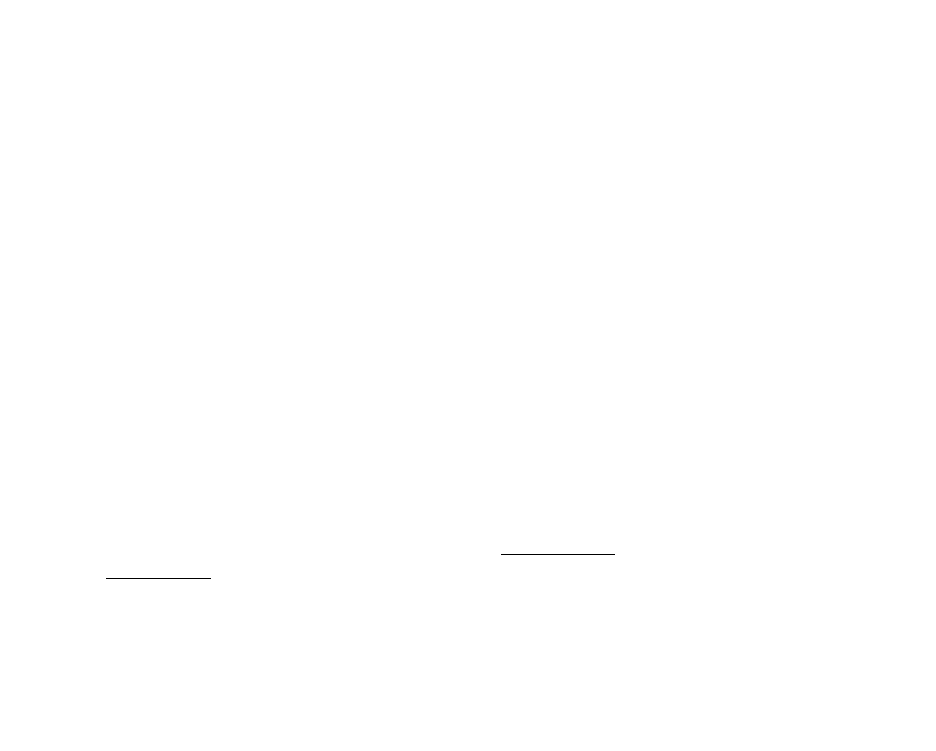
симости и вместе с тем обладающих относительной самостоятельностью.
Второе. Основные признаки отношений противоположностей — не только взаимополагание и
взаимопроникновение, но и содержательно-функциональная «асимметрия», то есть наличие ведущей и
ведомой, доминирующей и подчиненной сторон, каждая из которых обладает собственной тенденцией
изменений, подчиненной как внешним воздействиям, так и внутренней логике своего саморазвития.
Третье. Каждое конкретное социально-правовое противоречие проходит в своем развитии ряд ступеней
от возникновения до окончательного разрешения. Оно не в состоянии бесконечно долго пребывать в
застойном положении омертвевшей антитезы и рано или поздно самоликвидируется.
Четвертое. Социально-правовое противоречие обладает «чувственно-сверхчувственной» природой, то
есть имеет чувственно воспринимаемую форму, в которую облачено его внутреннее,
«сверхчувственное», умопостигаемое содержание, обнаруживающееся по его воздействиям на
окружающую действительность.
Пятое. Социально-правовое противоречие представляет собой общественное отношение, где стороны
связаны непосредственными и опосредованными, постоянными и переменными, материальными и
духовными узами между собой и со всей социальной системой.
Ш е с т о е. В зависимости от их содержательно-функциональных особенностей социально-правовые
противоречия могут либо способствовать стабилизации общественной системы, упорядочению ее
структур, повышению степени ее цивилизованности, либо же, напротив, способствовать ее
дезорганизации, дестабилизации и деструкции.
Седьмое. Абсолютное большинство социально-правовых противоречий возникают, обостряются и
разрешаются при непременном участии социальных субъектов, при посредстве их конструктивных или
деструктивных усилий.
Восьмое. Социально-правовые противоречия являются следствиями действия одних конкретных
факторов и причинами возникновения других, столь же конкретных явлений и процессов. Каждое
частное противоречие, разрешаясь, неизбежно ведет к тому, что в пределах этого же социального
пространства неизбежно возникают новые противоречия. В этом состоит неустранимый драматизм
бытия, где гармония относительна, а противоборство в самых разных его формах абсолютно и
неизбывно.
Девятое. За счет динамики возникновения, обострения и разрешения бесчисленного множества
конкретных социально-правовых противоречий совершаются благотворные или злокачественные
изменения в характере правовой реальности.

Выявление в правовом феномене внутренних оппозиций противостоящих друг другу сторон — это в
определенном смысле схематизация того, что происходит в действительности. В отношениях между
противоположностями и за каждой из них всегда остается еще очень многое из того, что невозможно
полностью учесть даже в самом обстоятельном исследовании и что составляет истинную «живую
жизнь» человека внутри социально-правовой реальности. Это, однако, не может служить препятствием
для философского анализа, поскольку сами противоречия — это тоже «живая жизнь», причем взятая в
ее наиболее существенном измерении.
ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Противоречие, как универсальная структура, содержит в себе основание для выделения нескольких
ведущих конкретных типов. Своеобразие последних определяется прежде всего характером
взаимодействия сторон-противоположностей.
1. Первый тип противоречия, антагонистический, заключается в том, что в нем преобладает
стремление сторон к взаимоотрицанию. Социальные отношения, подчиненные принципу взаимной
негации, оказывают преимущественно дестабилизирующее воздействие на общественный организм,
подрывают его жизнеспособность, разрушают его изнутри, увлекают на путь самораспада. Субъекты
этих отношений избирают из ряда объективно существующих возможностей социального
взаимодействия в первую очередь борьбу. В результате они оказываются связаны зависимостями
негативно-деструктивного характера.
2. Особенность второго типа противоречия, антагональ-н о г о, состоит в том, что противоположности
здесь не стремятся к взаимоотрицанию, а предпочитают равновесные отношения, компромиссы,
договоренности, которые позволяли бы им с обоюдной выгодой пользоваться преимуществами
«мирного сосуществования». Социальные отношения такого рода имеют преимущественно
конструктивный характер и выступают в качестве системообразующего фактора, формирующего
целесообразные и продуктивные связи между субъектами. Антагональные отношения стабилизируют
социальную систему, повышают меру упорядоченности ее структур и степень функциональности ее
подразделений.
3. В третьем типе отношений, атональном, взаимодействие сторон имеет своей целью обоюдные
позитивные трансформации, ведущие к глубокому, взаимопроникающему единению сторон, а с ним и
к все более возрастающей мере гармоничности того целого, к которому принадлежат обе
противоположности. Прогиво-

речия такого рода нацелены своими функциональными векторами на превращение социальных
организмов не просто в структурно упорядоченные, внутренне уравновешенные системы, но в
гармоничные целостности, в которых соразмерность частей достигала бы степени наивысшего
оптимума, а сами целостности приближались бы к совершенству по своим качествам.
СОЦИАЛЬНЫЙ АНТАГОНИЗМ
Социальные отношения, в которых преобладают ориентации одной или одновременно обеих сторон на
практическую или духовную, физическую или идеологическую негацию (отрицание) другой стороны,
являются антагонистическими. Антагонизмы предполагают в качестве исходной предпосылки
установку взаимодействующих субъектов на их неравенство — расовое, национальное, классовое,
политическое, гражданское, экономическое и т. д. Презумпция подобного неравенства доминирует в
антагони-зированном сознании и заставляет его видеть во взаимодействии с контрагентами
преимущественно основания для противоборства.
Социальное мышление такого рода воспринимает всю совокупность общественных связей в ключе
принципа «господство — подчинение», в свете жестких антитез взаимоотчуждения: «мы — они» ',
«свои — чужие», «высшие — низшие» и т. п. Проводимые различия имеют при этом не столько
логический, сколько аксиологический (ценностный) смысл и служат санкциями на использование по
отношению к «низшим» и «чужим» принципа нега-ции, а с ним и всех тех средств, которые
недопустимы в кругу равных, «своих».
Индивиды, ставшие предметом антагонистического отношения со стороны социальных субъектов,
обладающих полнотой власти, насильственно отчуждаются от своих естественных прав. В первую
очередь у них изымается право на личную суверенность. Они низводятся в разряд «объектов»,
«средств», «винтиков», относительно которых отменяются какие бы то ни было моральные
обязательства и допускается политическая, экономическая, судеб-но-процессуальная и всякая иная
«вседозволенность».
Т. ГОББС: АНТАГОНИЗМЫ — ПУТЬ К «ВОЙНЕ ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ»
Философские, социологические и юридические аспекты проблемы антагонизмов привлекали внимание
мыслителей разных
' В современной науке считается доказанным, что антитеза «мы — они» в социально-историческом смысле гораздо древнее
антитезы «я — ты». Об этом свидетельствуют исторические, этносоциологические, а также лингвистические данные, в том
числе грамматики языков многих народов мира Это, в свою очередь, позволяет считать антагонизм одной из древнейших форм
социальных отношений

эпох. Так, основательную разработку этой проблемы в философ-ско-правовой теории Нового времени дал
английский мыслитель XVII в. Томас Гоббс (1588—1682). Он жил во времена английской буржуазной
революции, был сторонником лидера восставшей буржуазии Т. Кромвеля. При последующей реставрации
королевской династии Стюартов Т. Гоббс не пострадал, так как среди членов королевской семьи были его
бывшие воспитанники. Но главный труд мыслителя,— книга «Левиафан» была запрещена.
В «Левиафане» социальная реальность предстает как мир, в котором никто не может чувствовать себя в
безопасности, где над каждым висит угроза насильственной смерти и довлеет страх за собственную жизнь.
Агрессивность, воинственность, корыстолюбие движут, по мнению Гоббса, большей частью человеческих
поступков и постоянно порождают антагонизмы между индивидами и общностями.
Т. Гоббс считал, что человек от рождения подвержен животным страстям — страху, гневу, жадности.
Неискоренимым и доминирующим мотивом большей части человеческих действий является любовь к себе,
а не к другим. Именно эгоизм выступает у Т. Гоббса главным стимулом человеческой активности. Если,
например, двое людей, равных между собой в своих естественных желаниях и потребностях, устремляются
к одной и той же вещи, которой невозможно обладать вдвоем, то они неизменно становятся врагами. Между
ними устанавливаются антагонистические отношения, укладывающиеся в формулу «человек человеку
волк».
Впечатления от революции и гражданской войны в немалой степени способствовали формированию
гоббсовой концепции человека как существа, более жестокого и агрессивного, чем волки, медведи и змеи.
Антагонистические отношения между такими существами позволяли каждому делать что угодно против
кого угодно, создавали социальную атмосферу «войны всех против всех», где главным средством
разрешения большинства возникавших проблем и противоречий являлось насилие.
Г. ГЕГЕЛЬ ОБ АНТАГОНИЗМЕ РАБА И ГОСПОДИНА Серьезную теоретическую попытку объяснения
социальной природы антагонистических отношений предпринял великий немецкий философ Георг
Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831). Получивший богословское образование, преподававший в
гимназиях и университетах Германии, он создал целый ряд трудов, ставших классическими и вошедшими в
золотой фонд мировой философской мысли, — «Феноменологию духа», «Науку логики», «Философию
религии», «Философию права», «Философию истории» и др.
В известном разделе «Феноменологии духа» о господине и рабе Гегель попытался показать, что
отличительной особенностью

отношений двух антагонистов является не столько вражда, сколько взаимная социальная зависимость. Оба
субъекта, господин и раб, поставлены в объективные условия, где определяющую роль играют
внеморальные факторы экономического и политико-юридического характера. Сознание того и другого
подчинено нормативным требованиям, производным от их противоположных социальных статусов.
Господин, при всей кажущейся свободе самоопределения и при том, что он является ведущей стороной,
способной диктовать свою волю рабу и подчинять того своим желаниям, все же не обладает абсолютной
автономией. Рукотворная вещная реальность, создаваемая рабом, — это то, без чего господин не мог бы
существовать в качестве господина. Сотворенная, искусственно оформленная материя предоставляет
определенную самостоятельность и рабу и господину. Первому она дает возможность проявлять себя и
свою свободу в обработке предметов, а второму — возможность самоутверждения в процессе их
распредмечивания, потребления. Но оба при этом оказываются в неравном положении.
Раб не способен относиться с позиций нравственности и права ни к господину, ни к самому себе. Будучи
целиком зависимым от чужой, стоящей над ним воли хозяина, сознавая собственную гражданскую,
моральную, юридическую неполноценность и униженность, он усматривает сущность только в бытии
господина, но не в своем собственном. Точнее, свою сущность он обнаруживает в негации по отношению к
господину. В этом негативизме тонут все нравственные мотивы и чувства, а остаются лишь страх и
ненависть. Страх .перед наказанием и угроза насильственной смерти деформируют мировосприятие раба. И
все же деструктивным началам противодействует сила, заключенная в производительной деятельности раба.
В труде, выводящем материальные предметы из природного контекста в контекст культуры, рабское
сознание выходит за свои пределы, возвышается над собой. Сознание собственной власти над материальной
предметностью позволяет рабу ощутить свое духовное превосходство над господином, которому подобная
власть недоступна.
ТЕОРИЯ КЛАССОВЫХ АНТАГОНИЗМОВ К. МАРКСА Своеобразное теоретическое обоснование
концепция социальных антагонизмов получает в марксистском экономическом учении. Согласно К. Марксу,
индивиды, включившиеся в процесс общественного производства и тем самым взявшие на себя обязанности
по выполнению определенных социальных функций, оказываются разведенными по разным социальным
полюсам и наделенными противоположными ролями владельцев средств производства и производителей.
Логика производственных отноше-

ний ставит субъектов в положение взаимного отчуждения и диктует каждой стороне свою логику
социального поведения, свой, особый стиль мироотношения. В итоге складывается такой тип общественных
отношений, когда любое единение между антагонистами выглядит как что-то случайное, а разъединение —
как норма.
В условиях антагонистических отношений у той стороны, что присваивает результаты труда
производителей, имеется возможность присваивать в необходимом количестве также и ценности культуры.
Что же касается эксплуатируемых, то они, не имея таких возможностей, обречены двигаться по пути утраты
себя, своей человеческой сущности. Поэтому, по Марксу, классы, которым отведена подчиненная,
страдательная социальная роль, заинтересованы в разрушении общественного строя, основанного на
антагонизмах. Классы же, занимающие господствующее положение, стремятся любой ценой сохранить его.
Эта разнонаправлен-ность устремлений чревата как локальными классовыми конфликтами, так и
грандиозными социальными потрясениями.
Центральное место в марксистской доктрине занимает фигура пролетария. Это существо, которое обречено
при капитализме на одичание и вымирание и которому нечего терять, кроме своих цепей. Поэтому он
должен восстать, начать революцию, которая будет праздником для трудящихся и страшным судом для
эксплуататоров и освободит мир от зла и социальной несправедливости.
ТИПОЛОГИЯ АНТАГОНИЗМОВ П. СОРОКИНА Выдающийся русско-американский социолог Питирим
Сорокин (1889—1968) предложил в своем фундаментальном исследовании «Система социологии»
собственный подход к проблеме антагонизмов. Он выделил два типа межсубъектного взаимодействия —
антагонистический и солидаристический. К первому П. Сорокин отнес взаимодействия такого рода, когда
один или оба субъекта стремятся произвести действия, противоположные тем, которые стремится
произвести другая сторона, или же когда одна сторона стремится побудить другую сторону на такие акции,
которые та не желает совершать. Примерами антагонистических взаимодействий могут служить схватки лиц
или групп, религиозная или политическая вражда, а также эксплуатация одних людей другими.
Типологизируя антагонизмы в соответствии с различными основаниями, П. Сорокин выделил следующие
разновидности:
1. Антагонизмы сознательные и бессознательные. К первым он отнес отношения между преступниками и
надзирателями, насильниками и жертвами. Ко вторым — конфликты стремлений, которые объективно даны,
но субъективно не осознаются сторо-

нами, подобно тому, как это имеет место у животных между кошкой и мышью, волком и овцой, а
также в отдельных случаях между людьми.
2. Антагонизмы, вытекающие из сходства индивидов в каком-либо отношении (между двумя
конкурентами на одно место, между двумя мужчинами, претендующими на одну женщину и т. п.).
3. Антагонизмы, следующие из различий индивидов в том или ином отношении: расовые,
политические, классовые и др.
4. Антагонизмы, различающиеся количеством участвующих в них лиц (между двумя лицами, между
одним и многими, если это деспот и масса, хозяин и рабочие, политический оратор и враждебная
толпа; между группами, если это племена, классы, государства).
Основными индикаторами антагонистического типа взаимодействия являются факты борьбы,
принуждения и насилия.
ИММОРАЛЬНО-НЕПРАВОВАЯ ПРИРОДА АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Антагонизированное сознание намеренно обесценивает личность собственного контрагента в своих
глазах, отказывает ему в праве на свободное волеизъявление, видит в нем объекта, а не субъекта,
воспринимает его как средство, а не цель, как частичное, но не целостное существо.
Субъект антагонистического мироотношения, наделенный воинственно-агрессивным духом, подчинен
в своих практических и духовных действиях по отношению к тем, кого он считает своими
«антиподами», имморальным мотивам борьбы. Национальные, этатистские, политические, классовые,
партийные, корпоративные, сословные интересы способны обретать для него безусловно-
императивный характер, подчинять его чувства, мысли, поступки принципам открытой или тайной
войны с истинными или воображаемыми противниками, отчуждая его от универсальных норм
нравственности и права и предписывая осуществлять то, что в ценностном контексте этих норм
именуется национализмом, шовинизмом, насилием, несправедливостью, преступлениями, то есть злом.
Антагонизированное мироотношение, как правило, монологично. Его носители уверены в
самодостаточности и непогрешимости своих убеждений и способны слышать лишь самих себя и
внимать только голосам «своих», но не «чужих». Отвергая всякую возможность продуктивных
диалогов, идеологических компромиссов, интеллектуальных конвенций, отрицая все, что
представляется ему идейно чуждым, антагонизированное сознание имеет тенденцию к все большему
самозамыканию в своем монофоническом отчуждении от иных ценностных миров. Проводя линию
бескомпромиссности и непримиримости по отношению к

тем, «кто не с нами», возводя насилие в универсальное средство выяснения отношений между
сторонами, оно открывает путь к превращению ценностей жизни и культуры, морали и права в
бесконечно малые величины, которыми всегда можно пренебречь.
ДЕСТРУКТИВНОСТЬ АНТАГОНИЗМОВ
Социальные субъекты с антагонизированным мышлением несут в себе вместе с воинственностью,
нетерпимостью и непримиримостью мощный заряд деструктивного активизма. Они полагают, что
могут обрести всю полноту собственного самоосуществления только в бескомпромиссной борьбе с
различного рода противниками, соперниками, конкурентами. Возможность провоцировать другую
сторону на столкновения, нападать и сражаться необходима им для высоких самооценок. Социальные
конфликты, войны с сопутствующими им взрывами насилия представляются им вполне приемлемыми
и оправданными формами социального существования, а победа или смерть в борьбе
предпочтительнее мирных договоренностей и компромиссов.
Принцип «господства — подчинения» доминирует в антаго-низированном сознании и не позволяет ему
выйти в ценностный ареал эгалитарно-демократических норм. Жаждущее борьбы и побед, оно видит
одну из главных задач в обретении, распределении или перераспределении власти. И здесь для него
приемлемы только два пути: при подчиненном положении добиться господствующего, а при
господствующем — сохранить власть любыми средствами.
Антагонистический тип взаимодействия, допускающий уклонения сторон от соблюдения моральных и
правовых норм в отношении друг друга, подрывает коренные устои человеческого общежития.
Антагонизмы оказывают разрушительное воздействие как на субъектов взаимодействия, так и на ту
социальную среду, внутри которой они разворачиваются.
Если общность оказывается полностью во власти антагонистических идей и настроений, она
утрачивает значительную долю своего созидательного потенциала. Нормальная состязательность
вытесняется изнурительной враждой, взаимными истязаниями, проявлениями обоюдной жестокости.
Каждая сторона стремится превратить бытие своей противоположности в небытие, создавая тем самым
катастрофическую ситуацию с признаками надвигающегося хаоса.
В этих условиях наибольшим разрушениям подвергается духовно-нравственная сфера, где полному
забвению предаются морально-правовые запреты — не убивать, не насильничать и т. д. У субъектов,
которым повсеместно грозят всевозможные опасности, не остается сил на созидание, творчество,
поскольку они по-
