Бачинин В.А. Философия права и преступления
Подождите немного. Документ загружается.


Данные уровни пребывают не изолированно друг от друга, а в неразрывном, взаимопроникающем
единении, составляя особое, нормативно-ценностное целое — этос юридической культу ремы.' Взятый
в информативном аспекте, он дает сведения о различных сторонах бытия морально-правовой
реальности конкретного социума.
Вся история искусства, и в первую очередь история литературы, — это в известном смысле процесс
художественно-эстетического осмысления важнейших нравственно-правовых противоречий
человеческого существования. Но сколь бы близко искусство не придвинулось к постижению их
смыслов, сколь бы мастерски художественный гений не научился воссоздавать социальные коллизии,
действительность в ее безостановочном движении будет вновь и вновь ускользать, заставляя новые
поколения художников, писателей, драматургов, поэтов максимально напрягать свои творческие силы
во имя постижения ее противоречий.
В культуремах сосредоточен обширный материал о генезисе и историческом развитии морально-
правовой реальности. Уже на начальных этапах развития цивилизации мифологическое, религиозное и
художественное сознание внимательнейшим образом исследовали с помощью доступных им средств
все то, что имело непосредственное отношение к родовому праву, к процессам стихийного и
сознательного правотворчества. Многие памятники религиозно-философской культуры, в том числе
греческие мифы, Ветхий Завет, поэма «Даодэцзин» запечатлели переход от стихийности доправового
хаоса к упорядоченности морально-правового космоса, от состояния полудикого «протоморализма» к
организованному правопорядку. Они были свидетелями опытов раннего нормотворчества, в результате
которых возникли качественно новые регуляторы социальной жизни, нацеливавшие индивидов на
исполнение общественно значимых задач по созданию и совершенствованию цивилизованного мира.
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОЦИОЛОГИЕЙ И МЕТАФИЗИКОЙ ПРАВА
По отношению к правовой реальности как объекту познания существует немало исследовательских
методов. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, свои возможности и ограничивающие
их пределы. Имеются они также у социологического и метафизического методов познания. Некогда, в
классической традиции, берущей свое начало от Платона, оба эти метода существовали в неразрывном
единстве. Спустя два тысячелетия Новое

время, сопровождавшееся неуклонным «разволшебствлением» мира и наступлением
просветительского рационализма, стало свидетелем раздвоения прежде единого познавательного
метода на два самостоятельных. В XIX в. О. Конт предпринял решительную попытку совершенно
избавить социальное знание от метафизических компонентов. В итоге вместе с позитивизмом
возникает социология, отмеченная печатью нарождающегося модерна с присущей тому установкой на
разрыв с классическими культурными традициями.
Социологический метод, вырвавший право из контекстов физической и метафизической реальностей,
пошел по пути принципиальной редукции своего предмета. Двигаясь исключительно в социальной
плоскости, он не замедлил обнаружить свою ограниченность. Социологические рассуждения о праве
разворачивались, как правило, в плоскости однозначно социальной детерминации: определенные
социальные причины ведут к появлению тех или иных социально-правовых фактов и обстоятельств,
которые, в свою очередь, порождают новые генерации социальных следствий, последние сами
становились причинами новых социальных обстоятельств и т. д. Эта методологическая схема почти
сразу стала оборачиваться объяснениями известного через известное, тиражированием
рационалистически аранжированных трюизмов.
С самого начала за социологией права закрепился «имидж» рассудочной дисциплины, прагматичной,
довольно суховатой и пронизанной духом «фактопоклонства». Западное сознание, само склонное к
рассудочности и прагматизму, достаточно спокойно воспринимало подобный «имидж» молодой науки.
В отечественной же культуре отношение к ней не было однозначным: периоды пристрастной
заинтересованности и пылкой апологетики чередовались с периодами охлаждений и разочарований.
Так, конец прошлого века ознаменовался характерным явлением в интеллектуальной жизни: недавнее
широкое увлечение социологическими теориями стало сменяться интересом к метафизическим
проблемам. Вчерашние социологи-марксисты превращались в идеалистов-метафизиков. Начало XX
столетия, «серебряный век» отечественной культуры — это эпоха, когда наиболее крупные мыслители
погрузились преимущественно в метафизические изыскания. Далее, в течение последующих семи
десятилетий советского периода интеллектуальная жизнь обществоведов проходит в основном под
сенью социологического редукционизма в его марксистской редакции. У социальной мысли оказались
напрочь отрублены «метафизические крылья», и она стала совершенно неспособна к «метафизическим
полетам». Обычным результатом ее познавательных усилий были редуцированные модели социально-
правовых реалий, к тому же деформированные накладывав-
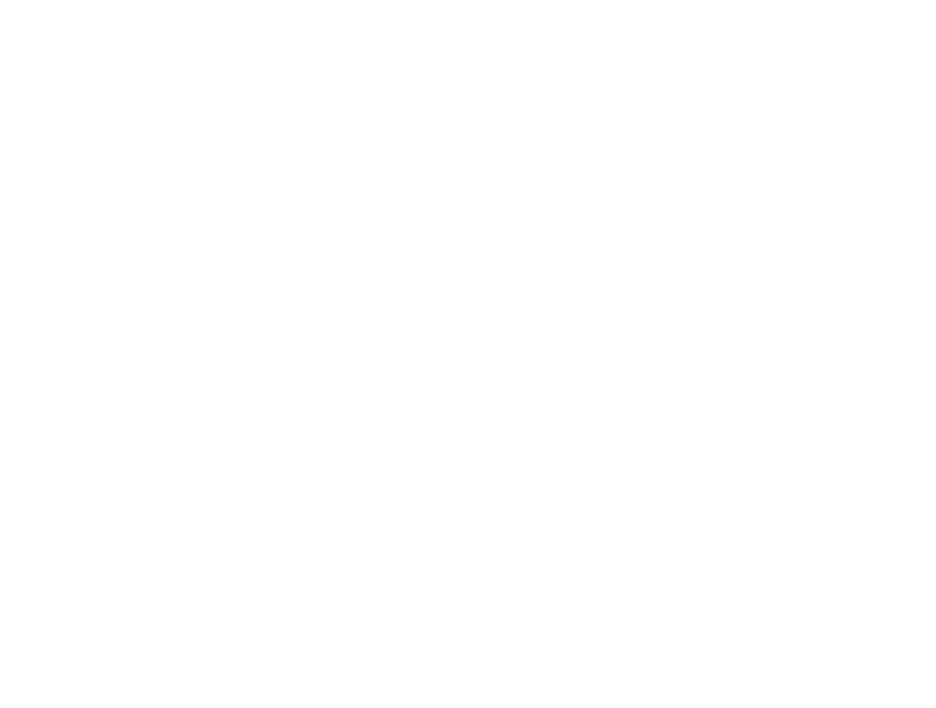
шимися на них официальными идеологемами. Даже в тех случаях, когда социология обращала свой
взор на тончайшие духовные формы социального бытия, связанные с нравственностью, религией,
искусством, они тут же включались в цепь типовых социальных детерминант, где каждой отводилось
место на одной общей социодетерминистской линии закольцованных причин и следствий,
напоминающей «ленту Мебиуса».
И, наконец, на исходе XX в. отечественная социально-правовая мысль вновь активизировала свои
метафизические устремления. Последнему обстоятельству есть, по меньшей мере, три объяснения.
Первое — это возникшая возможность восстановить насильственно прерванную связь времен и
досказать то, что не успели высказать отечественные мыслители начала века.
Второе — приход эпохи постмодерна, смысл которой вписывается в библейскую мифологему
возвращения блудного сына. В роли блудного сына в данном случае выступает социологический
метод, который «ощутил» потребность возврата в отчий дом классических традиций, в лоно покинутой
им метафизики.
Третье — это то, что социологический метод в очередной раз обнаружил собственную
несамодостаточность. Именно в такие моменты, когда для самих социологов становилось очевидным
неудовлетворительное качество получаемой социологической информации, их интерес начинал
перемещаться от позитивистских ориентиров в сторону метафизического метода ', от штампов
юридического позитивизма к естественно-правовым философемам.
Таким образом,'последние полтора столетия духовной истории убеждают в том, что отношения между
социологией права и метафизикой права складывались не по принципу взаимодополняемости их
методологий, а скорее в соответствии с логикой их попеременных вытеснений. Социологическая наука
либо преисполнялась пафосом самоуверенности и самодостаточности, либо же начинала испытывать
потребность в дополнительной философской и метафизической проработке своих оснований. За тем,
что внешне выглядело как колебания исторического «маятника», для нее крылись периодически
обострявшиеся вопросы, связанные не только с качеством получаемого знания, но и с крупными
метанаучными проблемами собственного предназначения.
' В XX в. на волне подобной неудовлетворенности многие западные социологи обратились к психоанализу, который стал
своеобразным заменителем классической метафизики. Он позволял в исследованиях проблем социальной деятельности
человека избегать рационалистической схематики. Но, в отличие от метафизики, он уводил ищущую мысль не в
сверхфизическую высь, а вниз, в темные глубины биофизической материи.

Основной итог, к которому подошла социологическая наука на излете XX века, заключался в выводе о
том, что ее суверенизация от метафизики не удалась, поскольку не дала ожидаемых результатов. Те
достижения, что современная социология имеет на своем счету, в том числе в изучении права, не
слишком утешительны, а те познавательные перспективы, что еще существуют на прежнем пути
приобретения позитивных знаИий, не обещают больших открытий. В итоге обнаруживается новая
тенденция, противоположная прежней, позитивистской, и несущая с собой стремление вновь
воссоединить социологию права с метафизикой права, тем более, что ни та ни другая не выказывают
признаков взаимной несовместимости.
ДОСТОЕВСКИЙ О СОЦИОЛОГИИ И МЕТАФИЗИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Социологический и метафизический методы представляют собой по отношению к праву два разных, но
не противоположных познавательных подхода. Если первый при построении объяснительных моделей
не идет дальше обнаружения тех или иных социальных причин, то второй непременно устремляется за
пределы социальной реальности, туда, где, по его предположениям, присутствуют метафизические
первопричины социальных причин. То есть один и тот же морально-правовой факт может быть
рассмотрен либо в одном, либо в другом познавательном ракурсе. Философ С. Булгаков в свое время
обратил внимание на то, что те вопросы, о которых любят рассуждать герои Достоевского, имеют две
ипостаси — социологическую и метафизическую. С социологической точки зрения они выглядят как
вопросы о социализме, анархизме, социальной переделке человека, а с метафизической — как вопросы
о Боге и бессмертии души. Характерно, что С. Булгаков, сам ставший из социолога-марксиста
метафизиком, говорит в данном случае именно о Достоевском и его героях. Более удачный пример
было бы трудно привести. Творческое наследие великого писателя-мыслителя действительно
представляет огромный интерес в свете проблемы соотношения социологии и метафизики. С большим
вниманием относясь к той и другой, Достоевский оставил немало тонких и глубоких суждений о их
познавательных возможностях.
В последнем романе Достоевского, «Братья Карамазовы», Иван Карамазов выступает одновременно в
трех творческих ипостасях — как социолог, литератор (сочинитель поэмы) и мыслитель-метафизик. Он
прямо говорит о себе как о любителе и собирателе «некоторых фактиков», то есть как о социологе.
Пользуясь разными источниками — свидетельствами очевидцев, газетами, судебными отчетами,
брошюрами, историческими хрониками и художественными произведениями, он собрал

«хорошую коллекцию» фактов, свидетельствующих о наиболее характерных особенностях
человеческой природы и о состоянии общественных нравов в прошлом и настоящем. В его коллекции
три раздела — факты азиатского происхождения, свидетельства из европейских источников и, наконец,
«русизмы». Все они говорят об одном — о необычайной, превосходящей всякие разумные пределы
жестокости человека, порождающей множество преступлений.
Из азиатской и европейской социальной практики Иван приводит по одному факту — о чудовищной
жестокости турок в Болгарии, зверски терзавших грудных младенцев, и историю темного,
неграмотного убийцы Ришара, который в тюрьме за то время, пока длилось следствие, был обучен
грамоте, обращен в христианство, осыпан многими благотворительными милостями, а затем
гильотинирован на площади в центре просвещенной Женевы. Далее следуют четыре «русизма».
Первый он берет из стихотворения Некрасова о том, как мужик сечет, пьянея от собственной
разгорающейся ярости, слабосильную, завязшую с тяжелым возом лошаденку по «плачущим, кротким
глазам». Затем излагаются два факта из судебных хроник об истязаниях малолетних детей
образованными родителями. И, наконец, последний приведенный факт, почерпнутый Иваном из
какого-то старого сборника, вроде «Архива» или «Старины», — это история о том, как генерал-
помещик затравил гончими псами восьмилетнего мальчика.
К каким же выводам приходит социолог-любитель Достоевского? Их у него оказывается три.
Первый вывод: если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему
образу и подобию.
Второй: даже цивилизация не в состоянии изменить природу человека. Он продолжает оставаться
столь же агрессивным и жестоким, как и во времена первобытного варварства. Разница между
нецивилизованным русским и цивилизованным европейцем лишь в том, что жестокость последнего
обставлена значительно большим количеством социальных условностей.
Непомерная жестокость людей по отношению к себе подобным, будучи непреложным фактом, тем не
менее не укладывается в сознании собирателя социальных фактов, не поддается рациональному
объяснению. Его рассудок заходит в тупик в попытках понять ее смысл. Отсюда парадоксальный
вывод Ивана-социолога: «Я ничего не понимаю... я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу
оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же
изменю факту, а я решил оставаться при факте...» '. Эта тирада, произнесенная как
1
Достоевский Ф М Поли, собр соч. в 30-ти т., Т. 14. Л., 1976, с. 222.

в бреду, чрезвычайно верно могла бы охарактеризовать положение позитивной социологии с ее
«фактопоклонством». Иван, будто дельфийский оракул, пророчествует о судьбе науки, остающейся
«при фактах». Для нее этот будущий путь — одновременно путь и спасения и гибели. Держась за
факты, она сможет достаточно долго оставаться самой собой. Но, держась только за них, она рано или
поздно перестанет что-либо понимать, то есть давать сколь-нибудь удовлетворительные объяснения
этим фактам. «Эвкли-довский рассудок» юридических позитивистов, нагруженный знанием множества
социально-правовых фактов и с готовностью отвечающий на вопросы «что?», «где?», «когда?», «как?»,
неизменно будет теряться при обращенных к нему вопросах «почему?» и «зачем?».
В третьем выводе Ивана Карамазова («ничего не могу понять, для чего все так устроено») уже слышен
голос метафизика. Почему на земле так много зла, преступлений и страданий? Зачем люди их нарочно
приумножают, терзая друг друга? Почему зло, а не добро, преступления, а не добродетели определяют
ход социальной жизни? Иван с отвращением отбрасывает расхожие позитивистские объяснения,
согласно которым все в итоге уравновешивается и укладывается в логику поступательного движения
по лестнице прогресса мировой цивилизации. Для него неприемлема эта рассудочная «эвклидовская
дичь», оправдывающая тот бесовский хаос, внутри которого существует человеческий род. Его не
удовлетворяют объяснения, ссылающиеся на влияние социальной среды. Если бы он брал только
«русизмы», то их еще можно было бы попытаться объяснить с чисто социологических позиций, а
именно — неблагополучным состоянием российской социальной среды. Именно таким образом
объяснили главный «русизм» романа — убийство Федора Павловича Карамазова — прокурор Ипполит
Кириллович и бывший семинарист Ракитин. Первый увидел в этом событии продукт разрушения
российских социальных основ, а второй — следствие застарелых остатков крепостничества и
современных социальных беспорядков. Но Иван не случайно привлекает факты не только из
российской, но и азиатской и европейской действительности, берет примеры не только из настоящего,
но и прошлого. Он универсализует проблему, интересуясь человеком вообще, его природой и
сущностью. Дополнительные факты здесь уже ничего более не добавят и к ответу не приблизят. От
фактов и от самой позитивной социологии преступления пора оторваться. И Иван тут же осуществляет
«вертикальный взлет», мгновенно преобразившись из социолога в метафизика. Заметно меняется его
лексикон, и в центре разговора оказываются уже иные понятия — Бог, вечность, Христос, горние силы,
высшая гармония, искупление, ад. И это несмотря на то,

что перед Алешей исповедуется не клерикал-ретроград, а вчерашний выпускник университета,
окончивший естественный факультет. Как истинно метафизический герой, всерьез разыгрывающий
свою личную метафизическую драму, Иван Карамазов отважно устремляется в максимально
отдаленную от жизненной суеты сферу «последних вопросов», где все безмерно выше человеческого
разумения, где можно лишь безоговорочно принять то, что есть, положившись на высшую премудрость
провидения. Для того, кто наталкивается на эти вопросы, лучше всего оставаться в пределах покорной,
бессознательной веры в существование высшей справедливости, которая на то и существует, чтобы в
конечном счете все поставить на свои места и каждому воздать по его заслугам. Но драматизм
положения Ивана в том, что он не способен ограничиться ни примитивным коллекционированием
«фактиков», ни бездумной верой. Он не в состоянии остановиться на полпути, ибо по своей природе
является прирожденным мыслителем, которому «миллиона не надо, а надобно мысль разрешить».
Мысль же состоит в том, как совместить высшую благую премудрость творящего первоначала с той
безмерной массой бессмысленных злодеяний и преступлений, которыми переполнена жизнь людей. В
дальнейшем поиске он вводит следующий «эшелон» метафизических рассуждений, связанных с
личностью Христа, выступая как автор поэмы «Великий инквизитор».
Незаурядные литературные способности Ивана позволяют ему найти новый ракурс в освещении все
той же, поначалу социологической проблемы, которая затем выросла в метафизическую тему
человеческой природы и судьбы человеческого рода. В его поэме два героя — Христос и инквизитор,
за которыми стоят еще более могучие силы, борющиеся за человека, — Бог и дьявол. Инквизитор
убежден, что человек по своей природе низок, подл, преступен, податлив искушениям, легко
склоняется к злу и ему противопоказана свобода, поскольку он не умеет употреблять ее иначе, как во
зло. Для Христа же свобода — первое и важнейшее условие полноценного, истинно человеческого
существования, главная предпосылка любви, справедливости и счастья.
Цель Ивана при изложении поэмы заключается в том, чтобы подвести дополнительные
метафизические основания под свою социально-этическую позицию. При этом драматизм его
положения усугубляется еще тем, что собственные его взгляды во многом совпадают со взглядами
Великого инквизитора: для них обоих люди — это «недоделанные, пробные существа», которым
свобода не под силу. Однако среди них изредка встречаются иные -умные, волевые, властные, стоящие
на голову выше остальных, сознающие, что они владеют бесценным даром — свободой. Но они
отчего-то склонны прислушиваться прежде всего не к воз-

званиям Бога, а к коварному зову искусителя — страшного духа разрушения и смерти. И в их руках
любое благо превращается в зло, свобода оборачивается вседозволенностью, а добродетель —
преступлением.
Иван на протяжении романа неоднократно высказывает довольно рискованные суждения, суть которых
сводится к тому, что если мир, который он не приемлет, лежит во зле и люди, населяющие его,
погружены в это зло, то нет нужды рядиться в «белые одежды» святости и можно сознательно перейти
на сторону умного и страшного духа — дьявола, как это и сделал Великий инквизитор.
Кому-то может показаться, что страницы романа, где Иван Карамазов излагает свое кредо, вряд ли
могут считаться образцом утешительного чтения и служить развитию благонамеренности. Но в этом,
по большому счету, и нет нужды, поскольку метафизическому умозрению изначально чужд пафос
морализирования. Устремляясь вперед, оно уже не останавливается перед доводами спасительного
благоразумия и готово рисковать, даже если ему грозит опасность быть обвиненным в имморализме.
Этос метафизики состоит в ином.
Выдающийся грузинский философ М. Мамардашвили утверждал, что в европейской метафизике,
начиная с Декарта, существует взгляд на мышление как на акт героизма, поскольку, чтобы
действительно помыслить нечто, необходим риск. «Нужно рискнуть и выдержанно постоять в
горизонте риска. А это трудно...» '. Иван Карамазов у Достоевского не просто стоит в горизонте
метафизического риска, а движется, продолжает идти до конца, до момента, когда все обрывается и
впереди не оказывается уже ничего, кроме разверстой бездны «мыслепреступления». Исполненная
дерзкого авантюризма, его мысль не страшится бездны, поскольку там, в ее мраке, ей мерещится образ
истины, и этот образ заслоняет вид самой бездны, убивает страх перед ней.
Итак, что же прибавляется к исходным фактографическим посылкам в результате перевода
социологической проблематики на метафизический уровень? Без сомнения, поставленная проблема
преступления обретает полноту освещения и глубину проработки, которую она вряд ли обрела бы,
оставшись только на социологическом уровне. Но главное, пожалуй, то, что она претерпевает
экзистенциальную транскрипцию и в итоге обретает глубоко личностный характер, позволяя субъекту
с ее помощью сформулировать свое жизненное кредо. Социальные факты, прежде существовавшие как
бы сами по себе, оказываются включены в личную картину мира, а знание о человеке вообще
становится знанием о себе, своем «Я».
Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. М., 1995, с. 144.

На стыках социологии и метафизики обнаруживаются универсальные экзистенциалы и высшие
нравственные истины. Приближение сознания к полю их смыслов означает, что имевшиеся в его
распоряжении знания об отдельных социальных, в том числе правовых и криминальных, фактах
накладываются на шкалу ценностных абсолютов и эти факты обретают свой истинный смысл, дотоле
неочевидный. Данная шкала крайне необходима социальным и гуманитарным наукам, литературе,
искусству, культуре в целом. Она особенно нужна в переходные эпохи, когда рушатся устоявшиеся
системы ценностей, возникает сумятица оценок и многие перестают отличать порок от добродетели, а
преступление от подвига. Достоевский с горькой усмешкой писал о публицистах, имеющих дело с
разнообразными социальными фактами, пишущих о них, но, по сути, не умеющих отличить в них
добро от зла. Главную свою задачу они видят в том, чтобы писать «либерально» и «прогрессивно». «Но
как написать либерально? — он уже и не знает, забыл... большая часть из них пишут наудачу, на
всякий случай. Девочка воткнула булавку в голову другого ребенка, и вот они находят, что это хорошо,
потому что либерально: она протестовала против деспотизма. С фактами участившихся самоубийств
или ужасного теперешнего пьянства они решительно не знают, что делать. Написать о них с
отвращением и ужасом он не смеет рискнуть: а ну как выйдет нелиберально, и вот он передает, на
всякий случай зубоскаля.» '.
Способность к глубокому осмыслению фактов социально-правовой жизни зависит не только от
степени разработанности методик, которыми располагает позитивная социология. Проходит несколько
десятилетий после того, как Достоевский высказал приведенную выше мысль. То было время, когда
социология на Западе и в России не стояла на месте. И все же степень ее умения обращаться с
социально-правовыми фактами и должным образом осмысливать их практически не возросла. В 1920 г.
П. А. Сорокин в своей фундаментальной «Системе социологии» тоже с грустью констатировал, что из-
за слабой развитости социологии человечество «до сих пор бессильно в борьбе с социальными
бедствиями и не умеет утилизовать социально-психическую энергию, высшую из всех видов энергий.
Мы не способны глупого делать умным, преступника — честным, безвольного — волевым существом.
Часто мы не знаем, где «добро», где «зло», а если и знаем, то сплошь и рядом не способны бороться с
«искушениями»
2
.
Неспособность социологии права отличать добро от зла — это не обязательно черта, обусловленная
переходным характером эпохи, в которую она существует. Нечто подобное может с ней
1
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 21. Л., 1980, с. 156. - Сорокин П. А. Система социологии. Т. 1. Пг., 1920, с. 42.

произойти и в сравнительно стабильную эпоху, если это эпоха господства тоталитарного режима, когда
социальная мысль, зажатая в тесные рамки жестких идеологем, утрачивает высшие ценностные ориентиры,
а с ними и сознание своего истинного предназначения.
ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАФИЗИКИ ПРАВА Только на первый, весьма поверхностный, взгляд
может показаться, что метафизика бесполезна для большинства теоретических и экспериментальных
дисциплин. Лишь весьма неискушенному рассудку она представляется «надмирной», оторванной от всего
земного и насущного и достойной лишь играть роль, напоминающую роль «искусства для искусства». В
действительности же и по самому большому счету она полезна, практична и совершенно необходима.
«Метафизика, — писал в начале XX в. французский философ Ж. Маритэн, — устанавливает порядок не в
виде полицейских предписаний, а порядок, исходящий из вечности, — в интеллекте, как спекулятивном, так
и практическом. Она возвращает человеку его устойчивость и движение, назначение которых, как известно,
в том, чтобы, упираясь обеими ногами в землю, головой устремляться к звездам. Она открывает ему во всей
полноте бытия подлинные ценности и их иерархию. Она устанавливает свою этику. Она поддерживает
справедливый порядок в мире своего познания, обеспечивает естественные границы, гармонию и
соподчинение различных наук. И это гораздо необходимее человеческому существу, чем самые роскошные
цветы математики феноменов. Ибо какой смысл завоевать мир, но потерять истинную направленность
разума» '.
Вряд ли существует уважающая себя наука, не заинтересованная в том, чтобы сохранять истинную
направленность своих изысканий, а значит отчетливо различать свои главные ценностные ориентиры.
Метафизика стремится убедить ученых в существовании вечного и абсолютного. Если это социологи,
изучающие право, то она уверяет их в том, что социально-правовой порядок имеет высшие предпосылки,
пребывающие вне природно-социального континуума и потому недоступные для исследовательских усилий
позитивной науки. О существовании этих предпосылок социологи могут лишь строить предположения по их
проявлениям в различных социальных феноменах. Метафизика заставляет социологов, исследующих
конкретные морально-правовые факты, явления и процессы, воспринимать как должное то, что в них всегда
присутствует нечто, выходящее за их пределы и вообще за пределы человеческого понимания. Это нечто —
отблески вечного и абсолютного на всем временном и относительном. Это печать
Маритэн Ж. Метафизика и мистика. — Путь. Париж, 1926. с. 69.
