Бачинин В.А. Философия права и преступления
Подождите немного. Документ загружается.


не могут успешно развиваться. Из этой области правоведы черпают методы и принципы, необходимые
для проведения конкретных исследований.
Философия права занимается разработкой методов изучения правовой реальности. Этих методов
достаточно много, и они представляют собой различные инструментальные средства и способы
добывания сведений о всеобщих основаниях, определяющих сущность права. Каждый метод позволяет
выстраивать имеющиеся знания о праве в виде соответствующей содержательно-смысловой
конструкции.
3. Цеппостпо-ориентациоппая функция
В сфере права сосредоточено немало ценностей, выработанных цивилизацией за историю ее развития.
Одна из задач правовой философии состоит в том, чтобы выстроить иерархию этих ценностей, выявить
среди них приоритеты и убедительно обосновать логику образуемой иерархии.
Не ограничиваясь этим, философия права стремится убедить социального субъекта, будь то индивид,
общность или государство в лице тех, кто им управляет, ориентировать его бытие внутри правовой
реальности, его правотворческую, правоприменительную и правоохранительную деятельность на
высшие гуманистические ценности — справедливость, добро, благо. Она же предостерегает против
отклонений от этих ориентиров, указывает на возможные негативные последствия таких отклонений.
4. Воспитательно-образовательная функция
В переходные исторические эпохи радикальных преобразований, когда меняется .весь строй
социальной жизни и старое энергично вытесняется новым, индивидуальное и общественное
правосознание активно стремятся к освобождению от негативных стереотипов прошлого. Философия
права целеустремленно способствует этому. Она, с ее принципиальной ориентированностью на
общечеловеческие ценности истины, добра, справедливости, помогает увидеть социально-правовые
проблемы высветленным взглядом цивилизованного субъекта, не отравленного ядом партийной злости
и классовой ненависти.
Философия права переводит фундаментальные философские проблемы на язык морально-правовых
понятий, доказывает взаимосвязь универсальных истин бытия с существованием конкретной личности
в социальном пространстве правовой реальности.
Изучение правовой философии способствует росту уважения к праву, ведет к углубленному
пониманию того, что все неправовое, преступное является унизительным для человека, противоречит
его высокому предназначению.
Классическая философия права доказывает, что уважение к личности, достоинству, правам и свободам
каждого в большей

степени соответствует сущности человека, чем противоположное отношение.
Освоение накопленных цивилизацией богатств философско-правовой мысли является важным
условием развития индивидуального правосознания. Известно, что уже с первых жизненных шагов вся
деятельность человека направляется на освоение накопленного предыдущими поколениями опыта —
от элементарных умений и навыков до высших духовных ценностей. Отдельный индивид, начиная
практически с «нуля», как некогда в далеком прошлом начинал весь человеческий род, устремляется к
вершинам цивилизованности и культуры. Получается, что каждому человеку необходимо
индивидуально пройти тот же путь духовного развития, какой на момент его существования прошло
все человечество.
Преодоление этого пути, с необходимостью сжимаемого до хронологических масштабов
индивидуального бытия, становится возможным благодаря акумулятивному контакту личности с
общечеловеческим культурным опытом. Развернутую экспозицию этой проблемы представил в свое
время Гегель. В своей «Феноменологии духа» он попытался воссоздать панораму исторического
движения философских, моральных, правовых, художественных форм культуры в виде нелинейной
эволюции абсолютного духа. Развитие этого духа, а с ним и всей мировой цивилизации предстает у
Гегеля в виде «урока», который должен быть усвоен каждым отдельным человеком. А для этого
необходимо набраться терпения и выдержать всю длину этого пути, задерживаясь, при надобности, на
отдельных его ступенях, чтобы глубже вникнуть в их смыслы.
Такую возможность пройти весь путь развития философско-правовой мысли и за счет этого обогатить
свой дух и свое профессиональное сознание дает будущему юристу изучение философии права в ее
историческом и проблемно-теоретическом разделах.
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОГО ПОЗНАНИЯ КАК ДРАМА ИДЕЙ
Познавательное отношение человека к правовой реальности, имеющее вид накопления фактов и идей,
в действительности представляет собой приобретение все более адекватных представлений о
ценностях, потребностях, интересах, которыми руководствуются люди в практике правоотношений. В
философско-правовых учениях определенно воплотилась конструктивная роль общественного
сознания по упорядочению, оформлению стихийного социально-правового опыта в концептуальные
«организованные единства». В них правовая проблематика оказалась логически ре-

конструирована средствами философской рефлексии. Историческое накопление мыслительного
материала, расширение арсенала идей, развитие категориального аппарата позволяло с течением
времени осуществлять все более глубокий философский анализ правовых проблем.
Обращение к мыслительному материалу прошлого убеждает в том, что развитие философско-правовой
мысли — процесс сложный и крайне противоречивый. Предложенное когда-то А. Эйнштейном
определение истории науки как «драмы идей» в полной мере относится к философии права. Л. Толстой
же в своей «Исповеди» писал, что когда обращаешься к наукам, которые пытаются давать ответы на
вопросы, связанные с наиболее сложными проблемами бытия человека в природном и социальном
мире, то встречаешь «беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим
собою» '. Это заставляет предполагать, что, вероятно, наиболее адекватной формой, в которой могла
бы предстать история философско-правовой мысли, должна быть история философско-правовых
проблем.
Развитие философско-правового сознания непосредственно связано с общим ходом исторического
становления мировой цивилизации, с изменениями, происходившими внутри правовой реальности.
Формированию правовых цивилизаций сопутствовала смена концептуальных, объяснительных
моделей, стремящихся раскрыть смысл и суть совершавшихся процессов. Философ-ско-правовая
мысль, двигаясь тем же историческим путем, сама «взрослела», приобретала глубину, основательность
и авторитетность суждений. Этот процесс совершался не посредством «монологов одиноких
мыслителей». Чаще всего это были диалоги и даже «триалоги» и «полилоги» философов с их
идейными контрагентами. Сталкивались различные подходы к одним и тем же проблемам, разные
методы, системы аргументов, индивидуальные пристрастия и интересы. Внутри, казалось бы, плавной
динамики исторического развития философско-правовой мысли обнаруживались резкие полярности и
контрасты, несовместимые противоположности, глубокие расхождения мировоззренческих позиций,
превращавших весь процесс в многоактную интеллектуальную драму.
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО И ЮРИДИЧЕСКИЕ АРТЕФАКТЫ
Артефакты культуры
Ни одна эпоха в истории цивилизации, ни одно из поколений не обходилось без того, чтобы не
обращаться к философии и фи-
п н rv,fin гоч в 70-ти т Т. 16. М.. 1964, с. 113.

лософам в поисках ответов на свои насущные вопросы. При этом часто обнаруживалась удивительная
актуальность идей, высказанных в далеком прошлом.
Особым интересом к духовному опыту прошлого отличаются эпохи социального обновления.
Культурное наследие канувших в небытие поколений способно приходить на помощь в ситуациях
когнитивных тупиков. И даже в тех случаях, когда оно не дает прямых ответов и конкретных
рекомендаций по разрешению сложных духовно-практических проблем, оно обладает способностью
стимулировать интеллектуальные поиски и наводить на мысли, которые, явившись плодом
воссоединенной связи времен, просто не смогли бы родиться без этого воссоединения.
Прошлое имеед свойство говорить о настоящем, надо лишь уметь спрашивать. Более того, многие
ответы на запросы гуманитарной мысли часто рождаются именно на стыках прошлого с настоящим, и
новые гуманитарные идеи оказываются не чем иным, как особыми смысловыми связями между
классикой и «модерном». В сущности эти связи и являются тем скрепляющим началом, что превращает
историю философии права не в пеструю разноголосицу несовпадающих мнений, а в единый процесс
интеллектуального поиска, который ведет человечество с тех пор, как право стало одним из главных
атрибутов цивилизации.
Историческую судьбу философии права нельзя назвать безоблачной. Социальные катаклизмы
отражались на ней самым непосредственным образом. Но получалось так, что именно в эпохи, когда
прочность цивилизационных устоев испытывалась «на излом» и «на разрыв», рождались наиболее
значительные сюжеты философско-правовой мысли.
Об истории философии права можно говорить как о многоактной драме, где главными действующими
лицами стали право, мораль, религия, государство, власть, закон, справедливость, преступление и
наказание, а режиссером выступала чистая мысль, выстраивающая множество философских мизансцен,
позволяющих высвечивать разные смысловые, ценностные, нормативные грани бытия правовой
реальности.
Среди всего этого обращают на себя внимание основные философские мотивы, своего рода «вечные»,
«проклятые» вопросы философии права, повторяемость которых явилась отражением повторяемости
основных форм социальной жизни и постоянства ведущих устремлений мировой цивилизации:
сущность права и государства, противоречия отношений личности и государства, природа власти,
сущность справедливости, причины преступлений и многие другие.
Обращение современного цивилизованного сознания к фило-софско-правовому наследию прошлого
предполагает уяснение

ряда сложных методологических проблем, одна из которых связана с обнаружением в содержании
культуры относительно самостоятельных, целостных, устойчиво повторяющихся структурно-
содержательных элементов духовно-практического опыта, а также тех средств, которые связывают эти
элементы в единое целое.
Решение задачи такого рода требует ретроспективных погружений в исторические глубины
культурной памяти человечества, но здесь сразу же возникает методологическая сложность:
однонаправленность и необратимость временного потока не позволяет тем, кто пребывает в
настоящем, узреть прошедшее в его действительном, онтологически первозданном виде.
Единственное, на что может рассчитывать историческое правоведение, это на обращение к артефактам
культуры, в которых воплотилась, опредметилась игра сущностных сил человека и которые явились
своеобразным «удвоением» его социальной жизни.
В современной теории познания понятие артефакта используется для обозначения последствий
неверной методологии исследователя, результата его ошибки, принесшей искажения в картину сущего.
Но семантическая природа данного понятия гораздо шире такого толкования и позволяет использовать
его также в ином содержательно-смысловом и функциональном контексте для обозначения всех
вторичных, искусственных, появившихся при участии человека культурных фактов и форм.
Будучи одним из средств противостояния всеотрицающей силе времени, способом борьбы с
физической конечностью индивидуального существования, артефакты культуры давали социальным
субъектам возможность фиксировать, «закристаллизовывать» свои мысли и чувства, особенности
своего миропонимания и пра-вопонимания в образных, понятийных, знаково-символических формах.
Для исторического человека, стремящегося к самопознанию, подобное «самоудвоение» было
потребностью и необходимостью. Основным средством для этого служила культура, ее язык,
позволяющий фиксировать, кодировать и передавать нормативно-ценностную семантику бытия
правовой реальности последующим поколениям.
Юридический артефакт
Между витальным «Я» человека, не склонным оглядываться на себя, безразличным ко всему, что
прямо не касается его непосредственно-органических нужд, и социальным «Я», пристально
вглядывающимся в свои отношения с реалиями социальной жизни, пролегает отчетливая грань —
рефлексия. Как способность к сопоставлениям сущего с должным, кажущегося с действительным,
рефлексия позволяет использовать каждое обнаружившееся противоречие в качестве источника
развития и углубления правопо-нимания.

Именно в русле рефлексивной деятельности культурного сознания рождаются юридические
артефакты, являющиеся результатом облачения непосредственных социально-правовых противоречий
в знаково-символические формы мифологем, образов, идей и концептов. Чаще всего эти вторичные
формы оказываются абстрактнее и беднее стоящего за ними жизненного содержания, но это, однако, не
мешает им выступать в качестве достаточно эффективного средства освоения проблемных пространств
развивающейся правовой реальности.
Одним из важнейших условий развития цивилизации как самовоспроизводящейся системы является
функционирование механизмов долговременной памяти. Юридические артефакты представляют собой
один из компонентов этой памяти. Через них осуществляется трансисторическая передача социально-
правового опыта. В качестве устойчивых мнемонических структур они активно участвуют в деле
социализации новых поколений. Благодаря им традиционные, апробированные нормативно-
ценностные представления о должном вводятся в актуальную духовно-практическую жизнь общества.
Юридические артефакты, сосредоточенно фиксирующие то существенное, что лежит в основании
социально-правовой реальности, обнаруживают свою прочную привязанность в первую очередь к
проблемам межсубъектных правоотношений. Столкновения интересов, борьба воль и характеров,
взрывы страстей, конфликты позиций, противоборство кроющихся за всем этим различных тенденций
социального развития составляют действительную ткань того полотна, на котором история права
вышивает свой причудливый узор.
Социально-правовые противоречия, фиксируемые юридическими артефактами, бесконечно
разнообразны по своему характеру и содержанию. Одни из них достаточно четко локализованы в
социальном времени и пространстве, исторически скоротечны, другие же обладают универсальным
характером, проявляющимся в способности регулярно возрождаться и постоянно находиться в поле
самого пристального внимания каждого нового поколения.
Эпохальные переоценки ценностей, периодически совершающиеся во всех социокультурных системах,
неизменно накладывают свою печать на содержание юридических артефактов, заставляя их
испытывать значительные семантические «перегрузки», обусловленные смещениями и пересечениями
содержательных доминант политического, идеологического, этического, социально-философского и
сугубо правового характера. Подобно тому, как прозрачные кристаллы меняют свой цвет в
зависимости от цвета фона, юридические артефакты способны изменять свои

смысловые и нормативно-ценностные линии и фигуры от воздействия на них меняющегося социально-
исторического контекста. Каждая новая эпоха имеет свойство вкладывать в них свое, дополнительное к
уже имеющемуся социальное и культурное содержание, тем самым еще более повышая степень их
полисемантич-ности.
Если учитывать, что юридический факт — это целостность, выявленная эмпирико-теоретическим
путем и несущая в себе информацию о конкретных субъектно-субъектных отношениях внутри
правовой реальности, то юридический артефакт—это генетически вторичная культурная реалия,
информирующая о сущностных свойствах правоотношений посредством своих познавательно-
оценочных функций.
Познавательная функция юридического артефакта состоит в его способности выступать в качестве
опосредствующего звена внутренней саморефлексии права. С одной стороны, юридический артефакт
— это познавательная модель тех или иных социально-правовых противоречий, а с другой —
порождение продуктивной способности человеческого духа, результат активности его творческой
мысли, воображения, интуиции. Известная мера совпадения содержаний артефакта и стоящих за ним
реалий позволяет обращаться к нему как источнику информации об интересующих науку правовых
коллизиях ушедших в прошлое эпох.
Юридическая культурема
Наряду с юридическим артефактом как структурным звеном системы социально-правового опыта
важную роль играет юридическая культурема, являющаяся комплексом артефактов. Она представляет
собой многомерную ценностно-нормативную целостность, локализованную внутри определенного
смыслового поля. Будучи универсалией, сочетающей в себе конкретно-всеобщие черты с уникальными
особенностями, юридическая культурема представляет в своем содержании наиболее существенные
реалии правовой цивилизации. Как результат творческих усилий социальных субъектов, она являет
собой культурное новообразование, отличное от форм и структур натурального универсума.
Своеобразие структурно-содержательных параметров культу-ремы предопределяется не только
предметом моделирования, но и характером того духовного материала, которым располагает
культурное сознание. Мифологическое, религиозное, художественное, научно-теоретическое,
философское сознание по-разному воспроизводят правовые реалии. У каждого из них свои средства
изображения и моделирования, в чем-то сходные, а в чем-то заметно различающиеся между собой.
Одной из наиболее ранних по своему историческому происхождению культурем является миф. Задавая
нормативные образ-

цы социального поведения, формулируя представления о должном, описывая с помощью чрезвычайно
выразительных средств недолжное и запретное, миф выполнял свою регулятивную функцию, подводил
архаическое сознание к пониманию сути нормы и меры для человека и социума.
Процесс нахождения нормы-меры для каждого ряда сходных актов социальной деятельности
представлял собой сложную куль-туротворческую задачу, решаемую мифологическим сознанием.
Собственными усилиями оно закладывало ценностно-смысловые первоосновы для понимания
цивилизованности как царства меры и справедливости, где соразмерность частей в рамках целого
обязательна, а соотношения противоположностей должны строиться таким образом, чтобы не
разрушать, а укреплять человеческие сообщества.
Мифы не предполагали и не признавали никаких сомнений в правомерности своих предписаний и сами
были лишены способности к критической саморефлексии. Те традиции, обычаи, табу, прецеденты и
авторитеты, на которые они опирались, не подлежали проверкам на достоверность содержащихся в них
императивов.
С окончанием родовой эпохи и возникновением правовых цивилизаций мифы сохранили свою
духовно-практическую действенность, трансформировавшись в мифологемы—устойчивые, постоянно
воспроизводящиеся на коллективно-бессознательном уровне общественной психики нормативные
структуры, фиксирующие коренные противоречия человеческого существования.
В нормативно-ценностном основании мифологемы лежит комплекс представлений, чья архаическая
структура, претерпев множество культурно-исторических изменений, утратила тотальный характер и
локализовалась в пределах конкретной системы социальных смыслов. Мифологема является
миросозерцательной формой, которая не дает аутентичных образов мира, социума, культуры,
человеческой природы. Присущей ей упрощенностью описательных приемов, неразличением
видимости и сущности, антропоморфностью объяснительных моделей, пренебрежением отчетливыми
границами между субъектом и объектом мифологема напоминает продукты деятельности обыденного
сознания. Изображаемые ею реалии зачастую не похожи на себя. Это происходит еще и по той
причине, что выявляемые ею каузальные связи оказываются подчинены не только обычной логике, но
и пребывают во власти неких, не доступных человеческому разумению трансфизических начал. Данное
обстоятельство позволяет мифологемам выполнять свои, определенные функции в жизни человека и
общества, в ходе развития культуры и цивилизации. Гете утверждал, что сущее не делится на разум без
остатка. В со-

циально-правовом бытии человека одним из таких важных «остатков», оказывающимся за пределами
рационального осмысления и с трудом поддающимся вербально-логическому оформлению, является
коллективное и индивидуальное бессознательное. Куль-туремами, способными выносить этот
бессознательный «остаток» на поверхность духовной жизни человеческого рода, стали в древнем мире
мифы, а в условиях позднейших цивилизаций — мифологемы.
Все, что в природно-социальном континууме представлялось человеческому сознанию темным,
таинственным, непостижимым рациональными средствами, непереводимым на дискурсивный язык,
маркировалось посредством мифов и мифологем и благодаря этому обретало свое собственное место в
культуре.
Ф. И. Тютчев, утверждавший, что «мысль изреченная есть ложь», тем самым сформулировал веский
аргумент в защиту мифологем и их права на существование в контексте современной цивилизации.
Ведь именно в них оседал и концентрировался тот первоначальный социоморальный опыт, который, с
одной стороны, не торопился облекаться в рациональные языковые формы, поскольку не ожидал от
них ничего, кроме искажений важнейших сущностных смыслов человеческого бытия, а с другой — не
мог пребывать за пределами культуры в силу своей чрезвычайной значимости для судеб человека и
рода. Мифологемы позволяли не только заполнять смысловые «ниши», образовывавшиеся там, куда не
проникала рациональная логика рассудка, но и ощущать собственную причастность каждого человека
к тысячелетним заветам рода, к универсальным нормам и ценностям, на которых базируются
социальность и цивилизованность.
Особой культурно-исторической модификацией мифологемы является теологема. Ее своеобразие
состоит в том, что в ней каузально-смысловые объяснения морально-правовых проблем и
противоречий вводятся в контекст трансцендентной реальности и восходят к абсолюту Бога. От Бога,
как законодательного пер-вопринципа миропорядка, исходят все нормативные предписания, в том
числе нормы нравственности и естественного права.
Теологема Бога носит явно выраженный цивилизующий характер и направлена против любых попыток
разрушить этические основания социального порядка. Через нее человек чувствует собственную
причастность к гармонизирующим началам миропорядка и высшим нравственным смыслам бытия. Она
позволяет человеческому духу прикоснуться к метафизической вечности. При этом опосредующим
звеном между индивидуальным «Я» и трансцендентной реальностью выступает мир символов,
значительная часть которых представляет собой условно-обобщенные обозначения высших этических
и естественно-правовых смыслов. Сим-
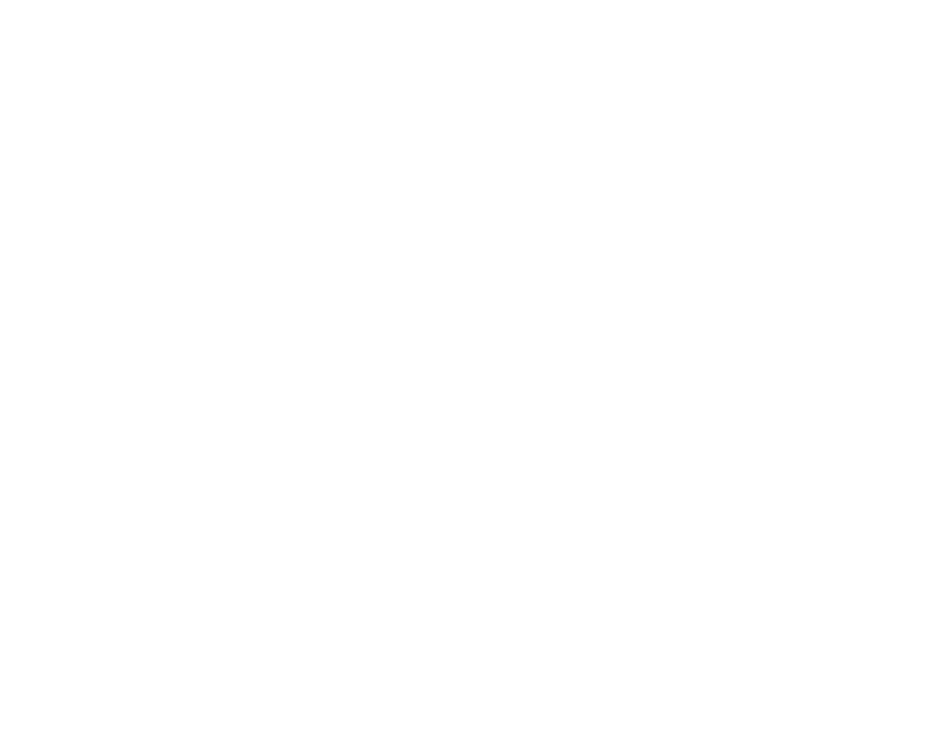
вол в качестве видимого знака идеальных сущностей, как устойчивая множественность культурных
значений, представляет абсолюты и идеалы в очевидных, доступных человеческому созерцанию
формах.
Важное место в системе культурем занимает имагиома (от англ, image — образ, изображение). В
отличие от художественного образа как единичной эстетической формы, имагиома — комплексная,
полиморфная художественная структура. Концентрируя в своем содержании богатый социальный
опыт, она выявляет из стихии общественной жизни существенные морально-правовые коллизии,
фиксирует их нормативно-ценностные структуры и тем самым открывает дополнительную
возможность для их философ-ско-правового осмысления.
Культурно-историческая традиция издавна воспринимает искусство как средство, позволяющее
компенсировать ограниченность исключительно рационального познания. Гуманитарное познание
предполагает активное использование художественной информации для выстраивания различных
теоретических и философских моделей морально-правовой реальности.
В пределах имагиомы морально-правовой опыт как бы сгущается, концентрируется, обретает вид
своеобразного ценностно-смыслового «микрокосма» с характерной структурой и внутренней
динамикой, обусловленной логикой развития помещенного в центр его содержания морально-
правового противоречия. Там, где конкретному творцу такого «микрокосма» удается достаточно
основательно воссоздать эту логику при помощи соответствующих художественно-эстетических
средств, вся система образных средств неизменно обнаруживает свою нормативно-ценностную
ориентированность уже не только на сущее, но и на должное, а значит и собственную включенность в
процесс утверждения соответствующих нравственно-правовых императивов и идеалов.
В нормативно-ценностной структуре имагиомы обнаруживаются несколько содержательных уровней:
1) универсальные нравственные идеалы и естественно-правовые принципы, в которых представлены
всеобщие интересы человеческого рода;
2) конкретно-исторические моральные и позитивно-правовые нормативы тех общностей, к которым
принадлежит художник и которые прямо или исподволь воздействуют на его творчество;
3) особенности творческого сознания художника, обнаруживающиеся в его способности привлечь
разнообразные изобразительные средства для воссоздания и осмысления описываемых морально-
правовых коллизий;
4) сюжетно-содержательная ткань произведения с теми морально-правовыми противоречиями, в
средоточии которых существуют персонажи.
