Бачинин В.А. Философия права и преступления
Подождите немного. Документ загружается.


избежным и невольным участием в юриспруденции повседневной жизни. Он точно знал все права и
преимущества своего status civitatis, своего звания римского гражданина. И он не только не
отказывался от них, но, напротив, очень умело ими пользовался, предотвращая с их помощью
опасность, угрожавшую его пропаганде и его личной неприкосновенности, и не упускал даже случая
подчеркнуть, что он пользуется не только правами, но и преимуществами. «Темничный страж
объявил... Павлу: воеводы прислали отпустить вас: итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел
сказал им: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно
выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали сии слова
воеводам, и те испугались, услышав, что это Римские граждане. И, пришедши, извинились перед ними
и, выведши, просили удалиться из города» (Деян. XVI, 36—39). «Когда растянули его ремнями, Павел
сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да без суда?.. Тогда
тысяченачаль-ник, подошедши к нему, сказал- скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да.
Тысяченачальник ответствовал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и
родился в нем» (XXII, 25—28). Апостол не пропускал без протеста процессуальных нарушений.
Первосвященнику Анании он сказал: «ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь
бить меня» (XXIII, 3). Он затеял пререкания о подсудности, отвел иудейский суд как некомпетентный
и требовал суда Кесарева: «я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму... требую
суда Кесарева» (XXV, 10, 11). Он «свободно защищал» свое дело перед правителем Феликсом, сказав
ему предварительно комплимент по поводу того, что он «многие годы справедливо» судит народ
(XXIV, 10), хотя этот же самый Феликс был взяточником и «надеялся, что Павел даст ему денег»
(XXIV, 26). Царю Агриппе апостол тоже сказал комплимент: «Царь Агриппа! Почитаю себя
счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня Иудеи» (XXVI,
2). Во всем этом чувствуется какая-то новая тактика в сравнении с евангельской, большее знание
невозможности обойтись совсем без сложившихся учреждений и отношений для того, чтобы двинуть
вперед дело христианства и в связи с этим повлиять на переустройство также и этих учреждений и
отношений.
А что ап. Павел стремится к такому переустройству, это видно из его философии права. Она построена
на признании необ-
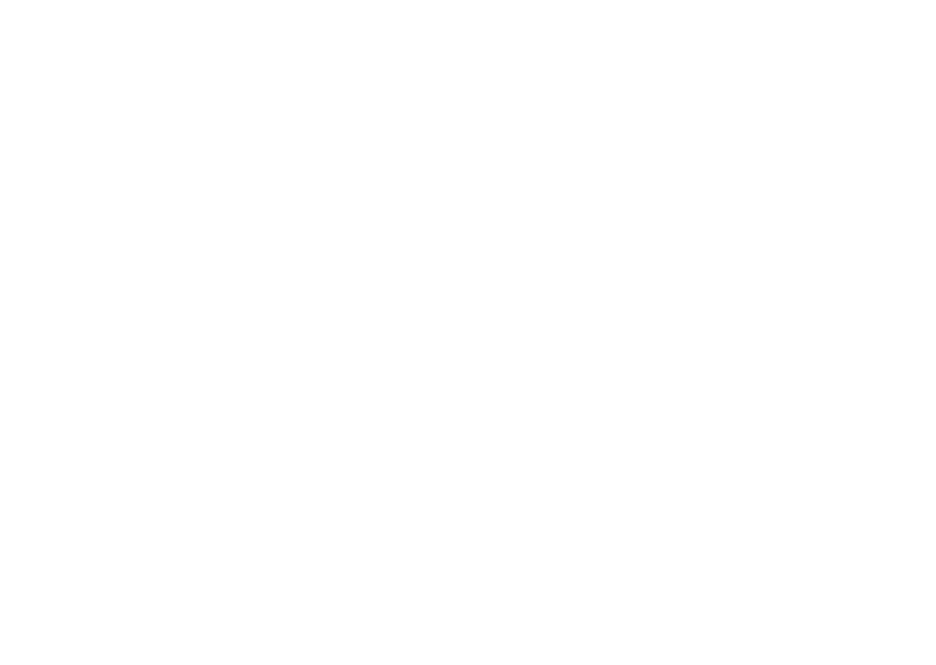
ходимости преодолеть как иудейскую юстицию, построенную на Моисеевом законе, так и юстицию
языческую, вдвойне внешнюю — и по составу судей, и по характеру применяемой справедливости.
«Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников,
развратных и оскверненных, для отцеубийц, матереубийц, человекоубийц, для блудников,
мужеложников, скотоложников, человекохищников, лжецов, клятвопреступников, и для всего, что
противно здравому учению» (1Тимоф. 1,9, 19)...
...Как Христос пришел в физический мир, прошел через него, не погряз в нем и преодолел его, так и
христианин, живя в мире правоотношений, не должен чересчур к ним привязываться и своим
поведением обязан преодолеть необходимость государственной юстиции со всеми ее специальными
методами решения споров, вынесения приговоров и установления процессуальной
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
1. В правовой системе, складывающейся на основе христианских религиозно-этнических предпосылок,
свод законов выступает как развитие и конкретизация абсолютных по своему нормативно-ценностному
статусу императивов, исходящих от Бога.
2. Основная цель христианского естественного права заключается в том, чтобы утвердить, закрепить и
неустанно проводить в жизнь строжайшую иерархию норм и ценностей социального бытия. В этой
иерархии на высшей ступени находится служение благу и справедливости, в которых с максимальной
полнотой воплощена воля Бога. Что же касается ценностей материально-прагматического характера, то
они находятся в самом низу христианской вертикальной шкалы ценностей. Лишь по мере того, как в
них уменьшается доля эгоистической ориентированности и нарастает элемент ориентированности на
то, чтобы подчинить их сверхчувственным началам, они начинают перемещаться вверх.
3. Если законопослушное поведение рассматривается как богоугодное, то деликты и преступления
оцениваются как грехи, то есть как акции, идущие вразрез с Божественными заповедями и отвечающие
коварным замыслам «противобога» — дьявола.
4. Христианское правосудие предполагает, кроме чувственно осязаемых наказаний за преступления,
еще и ряд сверхчувствен-
1
СпекторааЛ Е. В. Христианство и культура.— В кн.: Русская философия права: философия веры и нравственности.
Антология СПб , 1997, с. 345—347.

ных кар прижизненного и посмертного воздаяния (отлучение от церкви, лишение права на захоронение
по христианскому обряду, угроза Страшного суда и вечных мук в аду).
5. Субъекты судопроизводства могут одновременно являться церковными иерархами и придавать
судебному процессу вид священного ритуала. Рассматривая нормы права как юридические
модификации религиозных заповедей, они судят обвиняемого как дважды виновного — перед людьми
и перед Богом. Это сообщает обвинительному заключению жесткий и безапелляционный характер
предельно сурового приговора.
6. Христианское правосознание, чьи нормативно-ценностные структуры опираются на систему
религиозно-этических абсолютов, не допускает в свой внутренний мир, в свою иерархию критериев и
оценок даже возможности скепсиса и сомнений. Оно, как правило, категорично, ригористично, чуждо
самокритики.
7. Христианское правосознание в его идеальном виде непременно теократично. Для него наилучшая
форма социального устройства — это государство, признающее духовный приоритет церкви над собой
и подчиняющее всю свою практическую деятельность исходящим от нее императивам.
ХРИСТИАНСКАЯ ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА В УЧЕНИЯХ «ОТЦОВ ЦЕРКВИ»
Религиозно-философские и этико-правовые идеи Нового Завета оказали определяющее влияние на
формирование христианской философии естественного права. Сложившаяся поначалу в самых общих
чертах в учениях «отцов церкви» — Квинта Тертул-лиана, Аврелия Августина, Фомы Аквинского, она
в последующие столетия была развернута во всем богатстве идей и полноте аргументации в
сочинениях европейских мыслителей Нового времени.
Для Тертуллиана, жившего во II—III вв., когда Римская империя была могущественным государством,
а языческая идеология — влиятельной духовной силой, важнейшая задача заключалась в том, чтобы
создать твердые религиозно-философские основания для христианских концепций общества и
государства, морали и права. Греко-римский рационализм был для него совершенно неприемлем.
Базисом нового миросозерцания могла быть только вера. В этом отношении чрезвычайно характерно
то, как Тертул-лиан предлагал толковать евангельскую историю жизни, смерти и воскресения Иисуса
Христа. Он утверждал, что ее не следует анализировать средствами разума и логики. В происшедшее с
Христом надо безоглядно веровать. С позиций разума в этой ис-

тории можно обнаружить много нелепого и даже абсурдного. Но это лишь доказывает ограниченность
человеческого рассудка. «Сын Божий был распят; не стыдимся этого, потому что это постыдно. Сын
Божий умер — вполне верим этому, потому что это нелепо. И погребенный воскрес; это верно, потому
что это невозможно». Отсюда следовал вывод Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно».
Для другого «отца церкви», Августина, мир, в котором был распят Христос, — это обитель зла,
пороков и преступлений. Земной порядок светских государств подвержен воздействию темных,
демонических сил. Чтобы обезопасить людей от этого воздействия, необходимо социальную жизнь
освятить идеями высшей, Божественной справедливости. Идеальный правопорядок не сможет
установиться сам собой. Его основанием должен стать страх Божий. Бог, грозя людям наказанием-
возмездием, помогает им удерживаться на краю бездны зла. Но далеко не всегда это дает желаемые
результаты. В земных государствах насилие властвует над добродетелью, превращая их в подобие
разбойничих вертепов. Особенно много примеров попирания справедливости и закона в городах.
Только любовь к Богу, творцу вечного Закона для всего сущего, источнику норм морали и права,
способна вырвать людей из рук дьявола, из власти беззакония, из плена порока и несправедливости.
Эта мысль красной нитью проходит сквозь все философ-ско-теологические труды Августина. Она же,
подобно эстафете, перешла к Фоме Аквинскому, крупнейшему мыслителю средневековья, обретя в его
трудах дополнительную морально-правовую окрашенность. Для него, как и для Тертуллиана и
Августина, Бог является центром мироздания, главным хранителем мирового и социального порядка.
Бог выступал в качестве законодательного первоначала, от которого исходят все религиозные,
нравственные и правовые нормы. Благодаря Божественному покровительству социальная жизнь людей
не превращалась в хаос, а сам человек успешно боролся с дьявольскими искушениями, толкавшими его
к порокам и преступлениям.
Фома Аквинский выделял среди многообразия законов, правящих миром и людьми, естественный
закон или естественное право. Человеку присущи данные от рождения свойства, стремления и
определенные нормы, правила, пределы, вводящие его стремления и действия в рамки. В душе и
разуме человек носит представление об этих ограничениях, которые помогают ему не ошибаться в
выборе между добром и злом. Врожденные наклонности

заставляют людей стремиться к общежитию, любви, продолжению рода, справедливости, познанию
Бога. Совпадая с повелениями, идущими от Бога, и требованиями разума, они обретают для человека
силу естественного закона.
РЕНЕССАНСНО-БАРОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ХРИСТИАНСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
Европейское культурное сознание, прошедшее школу платонизма и христианства, твердо уверилось в
том, что, кроме физической реальности, существует еще и реальность метафизическая и что реалии
метафизического характера нельзя увидеть земными очами. Но вместе с тем оно знало, что их можно
сделать предметом умственного созерцания, обозначив словом, знаком, изображением. Так возникали
культурные символы, состоявшие из двух основных компонентов, один из которых, смысловой, был
как бы погружен в метафизическую реальность и потому невидим, а второй выступал доступным для
непосредственного, чувственного восприятия.
Среди многообразия символов в христианском сознании ведущее место занимают символы Бога и
дьявола, за которыми стоят главные сверхприродные силы, творящая и разрушающая. В целом же в
мировой драме участвуют три главных действующих лица — Бог, дьявол и человек и у каждого из них
своя, особая роль. Бог зовет человека ввысь, дает ему силы устремляться к возвышенным идеалам.
Дьявол подталкивает к зияющей бездне зла, пороков, преступлений, нравственной гибели. Но,
несмотря на свою абсолютность, эти метафизические сверхсилы позволяют человеку иметь свободную
волю. И в этом обладании свободной волей состоит абсолютность человеческого существа. Таким
образом в христианской культуре три абсолютные величины ведут между собой триалог, который
обнаруживается в нескольких вариантах. Первый — это когда все три голоса звучат внутри одного
субъекта, принимая вид противоречащих друг другу мотивов. Второй — когда партии абсолютов
распределяются между разными человеческими субъектами, каждый из которых отстаивает только
какую-то одну из трех позиций.
У данного триалога имеется еще и культурно-историческое измерение. За каждым из трех абсолютов
просматривается определенная тенденция, ставящая на первое место одно из них и защищающая его
право на доминирование. Так возникают т е о-

дицея (оправдание Бога), дьявол од ицея (оправдание дьявола) и антроподицея (оправдание человека).
Каждая из них имеет статус культурно-исторической парадигмы, в каждой присутствует мощный
императивный, нормативно-ценностный заряд, обусловленный давлением сосредоточенных в их
содержании массивов метафизического, социально-исторического, религиозно-этического опыта,
воздействующего как на сознание, так и на подсознательные уровни человеческой психики.
РЕНЕССАНСНЫЙ АНТРОПОЦЕНТРИЗМ КАК АПОЛОГИЯ СВОБОДЫ
Ренессансом, или Возрождением, именуется эпоха европейской истории, приходящаяся на XIV—XVI
века. Это был период, когда совершался переход от феодального средневековья к современному типу
западной цивилизации, происходила смена типов культуры, систем ценностей и форм миросозерцания.
К. Ясперс утверждал, что сущность Ренессанса, где бы он ни заявлял о себе, состоит в том, что в
культуре возникает воспоминание о возможностях и ценностях «осевого времени» и желание,
потребность в их возрождении. Новообразующаяся цивилизация как бы пытается припасть к своим
истокам, приобщиться к ценностям «осевого времени» и в итоге получает мощный творческий импульс
для своего дальнейшего развития.
Ренессанс — переходная и потому чрезвычайно противоречивая эпоха, когда совершался целый ряд
радикальных социокультурных метаморфоз в европейском нормативно-ценностном сознании.
Во-первых, изменилась модель мироздания. Средневековая картина конечной Вселенной сменяется
умозрительной моделью бесконечного Космоса. Возникает идея самодвижения космической материи, в
результате которой исчезает необходимость в Боге как перводвигателе и первоисточнике миропорядка,
поскольку все движется и без него. Традиционный образ космического и социального порядка, за
которым надзирал Верховный судья и Миро-держец, сменяется картиной Вселенной как темной
бездны, служащей грандиозным вместилищем небесных тел.
Во-вторых, происходит смена моделей культуры. После удаления Бога из центра миропорядка на
освободившееся место человек ставит самого себя, присваивая себе функции хозяина в огромной
вселенской мастерской. Вместе с «обезбоживанием», «разволшебствлением» (М. Вебер) мира
происходит рационализация мышления, когда уже не вера, а разум («рацио») становится

главным средством ориентации среди норм и ценностей окружающей действительности.
Традиционные мифологемы и теологе-мы постепенно вытесняются естественнонаучными
знаниями. Священное писание утрачивает значительную долю своего прежнего авторитета. Зато
возрастает авторитет науки, эмпирического и экспериментального знания. Геоцентрическая
модель культуры уступает место антропоцентрической модели.
В-третьих, появляется новый социокультурный тип личности. На смену средневековому человеку
приходит ренессансная личность с явно выраженными и к тому же резко усилившимися
трансгрессивными наклонностями. Это человек, который рвется к неизведанному и запретному.
Он — отважный честолюбец и авантюрист, рассчитывающий только на себя и на фортуну.
Новатор, исследователь, мореплаватель, землепроходец, он проявляет во всех своих предприятиях
необычайную энергию и изобретательность. Вместо христианского смирения он демонстрирует
неодолимую гордыню, а вместо самоотверженного и преданного служения Богу — дерзкие
порывы к освоению и покорению мира. Регулярным христианским размышлениям о смерти он
предпочитает жизнелюбие во всех возможных видах. Смысл жизни он видит не в служении
религиозным святыням, а в самореализации своих задатков и в самоутверждении своего «Я».
В-четвертых, открывается новое социальное пространство свободы. Развитию товарно-денежных
отношений сопутствует распад феодальных структур, всей прежней системы замкнутых
натуральных хозяйств. У индивидов появляются значительные возможности в свободе выбора
занятий и в социальном самоопределении.
Ренессансный антропоцентризм опирается на следующие постулаты:
1) человек совершенен, ни в чем не уступает развенчанному Богу, являясь «красой Вселенной,
венцом всего живущего»;
2) поскольку человек совершенен, ему следует все свои силы направить на освоение,
преобразование, совершенствование мира;
3) беспредельные возможности человека как единственного во Вселенной разумного существа и
бесконечные возможности совершенствования мира открывают перспективу бесконечного
прогресса.
Осуществление «теомахии» (убийства Бога), превращение картины мироздания в метафизический
«натюрморт», а точнее «тео-морт», где вместо мертвой природы был изображен мертвый Бог,
позволило восстановить в правах античный тезис Протагора о

человеке как мере всех вещей. Вместе с тем антропоцентризм, выступивший в маске гуманизма, не
замедлил обнаружить свою двойственность: наряду с апологией человеческого достоинства и
беспредельной свободы он нес в себе зерна имморализма и мифологии иллюзорного всемогущества
человека.
Обнаружив в себе духовные и энергетические резервы, пребывавшие дотоле в невостребованном виде,
и упорствуя в иллюзии собственного величия, человек видел себя в роли преобразователя социальной
реальности и творца истории. Его не слишком прельщала открывшаяся вместе с невиданной дотоле
духовной свободой возможность творить из себя нравственно совершенное существо. Совсем
напротив, раздвинувшиеся нормативные рамки, расширившееся пространство свободы открыли
простор для распространения авантюрно-криминальных умонастроений.
Ренессансный человек, вставший на путь самообоготворения, вообразивший себя стоящим выше всего
сущего, сознающий себя не частицей мироздания, обязанной существовать по его законам, а хозяином,
который никому не подотчетен, почел себя за меру всех вещей, при этом он как бы забыл о своем
свойстве постоянно увлекаться и нарушать меру, о том, что чрезмерность во всем — одна из основных
особенностей его негармоничной, «фаустовской» души. Он оказался обуреваем интеллектуальной
гордыней, которая в прежней, теоцентрической модели мира и культуры занимала первое место в
иерархии из семи смертных грехов. Теперь же грех превратился в доблесть. А доблестью стало
именоваться высокомерное пренебрежение высшими, абсолютными запретами и дерзкое своеволие,
оправдывающее все, что угодно, даже преступления. То, что прежде казалось незыблемым и
непреложным, становится сомнительным. Исчезают абсолютные критерии нравственных оценок,
воцаряется шаткость в представлениях о добре и зле, утрачивается понимание истинного
человеческого предназначения.
ТЕОДИЦЕЯ БАРОККО КАК АПОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Религиозно-этической посылкой культуры Барокко явилась убежденность в необходимости спасать
постренессансного человека от самого себя, от сил зла, вырвавшихся из темных глубин его
собственной природы. Для этого необходимо было восстановить вытесненную ренессансным
антропоцентризмом теоцентри-ческую картину мира с ее абсолютными нравственными требованиями
к человеку.

К XVII веку умонастроения, утверждавшие свободу человека-титана от власти сверхфизических сил,
стали оборачиваться, с одной стороны, чувствами метафизического одиночества и покинутости, а с
другой — угрозой распространения беспредельного имморализма. На фоне изгнания Бога и
утвердившейся антроподицеи мир людей грозил превратиться в страшное подобие картин И. Босха, в
темное вселенское «подполье», где всевозможная нечисть, прежде страшившаяся гнева Божьего,
теперь осмелела, повыползала из всех щелей и заполонила мир.
Барочное сознание XVII в. не приняло ни обезбоженного мира, ни суетного, имморального человека-
рационалиста, в чьей душе не находилось места для Бога. Культура Барокко с философско-этическими
исканиями Паскаля, Беме и Лейбница, живописью Рембрандта и Эль Греко, поэзией Кальдерона,
музыкой Баха устремилась ввысь, и этот порыв был тем энергичнее, чем настойчивее утверждала себя
новая эпоха с ее рационализмом, эмпиризмом и прагматизмом. В барочной культуре потому и
обнаружилось так много внутреннего напряжения, что теоцентрическую картину мира можно было
удержать на авансцене социальной жизни только энергичными духовными усилиями.
Культура Барокко создала нормативно-ценностное пространство, где не было равновесия и
соразмерности, а преобладали драматические эффекты, где противоречиям и дисгармониям никак не
удавалось разрешиться в умиротворенную гармонию, где все было полно контрастов, борьбы, страстей
и страданий. В живописных и архитектурных композициях прежний ренессансный круг, символ
гармонии, стал вытягиваться в эллипс как образ напряженной, динамичной, преодолевающей
сопротивление силы. Статичные, исполненные достоинства скульптурные и живописные фигуры
мастеров Возрождения стали уступать место лицам, озаренным мистическими восторгами, и телам в
резких ракурсах, с причудливыми изгибами и жестами.
Барокко примечательно тем, что попыталось актуализировать духовный опыт, накопленный
предыдущими столетиями развития средневековой христианской культуры. По существу, Барокко —
это тоже возрождение. Но оно стремилось возродить не античные каноны, идеи и принципы, как
Ренессанс, а более близкий по времени религиозный опыт средних веков. И не просто возродить, а
синтезировать средневековый теоцентризм с ренессанснои концепцией свободы и достоинства
человека.
Эпоха Возрождения поспешила оттолкнуться от многих средневековых идей и традиций.
Многовековая работа христианско-

го духа, подспудно копившего энергию и ждавшего, что в новых культурно-исторических условиях
будут востребованы результаты его трудов, не нашла себе достойного и полномасштабного
применения в ренессансной культуре. А между тем, в великом тысячелетнем молчании средних веков
европейский дух копил силы не только для «Божественной комедии» Данте, но и для открытий
Галилея и Коперника
1
, а также для нововременных теорий естественного права.
Барокко оказалось пронизано мощным порывом устремлений, направленных на то, чтобы вернуть Бога
не только в центр картины мира, но и в опустошенное человеческое сердце. Этому были посвящены
барочные теодицеи мыслителей и художников, пронизанные пониманием того, что
«разволшебствленная» реальность не способна служить живительным источником нравственности и
права.
Б. Паскаль в своей страстной теодицее сформулировал парадоксальную мысль о том, что агония
Христа будет длиться вечно и человеку зсе это время нельзя спать, а надо будет бодрствовать. В этом
утверждении присутствует мысль о вечной природе Барокко, о том, что оно никогда не исчезнет, а
будет регулярно, с известной периодичностью возрождаться в культуре. Ставшее возрождением
традиций средневекового теоцентризма, Барокко означало пробуждение души от сна. Императив
«нельзя спать» значил запрет на духовную спячку. Духу претит бесчувствие, он обязан всегда
бодрствовать. Для него существует особая, достойная его высокой природы форма бодрствования, —
это готовность нести в себе память о высшем мире, хранить веру в главное -Бога и бессмертие души.
Сон души способен рождать чудовищ, еще более страшных, чем сон разума. Л. Шестов писал о том,
что когда апостол Петр трижды отрекся от подвергшегося опасности Христа, это свидетельствовало о
том, что душа его тогда еще спала. Запрет Паскаля на сон души — это попытка поставить запрет на
пути зла. Бодрствующий разум при спящей душе способен не только предать Христа, но и посягнуть
на верховный авторитет Бога-творца. Отсюда категоричность требования Паскаля и страстность
пафоса барочной теодицеи.
Сформулируем основные религиозно-философские посылки барочной теодицеи, из которых вырастут
нововременные концепции естественного права.
1
См: Розанов В Сочинения. М , 1990, с 439
