Бачинин В.А. Философия права и преступления
Подождите немного. Документ загружается.


тия морально-правовых противоречий, лежащих в основании наиболее распространенных конфликтов,
позволит с достаточной степенью достоверности прогнозировать логику их развертывания и
возможных разрешений, предсказывать осуществление тех или иных возможностей, заключенных в
них, то есть строить вероятностные модели происходящего. Без сомнения, практика нуждается в этом.
И если теоретики не в силах предупредить большинство конфликтов, то они в состоянии
прогнозировать их развитие и тем самым давать субъектам дополнительную возможность по
предварительному принятию мер против неблагоприятных последствий конфликтных ситуаций.
'
.
•
"
.
'

ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ
Существует совершенно очевидная теоретическая целесообразность выделения двух ипостасей
правосознания — естественно-правовой и позитивно-правовой. Она позволяет сгладить остроту
многих научных споров и ликвидировать ряд недоразумений, возникающих исключительно на
почве отсутствия такого разграничения.
Важнейшей чертой естественного права является его универсальная нормативность,
проявляющаяся в предписательной, дол-женствовательной, императивной форме его суждений.
Эта универсальная предписательность носит безлично-авторитарный характер.
Нормы естественного права, имея максимально широкое, универсальное значение, адресованы ко
всем, без исключения, правоспособным субъектам и призывают следовать сформулированным в
них предписаниям, потому что те отвечают требованиям высшей, абсолютной справедливости.
Эти требования категоричны в том смысле, что не оставляют возможности для сомнений и
колебаний. Они гарантируют индивидуальному правосознанию высшую правоту, если его
обладатель будет действовать в должном направлении.
Повеления естественно-правовых императивов далеко не всегда соответствуют житейским
интересам, конъюнктурным соображениям социальных субъектов. Между теми и другими
постоянно возникают различные противоречия. Эмпирическая действительность чаще всего с
большим трудом находит общие точки соприкосновения и пункты обоюдного согласия между
своими потребностями и требованиями высшей справедливости. На почве этих расхождений
возникают практические и духовные коллизии, составляющие содержание мировой религиозно-
этической и фило-софско-правовой мысли на протяжении вот уже двух с половиной тысячелетий:

Естественно-правовое сознание мыслит нормативными категориями долженствования: «человек (я, ты,
он) должен поступать таким-то образом». Фокусируя в суждениях такого рода требования некой
сверхличной воли, ориентированной на организацию, укрепление и поддержание твердого социального
порядка, естественное право ждет от адресатов ответных волевых усилий по исполнению
сформулированных предписаний. Если естественно-правовое требование универсально, то ответные
формы субъективных реагирований на него бесконечно разнообразны по характеру, содержанию,
степени адекватности. То есть возможно множество типов отношений между всеобщим императивом и
конкретной формой его практического воплощения. Более того, между этими эмпирическими формами
возможны столь значительные различия и расхождения, что это способно затруднить взаимопонимание
социальными субъектами друг друга и послужить основанием для возникновения проблемы
относительности правовых требований, а следовательно, сомнений в их всеобщности и обязательности.
Естественное право оценивает соблюдение субъектами своих предписаний как социальное благо, а
нарушения их — как социальное зло. При этом сами эти оценки уже в своем собственном содержании
несут регулятивный потенциал. Одобряющие и осуждающие суждения отнюдь не индифферентны, а
насыщенны значительной эмоциональной энергией, подвигающей индивидов на те или иные действия
и поступки.
В естественно-правовой норме универсальная императивность всегда сфокусирована таким образом,
что она не «растекается» по социальному пространству, а устремляется со всей своей силой,
максимальной энергией в каждую конкретную социальную точку, где пребывает субъект — носитель
индивидуального естественно-правового сознания. Это, во-первых, сообщает субъекту ощущение
непосредственной обращенности универсального императива к нему лично. Во-вторых, возникающий
эффект «фокусировки» существенно повышает энергетический потенциал естественно-правовой
нормы.
Естественно-правовые императивы имеют сверхличный характер. Но их сверхличность не носит явно
выраженного социогенного характера, как, например, в нормах позитивного права со стоящим за ними
надличным авторитетом государства. Она сверх-физична, метафизична, то есть апеллирует к высшим
первоначалам бытия и в них черпает уверенность в собственной правоте, в необходимости ее
отстаивать, а также энергию и волю для соответствующих усилий.

АБСОЛЮТНЫЙ ХАРАКТЕР НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
Нормы и принципы естественного права носят абсолютный характер. Среди огромного множества
изменчивых и относительных ценностей и норм они указывают на незыблемые запреты и
безусловные ценности. Своим существованием они подтверждают ту истину, что человек не
может жить в мире, где все относительно и опираться лишь на договорные, то есть
сформулированные самими людьми основания. Договоренности могут быть самыми разными и
способны соответствовать бесчисленному множеству критериев. На этом строятся системы
позитивного права, но не естественного.
Естественное право заимствует принцип абсолютности из сфер религии и нравственности, с
которыми оно тесно связано и которые издавна культивируют область духовно-практических
отношений человека с абсолютными ценностями и нормами. Если в традиционном, античном и
средневековом обществе религия воздействовала на правовую систему непосредственно, то в
Новое время ее воздействие на естественное право становится, по преимуществу,
опосредованным, осуществляющимся через нравственные нормы и через философско-этические
учения.
Когда естественно-правовым императивам сообщается абсолютный характер, это означает, что
они обретают совершенно особое качество: они перестают нуждаться в доказательствах и
становятся неопровержимыми. Для человеческого существа, податливого искушениям,
неустойчивого в своих пристрастиях, абсолютные требования и запреты являются надежным
подспорьем в борьбе с худшим в себе. Если какой-либо запрет относителен, то его легко можно
отбросить с помощью известного довода: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Если же
запрет абсолютен, то логика рассуждения меняется и начинает напоминать древние табу: «Если
нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя».
Систему абсолютных естественно-правовых ценностей, таких, как жизнь, личность, свобода,
достоинство, венчает сверх-абсо-лют — Бог. Именно он придает всем остальным ценностям
абсолютный характер. Без него они утрачивают свою абсолютность и становятся относительными,
а значит беззащитными перед посягательствами любых социальных субъектов от индивида до
государства.
Ценности естественного права, опирающиеся на принцип абсолютности, не зависят от изменений
социально-исторических УСЛОВИЙ и не подлежат девальвации. Они не являются продуктом

воли государства, не декретируются его распоряжениями и стоят выше его сиюминутных интересов и
нужд. Поэтому они способны выступать в роли ценностных критериев правотворческой деятельности
законодателей разных государств в разные исторические периоды.
ПРИНЦИП НЕОТЪЕМЛЕМОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Идея неотъемлемости или неотчуждаемости естественных прав человека имеет глубокие
антропологические основания. Ее формулировка является логическим следствием констатации того
фундаментального обстоятельства, что у человеческого существа имеются коренные потребности и
интересы, без удовлетворения которых его жизнь в качестве человека и, тем более, социального,
цивилизованного субъекта просто невозможна. Мировые религии, нравственные системы, а позднее и
системы правовых норм все глубже проникались мыслями о необходимости защищать и отстаивать
права человека на жизнь, свободу, собственность, личное достоинство. Появлялись разнообразные
формы и способы аргументации в пользу этих прав и их неотъемлемости — идеи их богоданности,
прирожденное™, наивысшей целесообразности и др. И большинство из них были нацелены в одном
направлении -доказать государству, что не оно дарует их человеку, а значит и посягать на них и, тем
более, отнимать их у человека оно не имеет права. Если же" государство оказывалось способным грубо
попирать естественные права законопослушных граждан, становилась вполне нравственно
оправданной борьба граждан с государством за восстановление этих прав.
Дж. Локк, один из крупнейших европейских теоретиков естественного права, заложил в основание
идеи конституционного правопорядка «тройственную формулу» гражданских прав личности, куда он
включил права человека на жизнь, свободу и собственность. При этом первое по значимости место он
отвел праву на собственность, утверждая, что оно священно. По мнению Дж. Локка, даже генерал,
который может приговорить солдата к смерти за неповиновение самым безрассудным приказам, не
может, при всей своей абсолютной власти, присвоить хотя бы фартинг из его имущества. Максимализм
такого рода при отстаивании принципа неотъемлемости естественных прав человека был совершенно
необходим на социальном фоне нараставшей мощи централизо-

Поскольку государство в его традиционных формах, которые еще не позволяли ему именоваться
правовым, выступало, как правило, противником парадигмы естественного права, возникали
сложные социокультурные и морально-правовые коллизии. В этих условиях принцип
неотъемлемости естественных прав человека вносил ограничительное начало в деятельность
государства, очерчивал нормативные границы в отношениях государства и личности. Он твердо и
ясно формулировал, что безусловно и при любых обстоятельствах:
а) позволено человеку, то есть на что он всегда может рассчитывать;
б) запрещено властям, то есть что власть никогда не может себе позволить в отношении
законопослушного гражданина.
При этом слабая сторона наделялась юридическими правами и свободами, а на сильную сторону
накладывались юридические ограничения.
Но действительным разрешением этого противоречия могло бы стать такое положение дел, при
котором государство и личность оказались бы союзниками, а не соперничающими сторонами, —
присвоение государством себе роли защитника и гаранта действительной неотъемлемости
естественных прав человека. Для этого традиционное, доправовое государство должно было
превратиться в государство правовое.
ЦЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
ЖИЗНЬ
Человек остро ощущает и сознает ценность жизни из-за того, что она конечна и неразрывно
связана с неизбежностью смерти. Органические изменения, происходящие с индивидом на
протяжении всего его физического существования и составляющие естественное содержание его
жизни, с необходимостью ведут к такой итоговой метаморфозе, в результате которой утрачивается
способность чувствовать, мыслить, действовать. Угроза перестать существовать как организм,
социальный субъект и духовное существо заставляет человека ценить время своего земного
существования, дорожить им.
Смерть — такая же объективная онтологическая реалия, как и жизнь. Однонаправленность и
необратимость естественных изменений подводят в конечном счете живое существо к
самоотрицанию и небытию. Всему, что носит витально-органический характер, свойственно
стремление к снятию внутренней напряженности жизненных противоречий и возврату в
неорганическое со-

стояние. Это бессознательное «влечение к смерти» всего живого напоминает ток реки, стремящейся в
своем движении по руслу к устью, где она, влившись в море или океан, исчезает, перестает
существовать в своем особенном качестве реки.
Отношение личности к противоречию между жизнью и смертью по-разному проявляется на
рациональном и эмоционально-чувственном уровнях. С одной стороны, здесь имеет место почерпнутое
из сферы социального опыта трезвое понимание человеком временности земной жизни и неизбежности
собственного физического исчезновения. Достаточно ему вспомнить известный со времен Аристотеля
силлогизм «Все люди смертны. Сократ — человек. Следовательно, Сократ смертен» и поставить
вместо имени Сократа свое собственное имя, чтобы убедиться в логической непреложности этого
горького умозаключения, доказывающего всеобщий характер естественной необходимости, не
признающей исключений из правил.
В отличие от природы, чья жизнь лишена трагизма, поскольку ни одна из ее конкретных форм не
сознает, что ей грозит небытие, человек отчетливо понимает, что ждет в будущем его витальное и
социальное «Я». Но его отношение к финалистическому характеру жизни не ограничивается одним
лишь пониманием неустранимости факта будущей смерти. Если разум, согласный с фактической
данностью линейности и необратимости времени, признает неизбежность «полной гибели всерьез», то
человеческие чувства не желают мириться с этим, порождая острейшие коллизии внутренней жизни
индивидуального «Я». Страх перед страданиями, болью, небытием, жалость к себе и оставляемым
близким, множество других сопутствующих переживаний врываются в строй логических доводов и
грозят опрокинуть их. Так рождается одна из наиболее драматических экзистенциальных антиномий,
связанных с отношением к жизни как ценности:
Т е з и с: «Я приемлю смерть и мирюсь с ее неизбежностью».
А н т и т е з и с: «Я не приемлю смерти и всем своим существом протестую против нее».
Считая себя бренной, смертной частицей бессмертного органического мира, человек разумом
принимает смерть и потому формулирует «тезис». Но его чувства, невзирая на рациональные доводы,
противятся логическим аргументам, заставляют трепетать перед смертью и воспринимать ее как зло и
упорно противопоставлять «тезису» «антитезис».
Наиболее активно ратует за признание ценности жизни, за оценку ее как абсолютного блага детское
сознание. Оно же, с характерным для него приоритетом эмоциональности над рацио-

нальностью, наиболее энергично протестует против факта непреложности смерти. Для детского
сознания на ранних стадиях социализации вопрос о смерти вообще не встает в виде некой, требующей
обдумывания проблемы. Но с развитием личности ребенка, с накоплением социокультурного опыта
происходит знакомство с многими реалиями, имеющими прямое отношение к онтологеме смерти. В
сказках, мифах, рассказах, с которыми его знакомят взрослые, нередко гибнут или умирают герои.
Порой горе приходит в семью ребенка, когда уходят из жизни близкие люди. До поры до времени
внутренние механизмы эмоционально-психологической самозащиты заставляют ребенка изыскивать
доказательства невсеобщности смерти. При этом он с готовностью склонен удовлетворяться самыми
фантастическими гипотезами человеческого бессмертия.
Вместе с процессом социализации, с развитием рациональных структур сознания неизбежно наступает
такой период духовного развития, когда мифические измышления уже не в состоянии удовлетворить
взрослеющий разум, который начинает требовать и искать реалистические причинные объяснения. В
ситуации, когда прежние мифы утрачивают свою объяснительно-охранительную функцию, а психика,
сознание еще не успели адаптироваться к идее непреложности и всеобщности смерти, ребенок может
на какое-то время оказаться беззащитным перед настигшим его экзистенциальным кризисом.
Выдающийся украинский педагог В. Сухо-млинский рассказывал о сильнейшем духовном потрясении,
пережитом его учеником-шестиклассником, который впервые всерьез задумался о том, что все люди, в
том числе и он, смертны '.
Смерть как особая, экзистенциальная детерминанта, порождает множество сложных философских,
религиозных и этических проблем. Значительная часть из них восходит к представлениям о времени
как могущественной всеотрицающей силе, в отношениях с которой человек обречен выступать в роли
зависимой, подчиненной, страдательной стороны. Вместе с тем история культуры знает и
противоположный взгляд: это позиция разума, утверждающего идею приоритета духовного «Я» над
временем, идею его права распоряжаться стихией Хроноса по своему усмотрению. Эти две
противоположные позиции, сведенные воедино, обретают вид еще одной экзистенциальной
антиномии:
Тезис: «Человек не властен над временем и является его рабом».
Антитезис: «Человек властен распоряжаться временем по своему усмотрению и является его
господином».
1
Сухомлипский В А Рождение гражданина. М., 1974. с. 69.
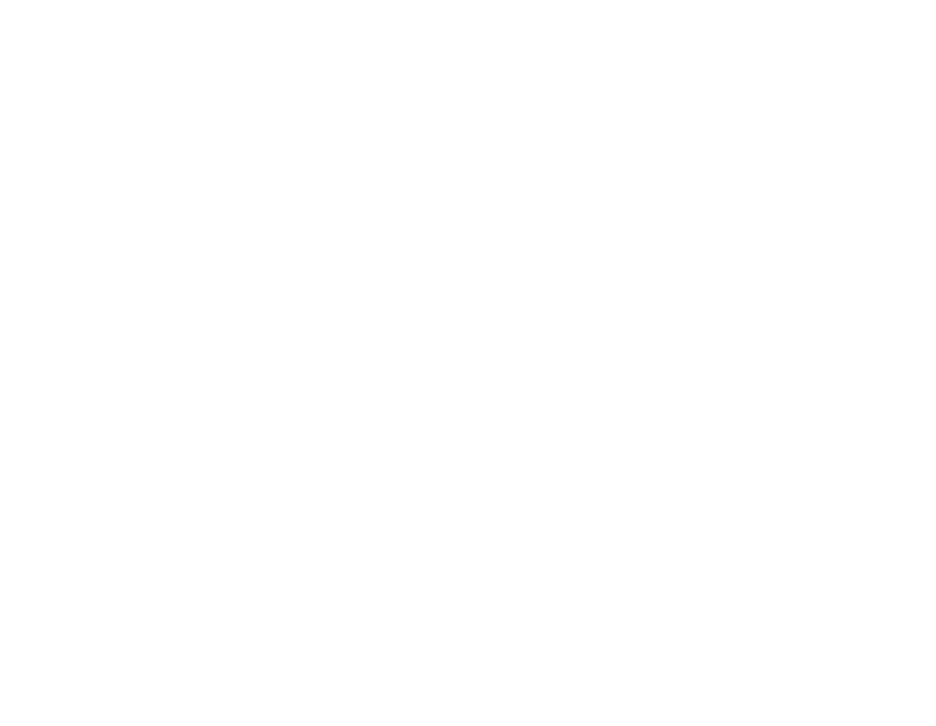
Данная антиномия предполагает, что человек, находясь, подобно всему живому, во власти
объективного, физического и биологического времени, является вместе с тем духовным существом,
способным прожить отмеренный ему природой срок с разной степенью содержательной
наполненности. Он волен распоряжаться отпущенным временем как ему угодно: сжимать и
растягивать его, а порой, при суицидных попытках, и уничтожать его как субъективное, личностное
время.
Для индивида каждый отрезок его жизни может отличаться своей, особой содержательной
наполненностью — от ценностной опустошенности до предельной социокультурной, событийно-
творческой наполненности. То есть время жизни отличается прерывистым, «синкопированным»
социокультурным ритмом.
Когда человек воспринимает собственное бытие прежде всего как физическое существование, он не
может отделаться от ощущения течения жизни как ускользающей из-под его власти стихии, как
тающей на глазах ценности, подобной бальзаковской «шагреневой коже». Себя же он при этом
воспринимает как заложника, пленника времени. И напротив, личность, для которой ее жизнь
неотрывна от высших форм духовной деятельности и социокультурного творчества, открывает для
себя возможность приобщения к беспредельности социального бессмертия, когда время над ней уже не
властно.
На фоне неизбежности физической смерти, а также возможности преждевременной гибели из-за какой-
то случайности, жизнь обретает для человека совершенно особую значимость. К бессознательно-
инстинктивному ощущению ее ценности прибавляется глубокое понимание этого. Но чем
цивилизованнее и культурнее человек, тем отчетливее он понимает, что действительной ценностью
является не просто жизнь в виде биологического процесса, а жизнь, наполненная социально значимым
содержанием и смыслом.
Большинству людей не свойственно бездумно-растительное существование. Человек, как правило,
стремится отыскивать смыслы в явлениях и процессах, происходящих вокруг него и в нем самом.
Можно утверждать, что ему присуща потребность в осмысленном существовании.
В основании потребности в смысле жизни находятся две фундаментальные социальные потребности —
потребность в самореализации и ориентационная потребность.
Потребность в самореализации представляет собой стремление человека к изысканию различных
возможностей для практического приложения своих сил и способностей, для их продук-

тивного использования и дальнейшего развития. Содержание этой потребности изменчиво и зависит от
многих обстоятельств и факторов.
Разнообразие имеющихся в распоряжении цивилизованного общества форм, способов и возможностей
самореализации не только позволяет человеку удовлетворять многообразные интересы и наклонности,
но и требует от него умения должным образом ориентироваться среди социальных обстоятельств. То
есть человека характеризует, с одной стороны, стремление реализовать себя в мире, а с другой —
избирательное отношение к тому, что его окружает. Благодаря ориентационной деятельности
потребность в самореализации обретает конкретную социальную направленность.
Содержание ориентационной потребности и потребности в самореализации заметно изменяется в
процессе социализации индивида. Особым этапом в этом изменении является период, когда обе
потребности переходят в качественно новую форму своего диалектически взаимосвязанного
существования, трансформируясь в экзистенциальную потребность в смысле жизни.
Когда «вечные» вопросы бытия предстают перед человеком в виде острых, волнующих, имеющих
конкретную личностную значимость противоречий между идеалами и реальностью, свободой и
ответственностью, знанием о неизбежности смерти и стремлением к социальному и духовному
бессмертию, то для их решения становится необходима концептуально стройная, ценностно
привлекательная, по возможности универсальная и вместе с тем достаточно гибкая мировоззренческая,
нормативно-смысловая модель. Нужда в ней и обнаруживает себя как экзистенциальная потребность в
смысле человеческого существования.
Человек, ищущий смысл своей жизни, должен вскрыть рациональное содержание тех объективных
связей, что существуют между ним и бытием природного, социального и культурного миров, к
которым он принадлежит. Будучи онтологически укоренен в них, человек определяет не только свое
место в динамике каждого из них, но и свою ответственность перед этими породившими его
сверхличными началами. Это в итоге и превращает жизнь в его глазах в наивысшую из всех
имеющихся в его распоряжении ценностей.
СВОБОДА
Под свободой в самом широком смысле понимается возможность человека совершать сознательный
выбор и осуществлять на его основе те или иные действия и поступки.
