Азадовский М.К. История русской фольклористики
Подождите немного. Документ загружается.


М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
«Отголосок» — не перевод, но свободное поэтическое переложение
русских былин и русских народных песен, великолепно выражающее их дух
и стиль. Высокую оценку этого произведения давали Срезневский (в
«Деннице», 1842, № 16, стр. 201—204} и А. Н. Пыпин, считавшие, что
Челаковскому удалось «прекрасно понять и усвоить себе дух нашей
народной песни»
1
. С большим уважением относился к личности и
деятельности Челаковского Добролюбов, также подчеркивавший «горячую
любовь» чешского писателя «к русскому народу и его литературе»
2
.
«Отголосок» весьма содействовал пропаганде русской песни. С одной
стороны, появились подражатели, с другой — переводы на иностранные
языки. Из первых нужно отметить чешского поэта Ярослава Лангера,
который перевел четыре былины из сборника Кирши Данилова; из
переводчиков — немецкого поэта Иосифа Венцига («Slavische Volkslieder»,
Halle, 1830) и др.
Деятельность и творчество Челаковского — прекрасный пример русско-
славянских культурных связей и влияния русской литературы на развитие
чешского фольклоризма. Не менее сильно проявилось оно и в работе
Ганки, который в своей пропаганде русской народной поэзии порой
превосходил самого Челаковского.
Кроме упомянутого выше перевода «Слова...» (1821), ему принадлежит и
ряд других переводов фольклорных текстов; переводы из русских народных
песен нашли место и в первых поэтических сборниках молодого Ганки,
когда он выступал еще только как поэт. Большой популярностью
пользовались у нас труды Шафарика, особенно «Славянские древности»
(«Старожитности»); частично они были переведены О. Бодянским (1837),
полный же перевод вышел в 1847 г. Было переведено на русский язык и
другое сочинение Шафарика — «Славянское народописание» (1842),
опубликованное первоначально в «Москвитянине» (1848, кн. 3—5)
Погодина, а позже вышедшее отдельным изданием
3
.
Но помимо этого, славянские ученые сами стремились опереться на
русскую науку и русское влияние. Мы уже упоминали
314
о поездке в Россию Вука Караджича; в теснейшей связи с русскими учеными
были Ганка
1
, Шафарик, Челаковский и др.
1
А. Н. Пыпин, Мои заметки, М., 1910, стр. 171.
2
Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 549—550.
3
Труды Шафарика были необычайно популярны в России. «Старославянскими
древностями» увлекался Гоголь; его почитателями были и славянофилы и некоторые
западники, например Грановский. Неизменно сдержанно, а порой и иронически относился
к «мечтаниям» Шафарика Герцен.
Характерно письмо из Москвы Гавличека, который с изумлением писал своему другу К.
Запу: «Дивна воля божия! Шафарика в Москве лучше знают, чем в Праге,— он и сам не
полагал о том, что его сочинение, едва известное в Праге, будет (за) 250 миль от Праги
школьной книгой» (цит. по статье А. М. Селищева «Карл Гавличек о русской литературе и
«славяно-православной» партии», в кн.: «Сборник статей в честь Д. А. Корсакова»,
Казань, 1913, стр. 37).
1
В 1905 г. вышел объемистый том переписки Ганки, изданный В. Францевым; «Письма
к Вячеславу Ганке из славянских земель», Варшава, 1905. В нем опубликованы среди
прочих корреспонденции письма А. Востокова, И. С. Аксакова, И. К. Бабста, Д. Н.
Блудова, О. М. Бодянского, П. А. Вяземского, Д. А. Валуева, А. Ф. Гильфердинга, Н. И.
Греча, А. О. Ишимовой, М. Н. Каткова, Е. П. Ковалевского, В. Д. Комовского, М.
А. Корфа, П. А. Кулиша, П. A. Лавровского, В. И. Ламанского, А. Н. Майкова, А. С.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
Прямым наследником Челаковского и в этом отношении был Эрбен,
пожалуй один из крупнейших и энергичнейших деятелей на почве
сближения чешской и русской культур. Эрбен более чем либо другой из его
современников сделал для ознакомления в с русской литературой: он
перевел «Слово о полку Игореве», «Летопись Нестора», «Задонщину»,
опубликовал ряд специальных статей по истории древнерусской
литературы и т. д. Большое пропагандистское значение, в некоторой
степени близкое антологии Челаковского, имело и его позднее издание
(1865) «Slovanska citanka» (т. е. «Славянская хрестоматия»),
представляющее собой прекрасно подобранную антологию сказок на
разных славянских языках. Хотя антология Эрбена охватывала почти все
славянские народности, но ведущее начало имели в ней чехи и русские. Это,
между прочим, он подчеркнул и заглавием, которое было дано на двух
языках: по-чешски и по-русски. По-русски оно имело такой вид: «Сто
славянских народных сказок и повестей в подлиннике. Книга для чтения».
Из ста помещенных в сборнике сказок 15 чешских, 7 словацких, 27 русских.
§ 6. В свою очередь это взаимовлияние можно проследить и в русской
фольклористике. Интерес к славянской народной поэзии, стремление
обнаружить общность русской литературы и литературы славянских
народов наблюдаются уже в XVIII веке. Одним из пионеров и в данном
случае является Тредиаковский.
315
Свою теорию русского стихосложения он обосновывал, между прочим,
ссылкой и на «пример иллирических народов»; в частности, он упоминал
«далматинскую книжку», содержащую «притчу евангельскую о блудном
сыне»
1
. Сопоставление русского стихосложения со славянским (с польским)
делал и Ломоносов
2
.
Норова, Н. И. Надеждина, В. А. Панова, А. Н. Попова, П. И. Прейсса, V. Соболевского,
С. М. Соловьева, М. М. Сперанского, И И. Срезневского, М. М. Стасюлевича, В. П.
Титова, Ф. И. Тютчева, С. С, Уварова, А. С. Хомякова, Н. г. Устрялова, Ф. В. Чижова,
Б. Н. Чичерина, С. П. Шевырева, Шишкова и др. Этот неполный список русских
корреспондентов Ганки наглядно показывает обширные связи его с русскими учеными и
общественными деятелями.
В современной чешской научной литературе вопрос о значении деятельности Ганки
подвергся значительному пересмотру. В русской литературе это нашло преувеличенное
отражение в довольно легковесной статье В. Н. Кораблева «Вячеслав Ганка и его
Краледворокая рукопись» («Известия Академии наук СССР». Отделение общественных
наук, 1932, № 6, стр. 521—543); отрицательно отнесся к нему и Ягич, однако он не считает
возможным забывать при этом и «несомненные заслуги» Ганки для чешской филологии; в
современных оценках очень часто нарушается историческая перспектива, в результате чего
утрачивается представление о сыгранной им огромной роли в истории славянской науки;
особенно не следует забывать о его роли в деле сближения чешской и русской науки.
1
Это глухое упоминание Тредиаковского убедительно расшифровано М. Петровским. По
его указанию, бывшая в руках Тредиаковокого «далматская книжка» — знаменитая поэма
Ивана Гундулича «Suze sina razmetnoga», первое издание которой вышло в 1622 г.
(Петровский, Библиографические заметки о некоторых трудах В. К. Тредиаковокого.
Страничка к истории русского стихосложения, Казань, 1890, стр. 28).
2
О славяноведческих изучениях Ломоносова см. специальную заметку П. Н. Беркова (П.
Н. Берков, Славяноведческие интересы Ломоносова, «Научный бюллетень ЛГУ», № 11—
12, Л., 1946, стр. 40—44): Ломоносов интересовался преимущественно проблемами
сходства и родства русского и славянского языков, а также проблемой этногенезиса
славян, времени их распыления в Европе и т. п. «Ломоносов,— пишет Бурков,— по-
видимому, считал славян автохтонами бассейна Дуная».

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
Писатели XVIII века неоднократно обращались к вопросам славянской
мифологии и внимательно, как мы уже отмечали изучали иностранных
авторов, писавших о славянских древностях. В кругу «Дружеского
литературного общества» (т. е. уже в самые первые годы XIX века) возник
вопрос о необходимости (для развития русской исторической и
филологической науки) обращения к славянским источникам и широким
славянским изучениям, что нашло практическое осуществление в
путешествии по славянским землям Андрея Кайсарова и Александра
Тургенева (1804).
В начале XIX века славянская тема прочно входит в русскую науку.
А. С. Шишков, тогда президент Российской академии, усиленно стремился
к установлению связей со славянскими филологами. Он первый ознакомил
русское общество с подделками Ганки, в подлинность которых безусловно
верил; по его инициативе появился ряд русских переводов отдельных песен
из обеих «рукописей», выполненных по большей части последователями
Шишкова (например, Грамматиным); позднее чешские песни переводил
Востоков. Любопытно, что переводы из Зеленогорской рукописи появились
в России раньше, чем были опубликованы эти тексты в самой Чехии
3
.
Рядом с ними огромной популярностью в России пользовались сборники
Вука Караджича, и именно они отмечались как образец и пример для
наших изучений. Ни сборник песен Арнима и Брентано, ни сказки братьев -
316
Гримм не вызвали в нашей печати никаких откликов и рецензий, как
аналогичные славянские издания вызывали неизменно горячий отклик и
обсуждение. Так, например, о «сербских песнях» Вука были рецензии в
«Вестнике Европы» (1820, ч. СХII, № 14 стр. 112—129, а также 1826,
ч. CXLVI, № 13, стр. 42—55), в «Сыне отечества» (1824, ч. 94, стр. 241—249),
в «Московском в телеграфе» (1827, ч. XIII, стр. 137—150), и именно на их
пример ссылался Н. Полевой, настаивая на изучении и собирании русских
песен. Позже о них же писал Надеждин. Проводником славяноведческих
интересов (главным образом сфере истории и фольклора) в русской
литературе был руководимый Каченовским «Вестник Европы». В нем
появился ряд статей, сообщений и заметок о народной жизни и поэзии
различных славянских народов. Помимо статей о сербской народной
поэзии и уже упомянутых выше переводов статей К. Бродзинского и
Зубрицкого, в нем были помещены рецензии на «Slavin» и «Slovianka»
Добровского (1816, ч. LXXXV, № 1), заметка о славянских песнях при
собирании токайского винограда (1816, ч. LXXXVI, № 7), «О языческой
религии древней Польши» (1826, февраль, ч. 146, № 3—4), заметка
Ходаковского «О галицийских песнях» (1829, апрель, № 7, стр. 244—250);
очень интересен перевод отрывка из статьи Вука Караджича о сербском
народе («Описание сербского народа», 1827, № 14—18) с упоминанием о
3
Ганка очень долго не решался опубликовать Зеленогорскую рукопись ввиду
категорически отрицательного отношения к ней Добровокого. Зеленогорская рукопись
была опубликована в Польше И. Раковецким в его исследовании о «Русской правде» и
оттуда перепечатана Шишковым («Известия Российской академии», 1821, кн. 9). Число
переводов «Любушина суда» песен из Краледворской рукописи очень значительно.
Перечень их (не вполне точный и исчерпывающий) дан в книге Н. Трубицына «О
народной поэзии в общественном и литературном обиходе в первой трети XIX в.» (СПБ,
1912, стр. 118).

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
гайдуках, которых переводчик уподобляет греческим клефтам. В журнале
был помещен ряд материалов и по белорусскому фольклору, но и они
заимствованы из славянских (в частности, польских) источников
1
.
Например, перевод статьи Марии Чарновской (Czarnowski) (1818, ч. СП, №
21—22) из «Виленского дневника», которая позже была помещена и в
«Северном архиве» (1822, ч. IV, № 24); очерки Каз. Фалютинского
«Народные праздники, увеселения, поверья и суеверные обряды жителей
Белоруссии» (1828, март, ч. 159, № 5—6, стр. 75—92) и кандидата
Мухлинского «Праздники, забавы, предрассудки и суеверные обряды
простого народа в Новогрудском повете Ли-
317
товско-Гродненской губернии» (1830, июль — август, ч. 173, № 14—16).
По характеристике авторитетного специалиста
1
, обе последние статьи
представляют незначительный интерес и содержат много вымыслов; но их
историческое значение, как первых очерков, знакомящих русских читателей
с бытом и поэзией белорусского народа, чрезвычайно высоко. Вместе с тем
наличие такого рода материалов показывает, как широко смотрел
Каченовский на задачи современных изучений славянства, стремясь
охватить все его ветви и представить в своем журнале как бы некий
комплекс быта и поэзии славянских народов.
Очень сильно было влияние славянской науки и в кружке
Н. П. Румянцева. «Библиографические листы» Кеппена, которые не без
основания называют органом петербургского отделения кружка, приняли в
полной мере характер центрального органа зарождающейся русской
славистики. В журнале Кеппена приняли участие и крупнейшие славянские
ученые: Добровский, Копитарь, Шафарик, Ганка, Коллар, Вук Караджич,
Линде, Бандтке, и если бы издание «Библиографических листов» не было
так рано оборвано вследствие доноса Магницкого, они, несомненно, заняли
бы центральное место в европейской славистике. Во вторую половину 20-х
годов славянским темам, особенно славянско-этнографическим и
фольклорным, много внимания уделяли «Московский вестник» и
«Московский телеграф»; в 30-е годы — «Телескоп» Надеждина.
Кочубинский, Трубицын и другие подчеркивали единство различных
лагерей русской журналистики по отношению к вопросам славянской
литературы и фольклора
2
. Однако в действительности вопрос гораздо
1
Перечень славяноведческих статей в «Вестнике Европы» приведен в труде А. А.
Кочубинского «Начальные годы русского славяноведения» (стр. 42—46). Кочубинский
считает редактора «Вестника Европы» исключительным энтузиастом славяноведения,
противопоставляя подлинный научный интерес Каченовского «славянским декламациям»
Шишкова. «Один только учитель Копитар,— пишет он,— так восторженно встречал
литературных первенцев своего даровитого ученика Вука Караджича, как принимал их
Каченовский на страницах своего журнала» (там же, стр. 47). Перечень Кочубинского,
однако, так же далек от полноты, как и указатель Полуденокого. Так, например,
пропущена указанная выше статья Зубрицкого «О простонародных песнях» (1827, июнь,
№ 11. стр. 191—201); не упомянута переведенная с польского статья о мифологии (1819, ч.
107, № 18, стр. 108—130); пропущена заметка «о происхождении некоторых пословиц
польских» (1827, стр. 309—311) и некоторые другие. Из статей о белорусской этнографии
не указаны статьи Чарновской и Фалютинского.
1
См. Е. Ф. Карский, Белорусы. Введение к изучению языка и народной словесности,
Вильно, т. I, 1904, стр. 207.
2
См., например, «Вестник Европы», 1896, ч. VII, стр. 172.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
сложнее. Славянская тема воспринималась в ином плане каждым из
литературных лагерей и направлений. Совершенно ясно, что
демократический характер славянского фольклоризма был совершенно
чужд Шишкову или Каченовскому. Шишков пользовался славянским
материалом исключительно для подкрепления своих националистических и
реакционных позиций; «Краледворская рукопись» заинтересовала его как
материал, свидетельствующий о родстве чешского и русского языков, и он
оставался совершенно равнодушным к ее национально-политическому
пафосу. Чужды были национально-политические и демократические идеи
чешских романтиков и Каченовскому. Последнего интересовала только
историческая или, вернее, теоретическая сторона; на славянский материал
он хотел опереться в борьбе со своими противниками. Но диапазон
славянских идей был гораздо шире, и они находили отклик в передовых и
демократических кругах русского общества. Славянские темы, как уже
отмечалось выше,
318
были близки декабристам; поэзия Одоевского своеобразно переликается с
Колларом
1
, самый левый фланг декабристов был объединен в общество,
носившее название «Общество соединенных славян», одной из конечных
целей которого было образование демократической федерации славянских
республик. Впрочем, корни этой организации до сих пор еще не раскрыты,
и потому не ясны их фактические связи со славянскими деятелями и
славянской литературой. После разгрома декабристов «славянские идеи»
продолжали еще долго жить в обществе; их провозвестником был и
Мицкевич, дружески принятый передовыми русскими писателями.
Повышенный интерес декабристов к славянской тематике и особенно к
народной поэзии разделял и Пушкин. Во время пребывания в Кишиневе он
записал несколько славянских народных песен и преданий, по
преимуществу таких, в которых отражались события национально-
освободительного движения славян, например песни о вожде восстания
сербов против турок Кара-Георгии (1804), рассказы и предания о
«разбойнике» Кирджали и др. Эти ранние интересы Пушкина завершились
переводом «Песен западных славян» (1832—1835), в состав которых вошли
не только мистификации Мериме, в подлинность которых Пушкин
первоначально верил, но и несколько песен из сборника Вука Караджича.
Источники трех песен из этого цикла до сих пор не обнаружены, что дает
повод думать, что в основе их лежат непосредственные записи самого
Пушкина во время пребывания его на юге. В эти же годы Пушкин
возвращается и к слышанным им ранее сказаниям о Кирджали, обработав
их в отдельную повесть.
Пропагандистом идеи общеславянского единства была в русском
обществе 20—30-х годов княгиня Зинаида Волконская (1792—1862).
Волконская — полуфранцузская, полурусская писательница. Иван
Киреевский писал о ней, как о русском таланте, отнятом у нас французской
литературой. О Волконской существует довольно значительная литература,
однако облик ее как писательницы и общественной деятельницы
1
Францев в специальном этюде, посвященном «Славянским девам» А. Одоевокого,
рассматривает эту пьесу «как выражение славянских симпатий декабристов» («Slovanskэ
sbornik venovanэ prof. Frant. Pastrnkovi k sedmdes’atэ naroћeninбm, 1853—1923, Praha, 1923).

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
представляется все еще неясным; впрочем, и в действительности он был
сложным и противоречивым. Поклонница Руссо, близкая любомудрам,
позже находившаяся в тесном общении со славянофилами, она в сущности
всегда была чужда подлинной русской жизни и оставалась французской
писательницей даже и в своих произведениях из древнеславянской и
древнерусской жизни. Это отчуждение отчетливо проявилось в последние
годы ее жизни, когда, уехав навсегда в Италию, она перешла в католицизм
и стала орудием пропаганды в руках иезуитов.
319
Она проявляла усиленный интерес к русской старине, изучала народные
обряды, песни и предания и даже сама занималась их собиранием и
записью, явившись позже одной из вкладчиц в сборник Снегирева. В 1824 г.
она выступила с идеей создания специального общества для изучения
русских древностей и издания посвященных им работ. Это общество
должно было носить название «Русского общества» («Societй russe»).
В 1827 г. она выступила с проектом создания специального общества
(«Патриотическая беседа»), которое должно было своей деятельностью
содействовать подъему научной работы в области русско-славянской
филологии и истории
1
. Выступала она и с проектом создания
национального музея. Из всех этих планов и проектов практически ничего
не вышло, но они характерны для своего времени, и, несомненно,
некоторую пропагандистскую роль они сыграли, чему содействовало и
общественное положение кн. Волконской и ее близость к придворным
кругам.
Представления же ее о древнерусском быте и о русской народной поэзии
были очень смутны, древнерусская жизнь изображалась ею в туманных
общеславянских очертаниях, в духе еще не изжитых тенденций руссоизма,
что и сказалось в ее литературных опытах «Tableau slave du cinquieme siecle»
(Paris, 1824), русский перевод (в 1825 г.) и «Отрывок из Сказания об Ольге»
(«Московский наблюдатель», 1836), в которых она пыталась воссоздать
картины славянского быта дохристианской поры (см. «Сочинения княгини
Зинаиды Александровны Волконской», Париж и Карлсруе, 1865; то же на
французском языке).
На фоне этих разнообразных и противоречивых общественных интересов
к славянской теме выясняется смысл и значение повышенного внимания к
литературе и фольклору славянских народов, проявленного «Московским
вестником» и «Московским телеграфом».
В последнем помещались даже систематические, весьма тщательно
составленные отзывы о славянской научной литературе.
Оба журнала внимательно следили за славянской литературой и наукой;
в «Московском телеграфе» обзоры славянской научной литературы делал
Кеппен. В восторженном отношении Полевого к сербским песням еще
чувствуется влияние декабристских настроений. Не случайно он
1
Цель общества она формулировала так: «Доставлять пособия к сочинению и
напечатанию достойных уважения творений касательно русской истории, археологии
древней, географии, филологии славянских и других племен, подвластных России» (см. «И.
М. Снегирев и дневник его воспоминаний с 1821 по 1865 г.», СПБ, 1871, стр. 137;
Кочубинский, Начальные годы русского славяноведения, стр. 226. Все сочинения,
изданные «Патриотической беседой», должны были печататься, по мысли 3. Волконской,
на французском языке, чтобы, таким образом, стать достоянием общеевропейской науки.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
воспринимает «сербские песни» в одном ряду со сборником Фориэля. Через
кружок же «Московского
320
вестника» пойдет уже дальнейшая эволюция «славянских идей»;
панславистские тенденции в сочетании с шеллингианской философией на
почве крепостнической действительности войдут в идейный инвентарь
будущего славянофильства и впоследствии приобретут в определенных
кругах русского общества реакционный характер.
§ 7. Весьма существенным фактором в развитии русско-славянских
научных интересов были довольно распространенные в первые годы
XIX века путешествия русских писателей и ученых в славянские страны.
Первыми путешественниками, посетившими славянские земли со
специально научными задачами, были Д. Тургенев и А. Кайсаров; за ними
тянется длинная цепь посетителей, преследующих различные цели:
общеобразовательные, научные, литературные, просто туристские.
В числе наиболее ранних путешественников следует назвать известного
впоследствии как историка Украины Д. Н. Бантыш-Каменского
(«Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию», М., 1810), военного
писателя В. Б. Броневского («Путешествие от Триэста до С.-Петербурга в
1810 году», ч. I, M., 1828)., некоторых других; но все это эпизоды,
вызванные разными поводами (главным образом служебного характера) и
не оставившие следа в науке. Правда, у них встречаются иногда —
особенно у Броневского — и различные этнографические подробности, но
путешественники не умели еще ни описать их достаточно подробно, ни тем
более уразуметь их смысл. Броневский наблюдал в Крайне обряды в
Иванову ночь, слышал и песни, которые пелись при этом, но не
поинтересовался их содержанием, отметив лишь с характерным для
рационалиста XVIII века пренебрежением, что в них не было «ни смысла,
ни рифмы». Специальной поездкой с определенным научным заданием
была поездка (в 1811 г.) в Прагу известного деятеля александровского
времени Н. Н.
Новосильцева, который по заданию правительства
стремился осуществить с помощью западнославянских ученых издание
сравнительного словаря славянских наречий; но из этого плана ничего не
вышло. В 1813 г. в связи с пребыванием в Европе русских войск и двора
Прагу посетил Шишков, завязавший большие связи с славянскими
учеными. Одновременно с ним находилась Праге и Зинаида Волконская.
Все это весьма содействовало взаимному сближению русских и чехов. И как
еще ни малочисленны, ни случайны были эти встречи и знакомства, уже
тогда кругах чешской интеллигенции, главным образом среди писателей и
ученых, выработалось, как говорит В. А. Францев, ясное сознание значения
России и русской культуры для развития чешской национальной жизни и
литературы
1
.
321
В начале 20-х годов XIX века эти связи приобретают уже более прочный
и постоянный характер. Большую роль и в данном случае сыграл кружок
Румянцева и особенно деятельность таких лиц, как самого Румянцева, как
1
См. В. А. Францев, Русские в Чехии, 1813—1823, Прага, 1913, стр. 27.
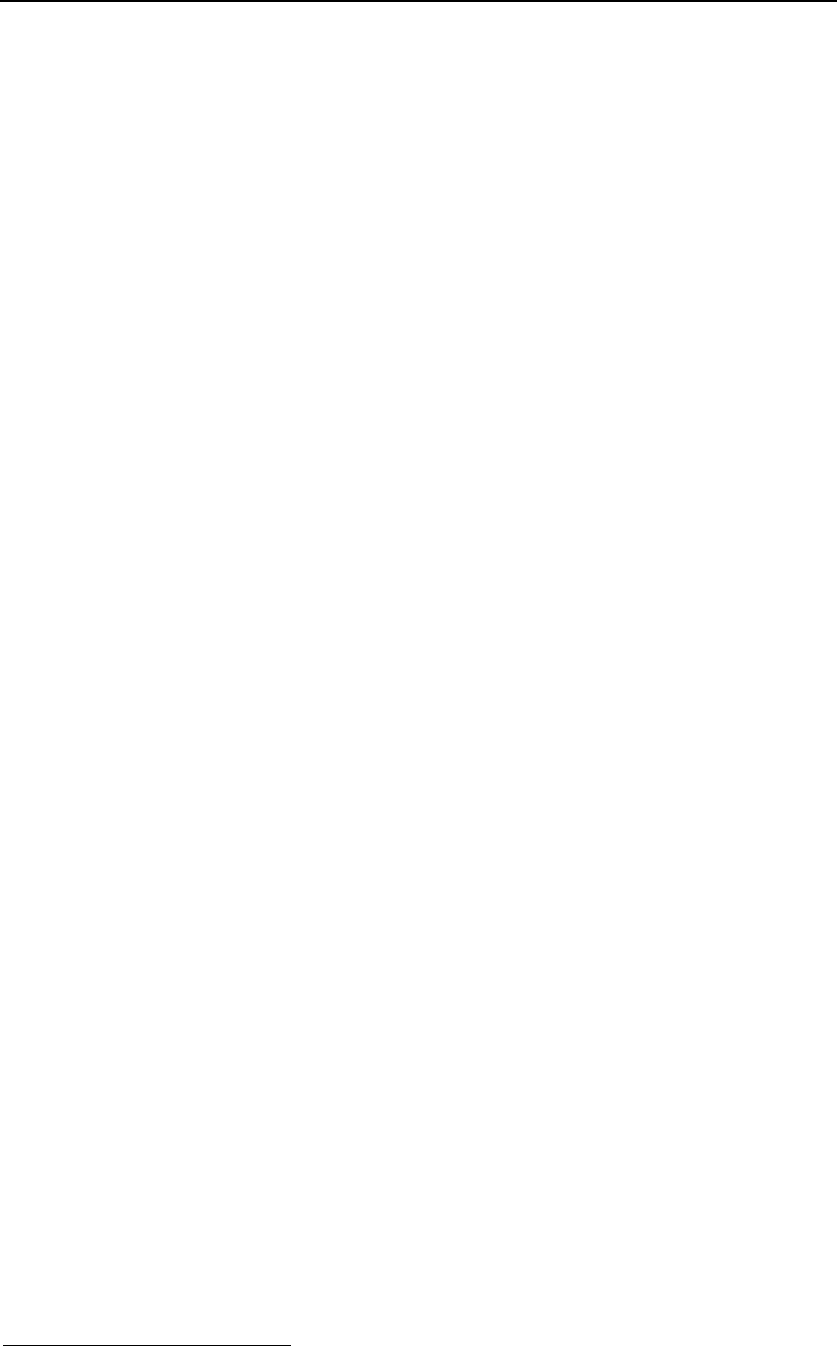
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
Калайдовича (которого по справедливости называют «первым русским
болгаристом») Евгения Болховитинова, Кеппена. К 1821—1823 гг.
относится поездка в славянские земли П. И. Кеппена, составившая, по
выражению Кочубинского, «известного рода эпоху в развитии
славяноведения у нас, с многообразными последствиями в ближайшем и
более отдаленном будущем»
1
.
Кеппен был в Галиции, Сербии, в Праге, в Трансильвании и едва ли не
первый в русской науке обратил внимание на живших там русских. Он
завел многочисленные знакомства со славянскими учеными, и в сущности
он положил начало постоянному общению русских и славянских ученых; в
частности, он познакомился с юным еще тогда Шафариком, сумев сразу
распознать в начинающем ученом будущего великого деятеля.
Непосредственно в истории русской фольклористики и этнографии поездка
Кеппена отразилась сравнительно слабо, но косвенное значение ее было
весьма значительно, так как его опыт и особенно составленная им
программа послужили образцом для последующих путешественников.
Важным импульсом для развития и укрепления славяноведческих интересов
в России и русско-славянских связей была и упомянутая поездка в Россию
Вука Караджича.
В 20—40-е годы наблюдается уже широкая волна русских
странствований по славянским землям. Среди путешественников этих лет
мы встречаем имена Хомякова, Терещенко, Погодина, Бодянского,
С. Строева, Грановского, Станкевича, П. Киреевского, Надеждина и
многих других.
Прямым продолжением поездки Кеппена явилось знаменитое
путешествие молодых русских славистов 30-х годов: И. И. Срезневского,
П. И. Прейсса и В. И. Григоровича. Для истории русской фольклористики
из них наиболее важно и существенно и по своим прямым результатам и по
общепринципиальному значению путешествие по славянским землям
Срезневского (1839—1842).
Путешествие Срезневского было выполнено по специальной программе,
составленной Московским университетом, основанной в свою очередь на
проекте путешествия по славянским землям и архивам П. Кеппена (1822).
Инструкция Московского университета рекомендовала, помимо изучения
литературы и занятии в архивах, широкое практическое знакомство с
языком и бытом народа во всех его проявлениях, и эта часть программы
была особенно развита Срезневским как вполне соответствующая тому
пониманию, которое выработалось у него в харьковский период. В своем
«Отчете»
2
он писал, что поставил себе в качестве основ-
322
ной задачи непосредственное знакомство с народной жизнью каждого
славянского племени: «Идти в народ, вслушиваться в его речь, простую,
неиспорченную исполнением придуманных правил, в его пословицы, песни,
предания, в которых выражает он себя, свой ум и фантазию, вкус и понятия,
свою жизнь и свое прошедшее так простосердечно и так полно»
1
. В этом
непосредственном обращении к изучению живого языка, и народа, и его
1
А. Кочубинский, Начальные годы русского славяноведения, стр. 199.
2
См. «Журнал министерства народного просвещения», 1841, т. ХХXI, отд. IV, стр. 9—36.
1
«Журнал министерства народного просвещения», 1841, т, XXXI, отд. IV, стр. 10.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
поэзии Срезневский стремился вскрыть специфику каждого народа, что в
конечном счете должно было, по его мысли, повести к уразумению
вопросов «общего развития славянства». Его письма и отчеты
свидетельствуют об огромной работе по изучению языка, народного быта и
народной поэзии.
Вопросы фольклора и этнографии стояли неизменно в центре его
интересов, ибо без последних были для Срезневского немыслимы и
изучения лингвистические. «Изучение славянских народов, их наречий и
памятников, их народной словесности,— писал он в том же отчете,—
изучение местное, так сказать, топографическое, считал я и считаю тем
более необходимым, что каждый живой народ, каждое живое наречие,
каждая живая народная словесность представляет этнологу, историку,
филологу хотя нечто такое, что наперекор судьбе пережило долгие века и
сохранилось только в нем, что каждый славянский народ выражает в
особенной форме, будучи необходимым звеном в общем развитии
славянства и может дать ответы на те или другие из общеславянских
вопросов»
2
. Срезневский сравнивает каждую «особенную народность жизни
и слова» с особенным музыкальным тоном: «Каждая необходима, каждая
самобытна, хотя и совпадает, сливается с другими».
Романтические настроения Срезневского нашли новую почву и получили
дальнейшее углубление во встречах со славянскими писателями и учеными.
Он был принят в разных частях славянства как родной и завязал
знакомство, а во многих случаях и прочные дружеские связи со всеми
выдающимися деятелями славянской науки того времени: с Вуком
Караджичем, Шафариком, Ганкой, Челаковским, Вразом, Гаем, Штуром,
Яном Голым, Смоляром, Сушилом, с галицийскими и польскими учеными
и многими другими. У Вука он учился сербскому языку, с Челаковским
занимался чешским языком, с Вразом, Смоляром, Штуром, Голым вместе
путешествовал, и как человек, уже накопивший большой опыт в собирании
и записи фольклорных текстов, он оказал значительное влияние на своих
спутников. И Враз и Штур неоднократно вспоминали и подчеркивали
значение для них встреч со Срезневским; замечательное же собрание
народных лужицких песен Смоляра («Pjesnički hornych a delnych
323
luziзkich Serbow», части 1—2, 1841—1843) было осуществлено при
непосредственном участии Срезневского.
Срезневский был не первый русский путешественник по славянским
землям, но никто еще с таким достоинством и, можно сказать, блеском не
сумел и не смог представить у славян русскую науку, как это сделал
молодой ученый-романтик, которому только исполнилось 27 лет.
Срезневский не оставил полного и законченного описания своего
путешествия; этот недостаток частично возмещается его подробными
письмами к матери
1
, письмами к Ганке, которые последний в
2
Там же, стр. 10—11.
1
См. «Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель», 1839—
1842, СПБ (1895; первоначально печатались в «Живой старине», 1892—1893).

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
подробнейших извлечениях печатал в «Casopis Ceskeho Museum»
2
, и,
наконец, его отчетами
3
.
Значительное количество относящихся к путешествию материалов
остается еще до сих пор неизученным и неизданным. Все эти письма,
отчеты, отдельные статьи, которые он публиковал в русских журналах,
показывают, с какой поразительной быстротой разобрался Срезневский во
всей обстановке, оценил ведущуюся работу и определил ее сильные и
слабые стороны. Уже в первом отчете он дает широкую и трезвую оценку
явлений современной чешской науки и литературы и свободно судит о ее
недостатках.
Он указывает на некоторый спад в интересах к фольклорно-
этнографическим изучениям и в своем отчете решительно подчеркивает это
обстоятельство: «Несмотря на постепенное развитие литературы чешской в
наше время, направление, господствующее между литераторами, не
позволяет надеяться от них важных трудов касательно изучения
народности: за исключением очень немногих, они заняты или чисто
книжной ученостью, или литературой иностранной; а изучение народности,
несмотря на то, что оно, видимо, слабеет, остается почти для всех вещию
постороннею...» «Я уже не говорю о трудах, подобных трудам Сахарова,
Даля и Снегирева, Голембевского или Войчицкого, Караджича или
Коллара и т. п. Подобного труда можно ожидать в Чехии от одного
Челаковского»
4
. Он подвергает далее критике все существующие сборники
чешских народных песен и указывает их крупнейшие недостатки; особенно
подчеркивает отсутствие в них строгой системы (например, в собрании
Риттерсберга), а также отсутствие этнографических и исторических
324
примечаний и т. д.; отмечает отсутствие полного надежного издания
пословиц и особенно упрекает чешских ученых в пренебрежении к
изучению сказок и народных поверий и народной обрядности в целом.
Срезневский заметил и некоторую изолированность в славянских
изучениях. Он нашел, что чехи недостаточно знают, что делают сербы или
болгары, поляки, словенцы, а те в свою очередь не знакомы с работами
чехов. И он сам, пришелец в чешской науке, принимает на себя
посредническую роль, усиленно знакомя чешских деятелей с трудами
русских ученых, сербских деятелей и т. п. (см., например, письмо к Ганке от
17 (29) января 1841 г., опубликованное в «Casopis Českйho Museum», 1841, I,
5. 104—105, в котором он подробно рассказывает о новостях польской и
сербской научной литературы), эту посредническую роль выполнял он и
позже, вернувшись в Россию
1
. Следует добавить, что некоторые письма
2
Собраны вместе и перепечатаны в книге «Материалы для истории славянской филологии.
Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Издал В. А. Францев», Варшава, 1905.
3
См. «Донесения адъюнкта Срезневского г. министру народного просвещения из Вены, от
8 (20) февраля 1841 года», «Журнал министерства народного просвещения», 1841, т. XXXI,
отд. IV, стр. 9—36.
4
«Журнал министерства народного просвещения», 1841, т, XXXI, отд. IV, стр. 18.
1
В письме к Ганке Срезневский подробно описывает содержание нового болгарского
журнала (см. цит. выше «Письма к Ганке», стр. 1041—1044). Замечательно также письмо о
Черногории, относящееся к 1841 г. и позже изданное Ганкой в виде отдельной книжки (см.
«Письма к Ганке», стр. 1000—1010).
