Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания
Подождите немного. Документ загружается.


духовных советников государей, оптимизм - пессимизм, с другой стороны, - эти два ряда антитезисов
соответствуют друг другу. Интенциональность историка выражается в интерпретации истории. Значит
ли это, что такая релятивность есть последнее слово и что научная воля историков не ослабляет
зависимость интерпретации от жизненной позиции историка? Мы так не думаем.
Аспекты реальности. В зависимости от участков действительности та или иная интерпретация, если не
предписывается, то, по крайней мере, предлагается. Отношения между государствами проявляются в
многообразных формах, которые на соответствующем уровне абстракции могут быть сформулированы
как уроки истории или как абсолютные истины. Общества меняют хозяев, заменяют анонимных
правителей коронованными особами. Политика - это место, где одновременно сосуществуют разрывы
и постоянство. В Кремле занимают место царя и его сановников деятели коммунистической партии , но
всего-навсего несколько лет спустя эполеты были не менее позолочены, не меньше также было ор-
денов на мундирах крупных деятелей нового режима, чем во времена наследственной власти.
Партийные деятели разоблачали тайную дипломатию и империалистические коварства, но сами, став
руководителями,
69
применяют те же методы, которые поносили. Что удивительного, если специалисты дипломатии и
политики чувствительны к внешним разрывам и к глубинным постоянствам?
Непрерывность также на самом деле характерна для обычаев и верований, тогда как разрывы, по
крайней мере, за последние два века разрезали на куски развитие экономики. Наука и техника
стимулируют ход истории, направляемой накоплением к последнему пределу. Хрупкость государств и
цивилизаций провоцирует крушение и возрождение: в некоторых случаях конец одного периода
обязательно означает начало другого, демократия превращается в тиранию, а тирания в свою очередь
завершается свободой. Так рождается соответственно опыту греческих полисов циклический взгляд на
мир.
Если каждый специалист, может быть, склоняется к определенной интерпретации прошлого, то это не
значит, что один из двух аспектов навсегда должен быть исключен. Политика повторяется, но она
развивается, быть может, в сторону всемирного гражданства или мировой империи. Экономика
направляется развитием техники, но стратификация групп в ней до наших дней остается постоянной
чертой.
Именно на более высоком уровне, на уровне самой философии эти интерпретации становятся
проблематичными. Недостаточно напомнить, хотя необходимо это сделать, что во всех сферах
коллективной жизни можно найти непрерывности и разрывы, постоянство и изменения, иногда более
или мене регулярные повторения и более или менее направляемое единое становление. Когда
рассматривают всеобщую историю, то сам человек как дополнение этих интерпретаций исчезает и
появляется противоречие.
Последний вопрос. Стратег, который считал бы вечной истиной какое-либо дежурное высказывание об
относительном достоинстве наступления и обороны, совершил бы основной грех историка: поглощен-
ный уже известным не признает неизвестное. Идет ли речь о политике или войне, тот взгляд
прозорлив, который умеет отличать одно от другого. Но в наше время эта банальная формулировка и
здравый смысл не отвечают на действительный вопрос: при каждой технической инновации
пессимисты жаловались на возрастающую жестокость войн, а оптимисты выражали надежду, что
добро якобы происходит из зла, мир - из неограниченной мощи вооружений. До сих пор как те, так и
другие ошибались и события текли по привычному пути. Будет ли то же самое и на этот раз? И не
породило ли альтернативу: уничтожение или мир, так называемое оружие массового уничтожения, т. е.
атомное и термоядерное оружие?
Люди так же веками мечтали о небесном царстве на земле, об изобилии, о справедливо
распределенном богатстве. Не получили ли другой смысл эти тысячелетние мечты в эпоху, когда
прогресс техники позволяет удвоить иногда за пятнадцать или двадцать лет национальный продукт?
Идея человеческого единства не нова, и все религии спасения давали ей иную форму, но в середине XX
в. человечество находится на пути объединения в одну общую цивилизацию - цивилизацию
европейского толка и на пути охвата ею всех других континентов. Невозможность войн,
70
рост богатства всех без эксплуатации личности, однаковая организация труда во'всех обществах, — не
означают ли все эти три революции разрыв, единственным эквивалентом которого был бы разрыв
эпохи неолита — между культурой земледелия и культурой приручения животных? Неолитическая
революция дала ту историю, с которой мы знакомы шесть тысяч лет, историю цивилизаций, полисов,
империй и наций. Не открывает ли революция, связанная с использованием угля, нефти, атома со-
вершенно новую эру человеческой авантюры?
Нет необходимости и, может быть, возможности, чтобы историк отвечал на этот вопрос. Но он
неумолимо следует из нашего положения, выражает крайнюю недостоверность нашего исторического

сознания. Индустриальное общество, если только оно не рухнет в апокалиптическую катастрофу, есть
общая судьба человечества. Разрушает ли оно непрерывность культур, уничтожает ли разнообразие
людей и их творений? Какое разнообразие политических институтов, обычаев и верований допускает
это единое общество? Положит ли оно конец этому монотонному чередованию побед и поражений,
героических или гнусных конфликтов, которые почти всегда являются бесплодными и которые всегда
были законом истории со времени появления рождающихся и гибнущих цивилизаций?
Правильно используемое историческое познание помогает нам понять, как человек оказался в таком
мире, который мы наблюдаем. Но далекое от того, чтобы учить нас о том, что нет ничего нового под
солнцем, оно обязывает нас распознавать то, чего мы еще никогда не видели. По сравнению с научно-
технической революцией, безгранично расширившей средства созидания и разрушения, даже
политическая революция, перевернувшая соотношение сил и сведшая Европу к размерам небольшого
мыса Азии, - это только небольшая перипетия второго сорта. Но ничто не доказывает, что эта
революция исключает основные черты тысячелетней культуры, постоянство социальных институтов,
связанных с самой природой человека. Исторические обстоятельства или человеческое состояние:
историческое познание не игнорирует и не может игнорировать ни один из этих пределов, поскольку
современный человек вынужден задаваться вопросом о значении революции, через которую он
проходит, и смысле, который он помимо знаний и машин хочет придать своей жизни.
Если человечество, согласно выражению Бергсона, действительно есть машина для производства
богов, то оно живет метаморфозами, а не смертью богов.
Глава У. Фукидид и историческое повествование
История войн вышла из моды. Из всех тем внимание современников привлекают производительные
силы и социальная структура. Среди историков академического толка никто или почти никто больше
не видит основной причины становления в развитии вооруженных сил и вооружений. Кажется, только
еще экономика достойна представлять основу «синтеза» или объединения.
Историки редко бывают «милитаристами» или «воинственными» людьми. Хотя логически можно
приписать решающую роль людям или институтам, к которым питают отвращение, однако
психологически тем, что меньше всего любят склонны пренебрегать. Историческое воспроизведение
прошлого есть отбор; в конце концов может быть правомерно, что мы соизмеряем важность того или
иного аспекта исторического прошлого с тем интересом, который к нему сегодня проявляем.
«Недооценка» экономики в пользу «сражений» привела бы к риску оттолкнуть «прогрессивное» и
«просвещенное» мнение.
Прежде всего, такая позиция плохо отвечает реалиям нашего века. Можно было бы воскликнуть вместе
с поэтом: был ли какой-либо век больше чреват борьбой! Можно ли понять Европу, гегемония которой
полвека назад была признана и проиллюстрирована маршем на Пекин небольшой европейской армии
под командованием немецкого генерала, сегодня разделенную и обессиленную из-за двух жестоких
войн, управляемую здесь советским комиссаром, а там американским сенатором, которая как слабая
сторона обращаясь к мощным экстраевропейским державам, просит вести ее за собой? Первая
половина XX в. была эпохой больших войн, как об этом возвестил Ницше-прорицатель. Так ли будут
интерпретировать ее будущие историки?
Мы все сомневаемся в том, что ответим на такой вопрос. Но почему? Фукидид подробно рассказывал
про походы, маневры, столкновения гоплитов и триер на земле и на море. Все, что его интересовало -
это Пелопоннесская война, ничего другого. Он бегло обозрел века и ее отдаленные причины увидел в
образовании полисов. Подробно им излагаются решения собраний, выступления государственных
деятелей и стратегов, тактика полевых командиров, достоинства солдат. Человеческое действие как
таковое - я имею в виду действие одного или нескольких человек вместе с одним или многими людьми -
вот центр интереса Фукидида, цель его сочинения, которое, на наш взгляд, остается шедевром
античной историографии. Почему германская война 1914-1945 гг. не нашла своего Фукидида? Почему
мы готовы ответить «нет» до того даже, как об этом подумать, убежденные в том, что Фукидида XX в.
нет и не может быть?
Именно на этот вопрос пытается ответить данный очерк. Стала ли другой история или изменились
историки?
72
1
Рассказанная Фукидидом история
11
включает в себя присущую повествованию критическую
интерпретацию и прагматический или философский совет. Редко Фукидид прерывает повествование
для того, чтобы самому взять слово. Когда он это делает, то почти всегда для того, чтобы про-
комментировать очевидца, беспристрастие к которому позволяет установить истину. Так, в конце
седьмой книги есть эпитафия на могиле Ни-кия: «...Меньше всех из эллинов моего времени
заслуживший столь несчастной участи, ибо он в своем поведении всегда следовал добрым обычаям».

Обычно речи участников событий позволяют Фукидиду формулировать общие высказывания,
оставаясь в тени. Греки VB. до н. э., описанные в «Пелопоннесской войне», не подвержены двойной
опасности лицемерия и цинизма, которые порождают идеологии. Обращаясь к грекам Камарины,
посланники Афин, прямо говорят: «Ведь и в Элладе мы так же относимся к союзникам, исходя из тех
же оснований и сообразно нашим интересам. Хиосцы и мефимнейцы доставляют нам корабли, и в
остальном независимы. Некоторые же, хотя и островитяне, и их легко покорить, вполне свободны, так
как их острова расположены в важных пунктах для действий против Пелопоннеса» (книга шестая. 85).
Ни советские комиссары, ни американские сенаторы не решились бы говорить так откровенно.
Отсутствие идеологии - обмана или оправдания - наверняка является одной из причин, из-за которой
само повествование содержит критический анализ и в какой-то степени философскую интерпретацию
событий. Но не только это. Чтобы понять удовлетворение, которое дает повествование Фукидида,
нужно уловить как природу событий, так и природу смысла, который им придает историк.
С точки зрения Фукидида, разумеется, война — это не легкая рябь на поверхности исторической
волны. Она не есть жестокая и кровавая форма осуществления приговора судьбы или свершения
изменений, неизбежных в любом случае. Мы увидим, что у Фукидида фигурирует историческая
судьба, быть может, «исторический детерминизм». Тем не менее, историк имеет в виду действия
людей, потому что только они достойны изучения последующими поколениями, только они суть то, в
чем заключается и через что осуществляется историческое становление. Написать историю
Пелопоннесской войны - это значит рассказать, как афиняне, надменные и желавшие господствовать,
пренебрегли советами Перикла и, несмотря на их героизм и нечеловеческие усилия, потерпели
поражение. Подобно тому, как в трагедии развязка известна всем зрителям, исход этой битвы гигантов
известен читателям с того момента, когда они читают речь Перикла, произнесенную им перед началом
военных действий. Если мы умны, то победим, потому что мы - самые сильные, - таково примерно
содержание выступления оратора. Вероятно, Фукидид
12
хочет навести на мысль, что афиняне не были
бы побеждены, если бы оставались до конца мудрыми, не запрещая в то же время читателю думать, что
мудрость, которая позволила бы им избежать поражения, психологически не была возможна.
73
Историк может с течением времени не интересоваться персказом событий, потому что знает их исход.
Он как бы похож на зрителя трагедии, не интересующегося «Царем Эдипом», потому что с самого
начала представления знает, что Иокаста покончит с собой и что Эдип выколет себе глаза. Данное
сопоставление только внешне выглядит парадоксально. Ибо оно подтверждает пересказ, но
применительно к данным обстоятельствам. Нет приемлемых мотивов для того, чтобы рассказывать
жизнь людей, память о которых не заслуживает передачи последующим векам. Историческое
повествование предполагает определенное достоинство исторического объекта, т. е. людей, которые
пережили изучаемые события. Это достоинство в основном находится в политической сфере и, по
мнению Фукидида, в высшем акте политики - войне.
В наше время слово «политика» стало двусмысленным из-за англосаксонской неоднозначности слов
«policy» и «politics», из-за сомнения в первенстве того, что было принято называть политикой.
Политика-policy, политика Мишлен или «Дженерал моторе», нефтяная политика или политика,
связанная с выращиванием свеклы — это план действий, определяемый либо по отношению к тому,
кто ее осуществляет (Мишлен, «Дженерал моторе»), либо по отношению к отрасли, где он применяется
(нефть, свекла).
В широком смысле политика-politics обозначает во всех областях общественной жизни планы
действий, принятые людьми для организации или управления другими людьми. Поэтому политика-
politics находит свое завершение в поиске режима, т. е. способа, в соответствии с которым
определяются правила организации и управления. Можно говорить о политическом режиме крупных
корпораций (режим в них авторитарен в том смысле, что управляющие не нуждаются в консультациях
управляемых и в их одобрении). Режим полиса важен прежде всего, по крайней мере в глазах греков,
потому что руководители в этом случае руководят не определенным видом деятельности (скажем,
трудовой), а деятельностью, определяющей жизнь свободного человека, т. е. политикой.
Мы отнюдь не вращаемся в замкнутом кругу. Полис предполагает совместную жизнь людей. Каждая
коллективная деятельность включает в себя политику, стремящуюся подчинить ее той или иной
организации. Но искусство организации различных видов деятельности, их общего направления есть
преимущественно политическое искусство. Каждый режим представляет собой определенный способ
организации совместной жизни людей. Гражданин реализует себя в политике, потому что он хочет
либо влиять на своих сограждан в рамках режима, либо установить или изменить режим таким
образом, чтобы межличностные отношения соответствовали представлению, которое он имеет о
человеке, свободе и морали.
Если так понимать политику, то она всегда содержит элемент диалога между двумя полюсами: между
принуждением и убеждением, между насилием и спором среди равных. Политика — диалектика, когда

она осуществляется между людьми, которые взаимно признают друг друга. Она становится войной,
когда противопоставляет людей, которые признают свободу друг друга, но хотят оставаться чуждыми,
как, скажем, члены полисов, каждый из которых ревностно относится к своей независимости.
74
Цель-политики — это жизнь в соответствии с разумом. Однако такая жизнь возможна только внутри
полиса и под властью законов. Если кто-то творит произвол и если кто-то должен ему подчиняться, то,
каково бы ни было распоряжение руководителя и каковы бы ни были чувства подчиненного, первый
остается рабом своих страстей, а второй — лишенным свободы и неспособным на мужество.
Политическая добродетель полагает законы, следовательно, полис и мир.
Войны противопоставляют не индивидов, а полисы. Если убийство согражданина является
преступлением, когда оно совершается не палачом в соответствии с законом, то убийство противника в
бою есть долг. Военное насилие противоречит политическому порядку, который осуществляется
только внутри полисов, но оно не означает возврата в первобытное состояние. Человек на войне
проявляет некоторые свои животные инстинкты: он их также канализирует и дисциплинирует.
Двоякий характер войны (животный и человеческий) проявляется на всех уровнях. Как греки и
свободные люди, воюющие солдаты разобрались бы друг с другом, если бы их полисы не желали быть
свободными, если бы свобода коллективных существ в отличие от свободы граждан не исключала
подчинение законам. В бою обычно победа приходит к той стороне, которая является самой ловкой и
дисциплинированной, т. е. к той, которая подчиняется разуму, несмотря на жестокость сражения.
Война — это одновременно взаимодействие и соперничество. Она подвергает испытанию способность
людей объединяться для того, чтобы сражаться с другими людьми, тоже объединенных волей к
сопротивлению. Она возбуждает спесь господства и завоевания, но без того, чтобы это соперничество
полностью ускользало от разума. Спарта и Афины заключили перемирие, взяли на себя взаимные
обязательства (не нападать друг на друга, не переманивать сателлитов и т. д.). Есть международное
право, т. е. свод постановлений обычного права, которое фиксирует обязанности ведущих полисов, не
вовлеченных и вовлеченных в тот или иной лагерь. В каждом лагере отношения между ведущим
полисом и его союзниками или сателлитами подчиняются строгой регламентации. Фукидид просто без
маскировки и цинизма объясняет неравенство статусов полисов и различные причины (страх,
убеждение, интерес, осторожность), из-за которых полисы присоединяются к той или иной стороне.
Здесь мы далеки от современного принципа равенства государств, но также совсем далеки от еще
более грубой метафизики, которая не хотела бы признавать эту регламентацию, ни игнорируя и ни
уважая ее. Фукидид не так наивен, чтобы сомневаться в том, что в конечном счете в войне интерес
одерживает верх над правом или справедливостью, но война не имела бы в высшей степени
человеческого характера, если бы сила не преступала право для того, чтобы идти до конца своей
фатальности, к своему собственному разрушению.
Диалектика взаимодействия и соперничества, дисциплины и рвения, мужества и сообразительности,
права и силы, — между этими противоположными полюсами колеблется война, потому что она и есть
враждебность в действии и противоречие в движении. Завершенная политика есть результат
приведения к покою этих противоречий, она есть мир. Война — это развязывание противоречий,
преодоленных в стабильных режимах. Если политика — это разум, добродетель, мир, то война — их
отрицание.
75
Если разум, добродетель и мир имеют место только в короткие счастливые периоды, то война
напоминает образ бегущего поезда человеческого существования, неспособного к порядку, который
оно хочет постичь и цели, к которой его влечет.
На взгляд Фукидида, Пелопоннесская война - это совершенная, идеальная
13
война, поскольку она
демонстрирует полностью реализованные возможности войны. И все ее крайности здесь появляются и
расцветают. Это была смертоносная война, которая продолжалась тридцать лет и закончилась тем, что
мы назвали бы «абсолютной победой»: взятием Афин Спартой и ее союзниками, разрушением морской
державы. Она была беспрецедентной войной по продолжительности операций, по численности и
упорству воюющих сторон, по героизму солдат, по расширению театра военных операций, по размерам
последствий. Но еще больше, чем по своим пространственным и временным параметрам, эта война
идеальна по стилизации конкретных и абстрактных элементов.
В момент начала войны полисы находятся в апогее своего развития, как и сама греческая цивилизация.
В этой блистательной цивилизации Афины и Спарта сверкают всеми своими красками, каждый, так
сказать, является своего рода примером. Они вместе воевали против индийцев, но стали врагами,
потому что один не мог усиливаться без того, чтобы другой не чувствовал опасности для себя.
Известна фраза Фукидида том, что действительной причиной войны является страх, который внушало
Спарте и другим полисам растущее могущество Афин. Но поскольку эта враждебность была
порождена «соотношением сил» и признана всеми полисами, каждый из ведущих полисов находил в

отличии другого дополнительные мотивы вражды, а историк в конфронтации братьев-противников
видел новые мотивы восхищения творением судьбы.
Демократия против олигархии, море против суши, смелость против осторожности, — невозможно
перечислить все антитезы, сформулированные греческим историком. Если бы даже не было совершено
столько подвигов действующими лицами, все равно красота события очаровывает наблюдателя и
оправдывает повествование. Современному читателю следует только напомнить, что не спартанская
олигархия, а как раз афинская демократия, на взгляд греков, была империалистской. Открытые чу-
жеземцам, находящиеся всегда в состоянии движения, Афины, если сегодня можно употребить этот
термин, были более либеральными, чем их соперник. Но, тем не менее, именно они угрожали полисам.
Эпитеты, использованные нами для характеристики события, одновременно можно истолковать в
обычном смысле и в смысле, который им придавал Макс Вебер. Фукидид описал войну так, что она
нам кажется стилизованной и как будто рационализированной. Однако повествование связывает
последовательные события своеобразно. В этой оригинальности Фукидида современные комментаторы
не без некоторого труда давали себе отчет, потому что они употребляли слишком туманные понятия -
особенное, общее, - которые, очевидно, не применимы к практике Фукидида. Он не формулирует
законы и не отходит от того, что произошло в том или ином месте в тот или иной момент, и, тем не
менее, значение его повествования никогда не исчерпывается второстепенными деталями.
76
Мне кажется, что анализ с помощью методологии Вебера развеивает впечатление парадокса.
Историк описывает действия. Государственный или военный деятель не действует наудачу, реагируя
на ответное действие, или инстинктивно, он обдумывает свои поступки. Когда уполномоченные
Коринфа обращаются к народному собранию Спарты, чтобы рассказать об угрозе, которую создает
могущество Афин, когда Перикл приглашает афинян к тому, чтобы ответить на вызов и оказать
помощь Керкире, то они доказывают, аргументируют, стараются убедить, они призывают к
сохранению безопасности, взывают к самолюбию, к патриотизму тех, к кому обращаются. Другими
словами, само по себе дипломатическое и стратегическое поведение разумно. Современный человек,
который с трудом восстанавливает боевой порядок греков в бою, который не разделяет очевиднос-тей
(интеллектуальных и моральных) с персонажами Фукидида, составляющих структуру каждого
существования, тем не менее, в основном способен понять непосредственно без применения законов
или общих высказываний рассуждения послов и решения стратегов.
Почему? Потому что речь идет о действиях, которые Макс Вебер назвал бы zweckrational: они
предполагают учет средств достижения цели. Цель, связанная с поисками союзников, проста. То же
самое касается слов или действий. Но мне кажется, что веберовская формулировка рациональности по
отношению к цели недостаточна для уточнения характеристик дипломатического или стратегического
действия. В самом деле, веберовское определение охватывает поведение инженера, политика,
стратега, торговца. Но эти четыре категории должны различаться в зависимости от того, как
участник событий манипулирует материалами, людьми, на подчинение которых он рассчитывает, как
противопоставляет себя другим людям в более или менее регламентированной, жестокой игре или,
наконец, как он стремится извлечь пользу из игры, ставшей, так сказать, безличностной, в которой
успех одного не предполагает равноценной потери для другого. Оставим технические действия и ма-
нипуляции торговца. Дипломатическое и военное действия относятся к двум промежуточным
категориям - к манипуляции людьми с целью воздействия на других людей. Рассуждения в их
различных формах представляют собой признак этого собственно человеческого действия.
Речь Никия перед последней попыткой бегства афинского флота — это попытка военачальника
повлиять на людей, которые должны ему подчиняться. Речь Перикла такого же рода, она нужна не для
того, чтобы внушать смелость, а для того, чтобы продиктовать определенное решение Собранию.
Прямо противоположные выступления уполномоченных Коринфа и Афин перед Собранием Спарты
или афинян и сиракузян перед Собранием Камарины имеют целью воздействовать на людей, которые
не являются ни друзьями, ни врагами, не обязаны подчиняться, но против которых использование силы
еще не стало неизбежностью. Разумеется, как таковые эти выступления не были произнесены, и мы
никогда не узнаем, в какой мере действительно произнесенные речи походили на выступления,
которые нам были переданы Фукидидом. Для нас важно, что они могли быть в действительности
такими, какими мы их видим в этой книге. Будучи разумными по силе убеждения, они отражают
возмож-
77
ную рациональность дипломатического или стратегического поведения, особенно, или даже скорее,
когда их рассматривают через призму их единственного содержания.
Прежде всего, рациональность описанной Фукидидом истории связана не с общими законами или
понятиями, а с природой объекта, т. е. человеческого действия. Мы понимаем, почему Афины, Спарта,
Коринф, Керкира, Никий, Демосфен действовали так, как они это делали в подобной обстановке:
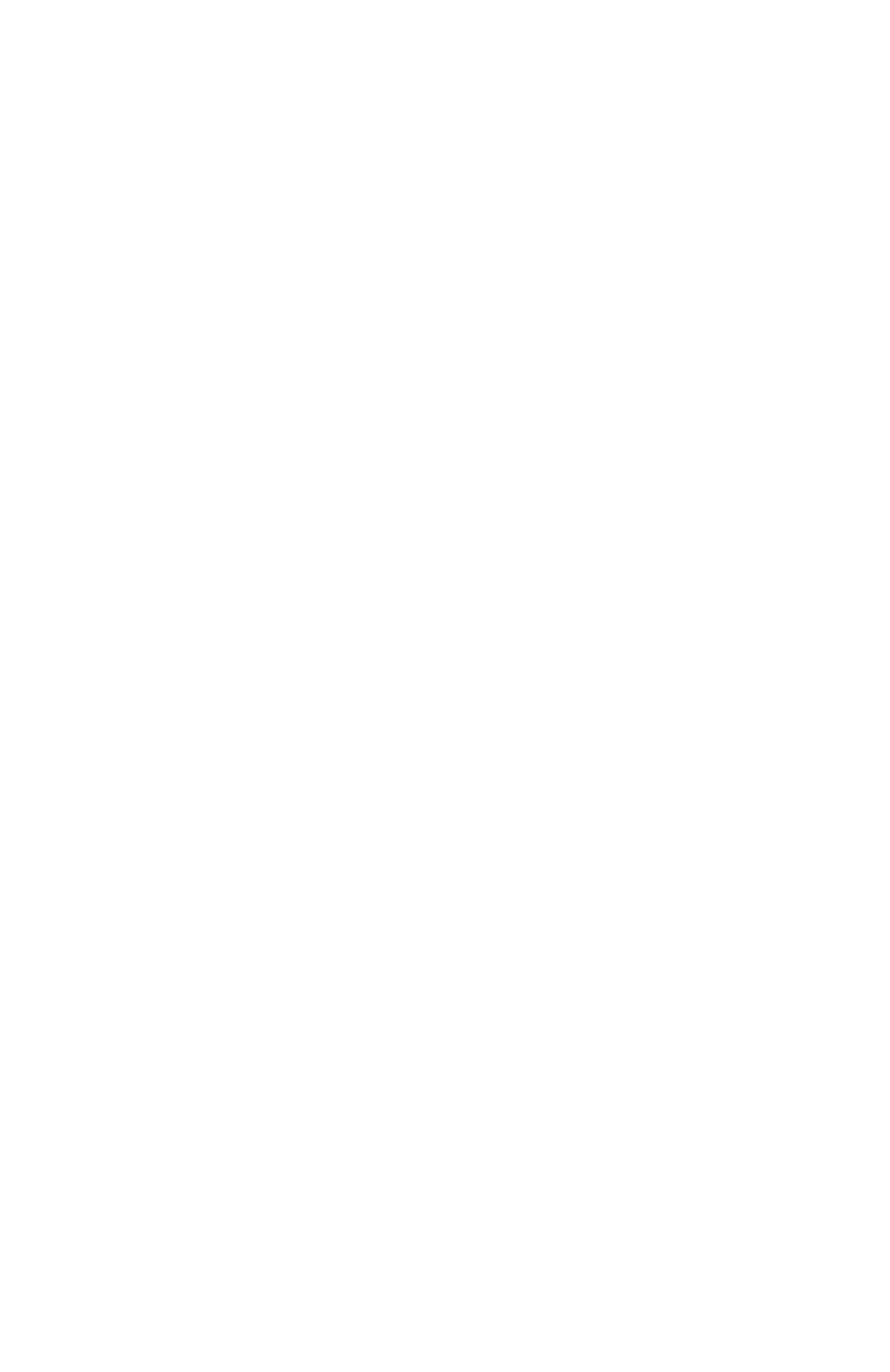
определено положение и цель - независимость, победа — почти очевидна. Поэтому решение следует из
расчета. Это решение нам кажется разумным, даже когда оно не предлагается Фукидидом как
единственно возможное, оно нам понятно, даже когда, в конечном счете, оказывается ошибочным.
Идет ли речь о дипломатии или сражении, все равно совершают переход от рациональности к
иррациональности, но не выходят за пределы непосредственной разумности. Сражения, которые
Фукидид неутомимо описывает, то подтверждают, то опровергают расчеты стратегов. Как правило,
историк сообщает о численном составе обеих сторон, о принятом расположении сил, признанном
качественном превосходстве одних или других (превосходстве спартанских гоплитов и афинского фло-
та). Затем в различных формах проявляется случайность, в частности такая, против которой стратег
ничего не может сделать: потеря контроля над солдатами в пылу битвы (можно вспомнить первую
ночную атаку армии Демосфена, в поддержку Никия, которая началась успешно, но затем потерпела
крах во мраке и беспорядке). Фукидид старается прояснить ход битв, соотнеся их с целями стратегов, с
игрой воюющих между собой умов. Вместе с тем он делает понятным само событие, которое
расстроило надежды того или иного стратега, а иногда и обоих. Когда битва в целом не понятна, то
остается только констатировать исход: «Ведь даже и днем, когда можно яснее видеть происходящее,
отдельный участник битвы едва знает лишь то, что самому пришлось испытать, а не общий ход
событий в целом. Как же можно было представить себе ясную картину этой ночной битвы, причем
единственной в эту войну между большими армиями?»
14
.
Разумность инструментального и рискованного поведения передается, с точки зрения наблюдателя,
событию, которое не было желательно и не предвиделось никаким из участников события, которое
было либо случайным результатом беспорядка индивидуальных действий (случай ночной битвы), либо
результатом того, что хитрость одной из сторон заставила другую сторону оказаться в состоянии
растерянности, либо, наконец, результатом того, что природные явления — ночь, ветер, лунное
затмение — ускорили ответные действия, которые понятны как по отношению к принятому решению
так и по отношению к его отрицанию. Переход от индивидуального действия к сверхиндивидуальному
событию совершается через все повествование непрерывно, без замены воссоздания фактов общими
высказываниями, простым сравнением того, что хотели участники событий, и того, что произошло.
По мере того как Фукидид постепенно распространяет разумность поступка, желаемого действующим
лицом, на событие, которого никто не хотел, он это событие, которое соответствовало или нет
намерени-
78
ям учас'вников событий, приподнимает над историческим своеобразием, освещая его с помощью
абстрактных, социологических или психологических терминов.
Можно было бы привести многочисленные примеры такого анализа в абстрактных терминах. Мы
возьмем только один из них, а именно пример, касающийся союзников Афин, который Фукидид
рассматривает перед последней битвой Сицилийской экспедиции. Почему те, кто не является ни
афинянами, ни сиракузянами, ни спартанцами, сражаются на одной или другой стороне? Фукидид
начинает с различения четырех факторов: справедливость, национальное родство, интерес, страх
[81кт|, ^wyyeveia, ^\)|xcpEpov, а\аукг\]. Почему сражаются Афины ясно: они как ионийцы должны
сражаться с дорийцами, и поэтому их сопровождают те поселенцы, которые говорят на их языке и
имеют такие же учреждения. Но национальное родство не объясняет состав афинской армии, ибо
жители Эвбеи или островов, все или почти все были афинского происхождения, но они платили дань и
поставляли корабли по принуждению, будучи зависимы от империи [гжт|коог]. Из не ионийцев
эолийцы подчинялись принуждению [кат ссуаукцу]. Только платеи подчинялись не необходимости, а
своим страстям, потому что они враждебно относились к беотийцам. Занятие определенной позиции
жителями островов главным образом диктовалось необходимостью (афинское морское господство).
Ненависть толкала жителей Керкиры против Коринфа, колонией которого они являлись. Остается
только несколько редких случаев. Так, жители Аркадии явились в основном из-за дружеского
отношения к Демосфену, изгнанные из Мегар (политические противники партии, стоящей у власти в
их городе) помогали из-за преданности афинянам. Наконец, греки из Тороны и Метапонтия явились в
связи с революционными обстоятельствами.
Повествование не останавливается и, тем не менее, анализ, который мы назвали бы социологическим,
выходит на поверхность. В случае с общей войной внутри системы политических союзников,
ревностно относящихся к своей независимости, небольшое число мотивов определяет преданность
каждого из них, нужда не позволяет маленьким полисам, находящимся в зоне господства крупной
державы, оставаться нейтральными или вообще присоединиться к другой крупной державе,
являющейся противником той крупной державы, которая над ними доминирует. Иной раз именно
национальное родство, сходство языков или режимов определяет альянсы; иной раз, наоборот, —
ненависть между братьями по крови или по языку: как, например, ненависть против сограждан,
захвативших власть, толкала жителей Керкиры или изгнанных из Мегар в лагерь Афин. Едва ли есть

необходимость в еще большем обобщении, чтобы эти интерпретации единичных случаев были ис-
пользованы при изучении других веков.
Является ли включение, если можно так выразиться, социологического анализа в повествование
следствием мастерства автора или отражением реальности? Я охотно отвечу на то и на другое
одновременно. Пелопоннесская война, так сказать, стилизована и идеализирована. Каждый из двух
главных участников событий представляет почти чистый тип. Всегда находящиеся в движении и
управляемые страстным и непостоянным
79
народом Афины основывают свою мощь на морском флоте и собственном богатстве. Решения
Собрания будут поочередно то следствием потребностей, которым, в конце концов, подчиняется
морская держава, то следствием необдуманных увлечений, которых не избегает народ, и той воли к
господству, которую сами официальные представители Афин представляют как самый универсальный
и самый нормальный импульс. Достаточно вспомнить эти три мотива, чтобы понять разницу между
возможностями интерпретации и возможностями предвидения, чтобы также понять чувство,
испытываемое многими комментаторами, что Фукидид формулирует и предлагает законы или, по
крайней мере, всеобщие высказывания.
Чтобы сохранить свое господство на море, морская держава вынуждена постепенно подчинить себе
острова, перешейки, полуострова в море, где намерена доминировать. Очевидно, это высказывание
слишком туманно, поскольку стратегическая ценность островов меняется в зависимости от военно-
морской техники, от людских резервов, находящихся на базах, и т. д. Но оно остается понятным,
потому что соответствует потребностям борьбы не на жизнь, а на смерть. Морская держава стремится
контролировать острова, откуда соперник может угрожать ей, и перешейки или полуострова, которые
господствуют над переходными путями. Это абстрактная потребность, но Фукидид констатировал, что
Афины не могли ею пренебречь. Он не стремился, подобно социологу, оправдывать или уточнять
высказывание путем перечисления обстоятельств, которые определяли или ограничивали его
реализацию. Он его сохранил имплицитно для того, чтобы детерминизм войны не был оторван от
людей в тот самый момент, когда он их тиранит.
Эти психологические или психосоциальные правдоподобия делают понятными одновременно
человечность и бесчеловечность, трагический характер исторической судьбы. Морская держава
вынуждена бросаться вперед, потому что на ней лежит тяжелая ответственность господствовать на
морях и обязанность быть или казаться всегда сильной, чтобы сохранить свою империю. Но для
умножения своего могущества она должна стремиться к новым завоеваниям (Сицилия), требовать от
своих союзников больше кораблей и больше денег. Самим фактом войны Афинская империя делается
все более и более тяжеловесной. Афины должны показать себя безжалостными по отношению к
бунтовщикам и инакомыслящим, потому что они больше не могут рассчитывать - это им известно —
на добрую волю своих союзников или своих подданных.
На нижнем уровне битвы три фактора создавали контраст между намерениями и событием:
столкновение намерений, потеря дисциплины (то есть желаемого порядка) участниками событий,
вмешательство непредвиденного явления, в частности космического. На уровне политики причины
расхождения между намерениями и событиями - другие. Они и более сложны, и более трагичны.
Сама война вынуждает людей на, так сказать, иррациональные действия. Она была вызвана
второстепенными конфликтами - страхом, который афинское могущество внушало греческим полисам
и особенно Спарте. Как она могла закончиться? Победой Афин, которые могли распространить свою
империю на всех греков, включая греков Малой Азии,
80
СицилицХ Италии? Возможно, на взгляд Фукидида, эта триумфальная цель с самого начала была
исключена: основание афинского могущества было слишком узко. Афины огромную часть своих
ресурсов постепенно заимствовали у своих союзников и тех, кого обложили данью, они становились
уязвимыми для мятежников в своей империи и все более и более уязвимыми в той мере, в какой эта
империя расширялась. Возможно, по этому поводу Перикл, анализируя уроки, которые сам Фукидид
извлек из событий, советует афинянам не расширять свою империю и обещает им, что если они
последуют этому правилу осторожности, то победят. Но если они не будут расширять свою империю,
им придется довольствоваться частичной победой, имеющей оборонительный характер. Они должны
были показать Спарте, что она не в состоянии их ограничить. Мир был бы после войны тем, чем он
был до нее: хрупкое равновесие многочисленных полисов, большинство из которых сгруппировалось
вокруг двух крупных полисов Афин и Спарты. Но был ли возможен такой возврат статус-кво? Считал
ли Фукидид, предполагал ли сам, что такой мир был возможен?
Затрудняюсь ответить. Критикуя демократию и тех, кого считает ответственными за конечную
катастрофу — сторонников Клеона или Ал-кивиада, Фукидид вместе с тем осуждает эксцессы
надменности, которые вопреки благоразумию Перикла увлекли афинян к чрезмерным действиям. Но

могли ли афиняне с точки зрения природы демократии и природы человека довольствоваться тем,
чтобы только не быть побежденными? Раз была развязана война, то не должна ли была одна сторона
полностью быть побежденной? Взятие Афин или взятие Спарты
15
. А был ли третий путь? Эти вопросы
Фукидид четко не ставит, но он их подсказывает своим читателям. Последний мотив полисов — это
двойная забота, связанная с независимостью и господством. Каждый полис хочет сохранить свою
независимость, но самые крупные, в первую очередь Афины, хотят господствовать, оправдывая это
господство заботой о безопасности. «Мы заявляем: мы господствуем над городами в Элладе ради
собственной независимости и пришли сюда освободить сицилийские города, чтобы враги не обратили
их против нас»
16
. Это соперничество в борьбе за безопасность и могущество могло продолжаться без
жестокой войны не на жизнь, а на смерть, но это — теоретически, а с точки зрения самой природы
соперничества понятно, что данная война, выражаясь словами Клаузевица, должна была дойти до
крайностей. Абсолютная безопасность предполагает абсолютное господство. Безопасность одного
полиса ведет к порабощению другого. Поставив независимость превыше всего, полисы тем самым
делают всякий мир невозможным, поскольку благо, которого каждый хотел добиться, — это
удовлетворение собственного самолюбия или жажда славы, и это, как писал Д. Юм, может быть,
невещественное благо. В конце концов, может быть, это меньше нестабильности демократий или
страсти господствовать, которая несет ответственность за жестокость войны и падение Афин, чем
конечная цель всех воюющих сторон. Если каждый хотел, чтобы было признано его превосходство, то
только полная победа могла удовлетворить амбиции тех и других. За эту неуловимую цель все
боролись насмерть. Ценой успеха или поражения являлись слава или унижение, а не богатства или
потери, которые следовали за славой или унижением.
81
Никто не хотел этой войны, никто ее заранее не планировал, никто постфактум не оказался
виновником, но еще больше, чем полисы, политические режимы или потребности борьбы, сам человек,
неизменный человек, толкаемый постоянными побудительными причинами, проявляется в этом
трагическом событии, являющемся делом всех участников событий, осознающих свои поступки, но не
осознающих своей участи.
2
Анахроничен ли такой способ описания истории? В состоянии ли мы с помощью наших методов или
науки совершенно по-новому осветить Пелопоннесскую войну, обновить стиль повествования или
способ интерпретации?
Прежде всего, отметим, что сам Фукидид пользуется двумя способами написания истории: один способ
он применяет в первой книге, когда в общих чертах прослеживает образование полисов, войны против
мидий-цев и формирование двух соперничающих объединений, экономическую, политическую и
социальную историю, которая связана о тем, что прежде всего стремятся изучить современные
историки: развитие полисов, различных режимов, роль морских связей, флота, денег. Этот эскиз
несовершенен и уступает воспроизведению, на которое способны современные историки. Но, в
сущности, от них не отличается. Удивляет то, что Фукидид подробно описывает великую войну и
ограничивается описанием главного из тех веков, которые ей предшествовали.
Оставим временно вопрос о том, прав или нет Фукидид, интересующийся больше тем, как
происходили события. Раз допускается, что едва ли стоит великую войну описывать год за годом, а
иногда и день за днем, то спрашивается, не является ли способ изложения Фукидида ошибочным или
пристрастным.
Еще больше вопросов возникает о том, какую роль экономическая интерпретация могла бы или должна
была бы играть в повествовании Фукидида. Достаточно ознакомиться с первой книгой, чтобы
убедиться в том, что Фукидид не игнорирует важность того, что мы сегодня называем экономическими
причинами. Но при непосредственном изложении самой войны политические, стратегические и
психологические мотивы почти полностью исключают так называемые экономические причины.
Конечно, нередко на решения влияло или его определяло желание пополнить казну, добиться
получения дани или обеспечить снабжение зерном Афин или армии. Деньги и товары фигурируют в
качестве необходимых средств жизни полиса и мобилизации солдат. Но в качестве чего они могут
фигурировать с того момента, когда военная победа становится целью?
Так называемая экономическая интерпретация может проявляться в трех различных формах: либо
воюющие стороны вовлечены в войну (не осознавая этого) экономическими потребностями или
экономическими трудностями (образец: ленинская теория империализма); либо воюющие стороны
используют войну в экономических целях; либо, наконец, образование союзов, принятие позиций тех
или других, ход войны опреде-
82
ляются эюномическими причинами. Ни одна из этих интерпретаций по отношению к Пелопоннесской

войне не является очевидной или, вернее, все три маловероятны. Строго говоря, можно утверждать, что
нехватка ресурсов по отношению к численности населения способствовала (но не была
определяющей) развязыванию непрерывных войн между полисами. Ничто не запрещает думать, что
каждый гражданин хотел для себя свободы, что такой же свободы хотел для себя каждый полис, имея в
виду другую цель, чем саму свободу. Желание господствовать тоже носит спонтанный и первичный
характер, как и желание иметь богатство, и богатство тоже обычно служит господству и наоборот. Что
касается привязанностей и неприязни, успехов и неудач, то они явно объясняются многими мотивами,
которые Фукидид не имеет никакого основания сводить к единственной или исключительной причине.
Контраст между краткостью изложения предыстории, обрисованной в общих чертах, и множеством
деталей в описании войны может быть смягчен в истории, написанной современным историком. Для
этого было бы достаточно дополнить предысторию, сократить описание войны, и главное бы
сохранилось. Социология полисов, их политических режимов или их экономической организации, на
манер Аристотеля, история создания полисов, колоний, морских флотов не объяснила бы и не уст-
ранила бы описания военных событий. Единственный способ понять события в точном соответствии с
их проявлением — это, как делал Фукидид, представить события во времени и пространстве.
Разумеется, что форма изложения будет несколько другой. Историк не имеет права выдумывать речи,
которые не произносились. Что касается действительно произнесенных речей с трибуны Собрания или
перед микрофонами, то они не имеют того же значения, какое имеют речи, воспроизведенные
Фукидидом, ввиду уступок, которые ораторы наших дней делают идеологии или безрассудству толпы.
Когда Уинстон Черчилль восклицал: «Give us the tools, we will finish the job»
17
, то он знал, что «boys»
(люди) не менее нужны, чем «tools» (инструменты).
Принадлежа к цивилизации, высшее испытание которой он описывает, Фукидид забывает яснее
изложить многие данные, повторявшиеся в течение тридцатилетней войны и необходимые будущему
читателю. Он не описывает виды оружия, кратко описывает перегруппировку солдат, методы борьбы,
правила, которые более или менее без определенной цели наблюдали в течение боя и после.
Специфические подробности, рассказываемые Фукидидом, когда он описывает экспедицию в Сици-
лию, могут породить гипотезу о том, что соперничество в изобретательности, соревнование хитрости и
нововведения не играли в других обстоятельствах той же роли.
Каковы бы ни были дополнения и поправки, которые допускало бы повествование Фукидида, его
характер все равно не изменился бы. Социолог, историк культур, классов, цен, промышленности или
идеологий не смог бы, если бы он заинтересовался великой войной 1914—1918 гг., избежать рассказа о
действиях, понятного по отношению к участникам событий, понятного изложения свершившихся
фактов или описания крупных совокупностей событий путем сравнения с противоречивыми намерени-
ями участников событий. История событий не сводится к истории обществ,
83
классов и экономик. Она не сводилась в VB. до н. э., она остается таковой и в XX в. н. э. В чем состоит
эта несводимость и каковы ее причины?
Первое наблюдение приходит в голову само по себе: несводимость события к стечению обстоятельств
нельзя путать с несводимостью политики к экономике. И в экономике также событие не сводится к
стечению обстоятельств: успех Рокфеллера не вытекает из его свободного предпринимательства или
погони за черным золотом. Пятилетние планы являются не следствием изъявления воли огромной
России или следствием ее геологической, географической и экономической структуры в 1928 г., а
результатом воли одного или нескольких человек. Событие в том смысле, который мы придаем этому
термину, т. е. локализованное и датированное действие, совершенное одним или несколькими лицами,
никогда не сводится к стечению обстоятельств, если только мы мысленно не исключим тех, кто
действовал, и не заявим, что любой на их месте сделал бы то же самое. Как только событие становится
деянием индивида (или индивидов), оно представляется необходимым лишь в том случае, если его
отделяют от действующего субъекта, заменяя последнего кем угодно, то есть дезиндивидуализируя его
(или, если хотите, деперсонализируя его).
В этом первом смысле слова событием является не только объявление войны или экспедиция в
Сицилию, а также любой поступок с момента его зарождения. Что не было бы «Критики чистого
разума», если бы не было такого уникального человека, как Кант, то — не теория, а очевидность. Каков
бы ни был ранг действия, такое событие, как проявление сознания в определенной точке пространства
и времени - характерная черта не политики, а аспект человеческого прошлого. Однако этот аспект не
имеет одинакового значения во всех рангах, и элиминация события происходит неодинаково в
зависимости от того, идет ли речь о философии, науке, искусстве, экономике, войне.
В частных историях, то есть историях, касающихся специфической деятельности, историк хочет спасти
событие, то есть чудо человека или творения его рук, и снова найти целостность и непрерывность,
единство стиля, школы, эпохи, преемственность в открытиях, разработках или завоеваниях.
Преемственность в науке не такова, что преемственность в искусстве или философии, и несоответствие

между своеобразием, заключающимся в своей единичности, и своеобразием как элементом целого и
моментом становления снова обнаруживается во всех случаях. Можно задаться вопросом, что
изменилось бы, если бы Кант не родился или умер бы до исполнения ему пятидесяти лет, то есть если
бы не была бы написана «Критика чистого разума? Значило бы это что-то само по себе? Было бы все
по прежнему? В конце концов такой вопрос может быть теоретически поставлен. Но он почти не
вызывает интереса, ибо можно ли постичь идеи, которые сегодня стали составной частью нашего мира,
без «Критики чистого разума»?
В плане экономики относительное безразличие к событию связано с многими обстоятельствами.
Экономика определяется проблемой (как обеспечить равновесие между потребностями и их
удовлетворением) или способом анализа и расчета. Труд, производство, торговля предполагают этот
способ анализа и решают проблему, но никакая человеческая деятельность полностью не может быть
определена своим экономическим
84
содержанием: то, что принято называть событием в экономике, это — открытие знаний или орудий,
которые видоизменяют данные проблемы, неожиданная модификация определенного решения
проблемы или, наконец, поступок одного или нескольких лиц, который дает внутри системы такие
эффектные результаты, — что оказывает влияние на нее. Были написаны биографии торговцев или
капиталистов, потому что эти великие люди стали одновременно символами и выражением своего
времени и потому что они осуществили свой труд - свой успех, - который нас как таковой интересует и
который неотделим от их индивидуальности. Может быть, научные или технические открытия
являются мгновенными, иной раз случайными, чаще всего они кажутся подготовленными рядом
исследователей и порождаются потребностями обстоятельств, но они оказывают свое влияние только
постепенно. Что касается модификаций, связанных с «решением проблемы» (способ производства,
обмен или распределение),то они кажутся политическими с момента их неожиданного появления.
Закрытие проходов в Средиземное море из-за арабских набегов или исчезновение русских деревень из-
за отмены частной собственности — это военная победа исламских кавалеристов или триумф Сталина
под сенью Кремля, являющегося причиной этой экономической революции.
Иное место события в экономической области и иной интерес, который историк придает
экономическому событию, легко объясняются друг другом. Экономика как таковая представляет собой
коллективный феномен, она есть жизнь коллектива, проявляющаяся в осознанной или неосознанной
форме, в способе принимать решения, которые связанны с диспропорцией между реальными или
возможными желаниями и ресурсами. Подобно поведению дипломата или стратега, экономическое
поведение индивидов поддается рациональной интерпретации. Будучи кооперативным на уровне
производства, оно обычно предполагает элемент игры и соперничество на уровне обмена и
распределения. Но этот элемент находится на уровне индивида: индивидуальные решения торговца
оказывают воздействие на целое только в незначительной степени. Поскольку политическим мы
называем действие, призванное объединять, сохранять и управлять социальным целым, политическое
поведение нам непосредственно кажется событийным, поскольку решения, которые сказываются на
жизни - способствуют благосостоянию или упадку коллективов, — принимаются индивидами и часто
могут восприниматься как несоответствующие, если предполагается, что они приняты другими. В этом
смысле крупные решения, которые производят переворот в экономической организации общества,
являются по определению политическими, поскольку они являются делом индивидов, способных в
силу их положения влиять на жизнь своих сограждан.
Историки, не интересующиеся социологией и не имеющие философских убеждений, часто на манер
Сеньобоса, говорили: «В политике господствует случайность». Конечно, данная фраза слишком проста
и двусмысленна. Но наивные историки предлагают истину, которую не признают историки-социологи
или историки-философы. В том виде, как они произошли, события не могут быть интегрированы или
сведены к стечению обстоятельств - к организации полисов, форме режимов, за-
85
конам функционирования экономического или политического режима. Правомерно возвыситься над
событиями в том виде, как они произошли, чтобы проследить общие линии развития. Первая книга
Фукидида не менее правомерна, чем последующие семь. Но возможность резюмировать последующие семь
книг в духе первой не означала бы, что ход событий не мог быть другим и что этот ход нас не интересует.
Вопрос: что произошло бы, если бы..Л обязательно ставится перед историком, который изучает прошлое в
событийном аспекте. Данная нами дефиниция события сразу же позволяет установить связь между событи-
ем и случайностью. Поскольку событие есть действие одного или нескольких лиц и поскольку мы
инстинктивно предполагаем свободное действие или, если хотите, выбор, то мы его не считаем неизбежным
в данной ситуации. Отсутствие неизбежности означает, что действующий субъект, не являясь по существу
другим, мог бы принять и другое решение (Никий мог бы отдать приказ об отступлении экспедиционному
корпусу на несколько недель раньше) или что другой индивид рано или поздно мог бы принять такое же
