Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания
Подождите немного. Документ загружается.


желающим взять власть, тем в понимании меньше сомнения. Факт то, что Перикл руководил по-
литикой Афин, когда разразилась Пелопоннесская война, факт то, что Цезарь перешел Рубикон и что
Ленин дал приказ о государственном перевороте, после чего последовали семь дней, которые потрясли
мир. Чем больше историк связан с событиями, чем больше он сводит людей к
36
историческим персонажам, тем меньше он, так сказать, прощупывает живое естество прошлого.
Но историк, который ограничится констатацией того, что большевистские лидеры осенью 1917г.
совершили попытку и добились государственного переворота, который объяснит их поведение
благоприятными обстоятельствами, созданными войной и первой революцией, был бы весьма
неглубоким. Ленин и его сподвижники политику представляли сообразно определенной доктрине,
которая, кажется, исключала само их начинание, поскольку с точки зрения этой доктрины социализм
должен следовать за капитализмом и требует такого развития производительных сил, которое еще не
было известно в России. Поэтому историк русской революции и советского режима старается сделать
понятным образ действий, которым руководствовались Ленин и его окружение, в свете их доктрины, в
зависимости от интерпретации, которую они дали каждому мгновению (их борьбы), в соответствии с
обстоятельствами, с их темпераментом и т. д.
Если хотим более непосредственно уловить цель и проблематику такого рода понимания, перейдем от
Ленина к Хрущеву. Когда он утверждает, что в случае термоядерной войны капитализм будет
уничтожен и что социализм одержит блестящую победу, то искренен он или нет? Как он представляет
себе неизбежную победу социализма? Каковы характерные черты, определяющие социализм, победа
которого неизбежна? Каково историческое видение, диктующее деятельность нынешнего секретаря
партии? Каковы его стратегические и тактические правила? Все эти вопросы носят не академический, а
политический характер, поскольку ответы представляют собой так же предсказания о будущих
решениях коммунистических лидеров. В этом смысле, согласно банальной формулировке,
историческое воссоздание есть ретроспективное предвидение, оно ведет к разработке системы
интерпретации, которая позволяла бы предвидеть действительно случившееся поведение.
Если мы в нашем особенно подходящем примере остановимся на коммунистических руководителях, то
в голову сразу приходит несколько замечаний. Часто говорят, что историческое понимание требует от
историка самоотрешения, признания отличия от себе подобных (или от некоторых себе подобных). Нет
ничего более справедливого, чем эта банальность. Причиной многих ошибок, совершенных
президентом Рузвельтом, была его убежденность в том, что он имел дело с людьми подобными себе,
демократами, немного склонными к насилию, но в конце концов чувствительными к доводам рассудка
и к доводам американского политика. Вся концепция правления тройки (или двойки), которая должна
была установить мир после поражения Германии и Японии, была связана с мыслью, что
коммунистические руководители были такими же «людьми, как и мы», видение мира которых
несущественно отличается от видения мира американских руководителей, которые не представляли
себе русские интересы или интересы коммунистического дела как существенно противоположные
американским или европейским интересам. Исторические личности, которых интерпретирует историк,
изменяются.
Но эти меняющиеся люди тоже имеют общие черты, за неимением которых историк был бы не
способен их понять. Историческое понимание заключается в том, чтобы схватить различие, исходя из
подобного,
37
или схватить подобное, исходя из различия. В выбранном нами примере различия располагаются в
плане отображения мира, иерархии ценностей, тактических правил действия, конечных целей, гипотез
о ходе истории, одним словом, способа осмысления историко-политического мира. Выразим в
абстрактных терминах вывод из этого примера: человек, который меняется в зависимости от общества
и времени, — это человек культуры. Эти изменения вполне совместимы со стабильностью биологии
человека, собственно логических функций или психологических механизмов. Советский человек не
создал социалистической физической науки, хотя он отвергает психоанализ, психоаналитики не
считают, что они должны выбирать другие теории для его понимания. Психоанализ объясняет других
людей путем применения одних и тех же понятий
2
.
Когда целью является понимание участников событий, то каким образом представлена связь данных и
выводов? Данные множественны: действия, тексты, слова, памятники. Цель науки — не познать все
(мы никогда не завершим собирание текстов и действий большевиков), а понять целое. Невозможно
также установить строгое различие между данными и выводами, между тем, что мы знаем как факт, и
тем, что мы выводим из фактов. Прошлое поведение коммунистических руководителей в целом
представляет собой очевидность, на которой базируются все наши выводы относительно их будущего
поведения. Нужно ли ожидать в случае оккупации Восточной Европы русской армией советизации
«освобожденных стран», учитывая манеру мышления Сталина и его окружения? На чем зиждется

ответ, данный «экспертами»? На долгом знакомстве с документами, на глубоком анализе
идеологической системы коммунистов, на гипотезах относительно психологии самого Сталина.
Гипотеза подтверждается событием, которое она помогла предсказать. Было бы опасно думать, что
она проверена, потому что гипотеза — определенная форма мышления или определенный психо-
логический механизм — не является единственной, исходя из которой можно было бы сформулировать
вывод. (Попыталось бы царское правительство сделать постоянным свое господство в Восточной
Европе? Объясняет ли идеология всеобщего распространения коммунизма советизацию Восточной
Европы или это просто осознание «национального интереса» русского государства?)
Связь между данными и выводами в случае, касающемся понимания участников событий, таким
образом, является безусловной характерной чертой интерпретации текстов и людей, носящей
кругообразный характер. Что значит та или иная фраза того или иного участника событий? Нужно
знать в целом мысль этого участника событий, чтобы иметь наилучшие шансы не ошибиться. Но как
добраться до этой мысли в целом, если не путем накопления подробностей? Движение туда и обратно
между частью и целым неизбежно, обязательно. Доказательство вычленяется постепенно путем
обработки частей и улавливанием целостности. Это, по существу, — бесконечный двойной прием.
Не следует ли, однако, ухватиться за центральную точку, исходя из которой целое становится
понятным? Этот вопрос нас приводит к проблеме, которую мы будем изучать ниже, проблеме
исторического целого. В данный момент ограничимся элементарным, но существенным замеча-
38
нием: ничто не доказывает, что существует только одна интерпретация человека, секты, общества,
эпохи, что только она является приемлемой или более приемлемой, чем остальные. Рассмотрим эту
множественность интерпретаций в случае с пониманием одной персоны.
Возможно, что психоаналитик после долгого изучения будет в состоянии установить то, что
действительно представляла собой история индивида. История А. Жида, рассказанная
психоаналитиком, необязательно самая глубокая и самая поучительная интерпретация произведений
или мыслей Андре Жида. Когда речь идет о многих людях — секта, партия, эпоха, общество, — то
сомнительно, чтобы психоаналитическая интерпретация достигла той же вероятности, которой
достигают в случае с индивидуальным анализом, то есть с анализом индивида. Во всяком случае если
даже такая интерпретация этого достигнет, все равно она для историка будет мало поучительна.
Понимание идеологического мира большевиков для него имеет большее значение, чем понимание
(двусмысленное и сомнительное) психологических механизмов, способствующих определению
большевистского способа мыслить и действовать.
Не является ли одной из целей, которой задаются или будут задаваться историки России XX века
понимание психического мира большевиков? Является ли целью, которую ставят перед собой
историки античной Греции, понимание психического мира Афин V века до н. э.? И не носит ли это
понимание, по существу, незавершенный характер, которое всегда можно углубить или в которое
можно внести дополнительные уточнения? Не существует однозначности интерпретации в познании,
потому что, может быть, в действительности нет единого образующего принципа. Человеческая
действительность как таковая двусмысленна. Мысль о том, что человек «делает себя с кого-то»,
зависит от того, кем они оба являются. Понимание людей одних другими есть, по существу, диалог,
обмен.
Научное стремление историка ведет не к устранению этого элемента диалога, а к исключению
произвола, несправедливости и пристрастия. В общей интерпретации человечества всегда продолжает
существовать часть вывода, но эта интерпретация научна тогда, когда она учитывает все данные.
Историк достигает научности не путем деперсонализации, а путем подчинения своей субъективной
точки зрения строгой критике и точности доказательства. Он никогда не дает окончательную картину
прошлого, но иногда он в конце концов представляет его приемлемое изображение.
3
Второй вопрос: почему и как произошло событие, - есть вопрос исторического детерминизма. В самом
деле, рассматривать некоторый факт как событие значит допустить возможность, что он мог бы не
иметь места (по крайней мере, к моменту когда он произошел). Можно задаться вопросом о причинах
австро-венгерского ультиматума Сербии или европейской войны 1914 г., потому что ультиматум или
всеобщий конфликт являются результатом решений, кем-то принятых, решений, которые не казались
неизбежными. Исследование законов в естественных или даже в общественных науках постулирует
детерминизм, разработка которого является целью ис-
39
следования. Изучение причин относительно истории, и особенно истории людей, предполагает
случайность (что не означает индетерминизма), то есть внезапное появление в определенное время в
определенном месте данного, которое не было необходимым следствием законов (автомобиль, который
заносит на дороге и который только что наехал на дерево, двигается соответственно законам природы:
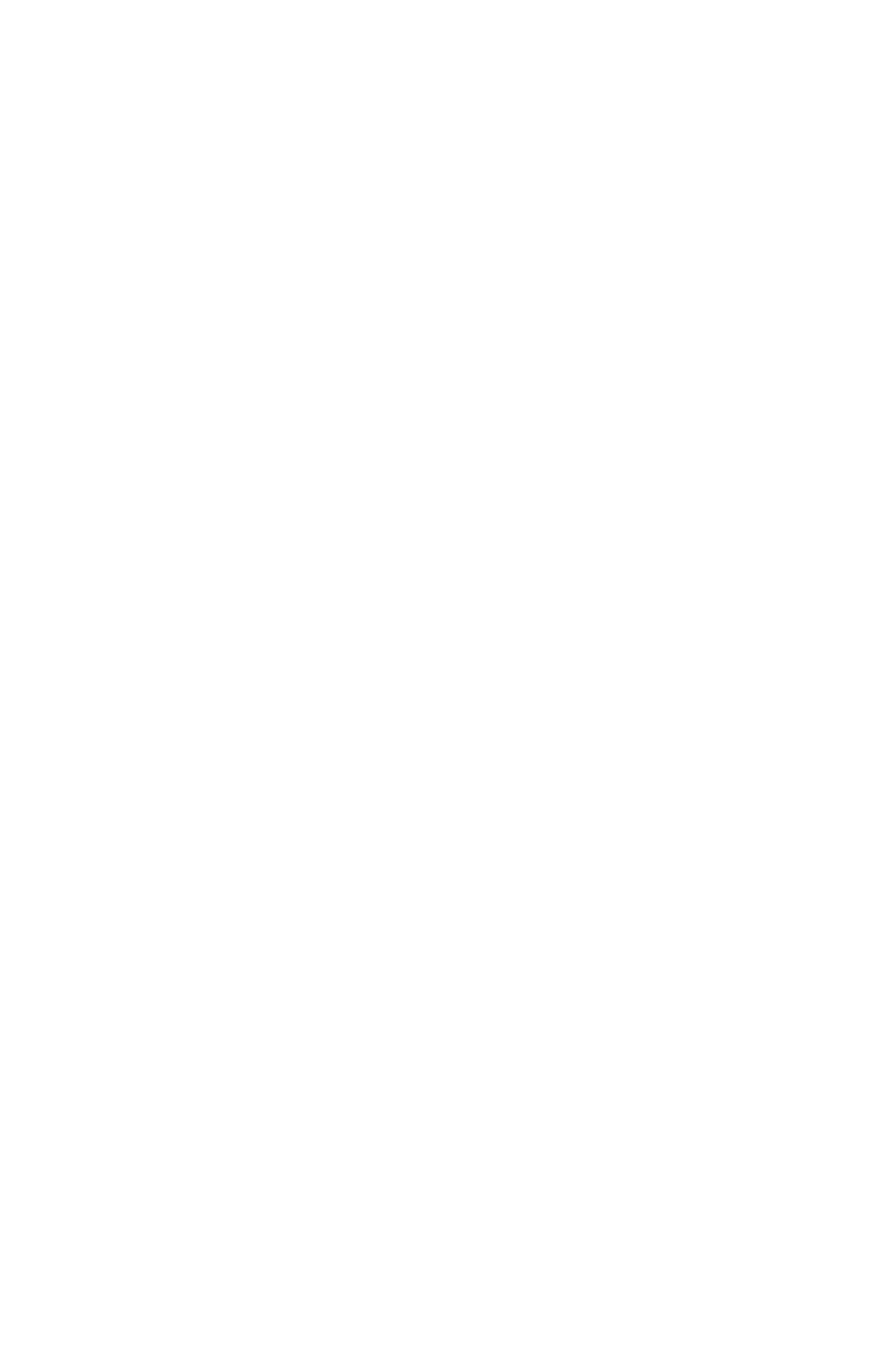
торможение, вызванное приближающимся пешеходом, как таковое могло и не иметь места).
На микроуровне, когда ищут причины события, связанного с одним человеком или несколькими
людьми, вопрос о причине нередко смешивается с вопросом о намерениях, о цели, которую преследует
участник событий, о рациональных мотивах или страстях, которые побудили его действовать. Ни
одному историку не удалось бы изучить причины войны, если бы он игнорировал психологию
исторических персонажей. Каждая из книг, посвященных дням и неделям, предшествовавшим взрыву 2
августа 1914 г., интерпретирует каждого из них, старается учесть одновременно как намерения, так и
действия. Но это исследование, которое можно сравнить с судебной инструкцией, включает в себя два
аспекта: либо ссылаются на то, что произошло в сознаниях, либо восходят до причин и следуют за
последствиями. Оба аспекта исследования логически отличаются друг от друга.
Думали ли министры в Вене, что Сербия не подчинится ультиматуму? Надеялись ли они, что Россия не
вмешается, если Австро-Венгрия преподаст урок маленькой Сербии? Эти вопросы касаются мотивов
действия, горизонта, ввиду которого было принято определенное решение. Историк вправе задаться
вопросом, каковы были в то время возможные следствия ультиматума, каковы были шансы
локализации конфликта. Расхождение между предвосхищениями участника событий и анализом
историка может определить допущенную ошибку или иллюзию сознания первого. Кроме того, историк
старается определить, в какой степени решение (ультиматум, заявление о войне) было необходимым
следствием обстоятельств или проистекало из инициативы, которую обстоятельства не предполагали.
Другими словами, раз дано событие, историк восходит к прошлому, чтобы установить, до какой
степени это событие происходит или не происходит с необходимомтью из того, что было, затем он
спускается к будущему, чтобы следить за последствиями того, что могло бы быть сознательным
действием одного (из участников).
В чем смысл такого рода исследования? Наш пример сразу же его предлагает. Предположим, что
пришли к высказыванию, что ультиматум, посланный Венским кабинетом Сербии, делал войну
локальной и по действиям союзников войной европейской и почти неизбежной: таким образом
вычленяется непосредственная «причина» взрыва. Эффективность такой причины ничего общего не
имеет с законностью или незаконностью требований, сформулированных в отношении Сербии.
Понятно, что эти требования были законны (в соответствии с соучастием нескольких сербских
военных в покушении в Сараево) и что, несмотря ни на что, полунегативный ответ Сербии и
вмешательство России в политическом плане предполагаемы и неизбежны.
Спрашивается, на чем базируются установленные таким образом ответы на вопросы. Идет ли речь о
данных или гипотезах? Каковы налич-
40
ные факты? Каковы возможные выводы? На микроуровне, выбранном в нашем примере, было бы
напрасно ждать неопровержимого доказательства. Известно, что до австро-венгерского ультиматума
Европа не боялась непосредственного взрыва, а что, исходя из ультиматума, все министерские
канцелярии мировую войну считали возможной, если не вероятной. Факты, доказывающие это
утверждение, — это, с одной стороны, жесткость условий, сформулированных в ультиматуме, с
другой, — система союзов, которая почти не допускала локализованного конфликта. Разногласия
между историками касаются либо намерений венских министров, либо законности (политической,
моральной) австрийских требований, либо, наконец, степени вероятности войны в связи с уль-
тиматумом. Степень вероятности, так сказать, смешивается со степенью каузальности. Нельзя
полностью отвергнуть сомнение, которое базируется на степени вероятности: событие происходит
только один раз, и можно представить, а не знать, что бы было, если бы такое-то действие не
произошло. Но нельзя проявлять полную уверенность, противоречащую как природе
действительности, так и сущности нашего познания.
Цель того причинного исследования, которое мы анализировали на частном примере, — выделение
структуры хода истории, распутывание клубка массовых причин и частных событий. По поводу
непосредственных причин войны научное изучение, кажется, доказало главное: война была вызвана
«дипломатической осечкой». Ни одно правительство не имело ясного и решительного желания
мировой войны, ни одно не отвергало случайности; первые инициативы, создавшие риск войны, были
выдвинуты правительством Вены, получившим от Берлина обещание поддержки. Спорят о законности
австрийских требований, о поспешности реакции Санкт-Петербурга и Парижа, о колебаниях Лондона.
Факты в основном дают возможность снова находить сплетение инициатив и необходимостей,
случайностей и фатальностей, которые составляют нить человеческой истории и которые
любознательность историка хочет восстановить.
Это исследование редко разворачивается на микроуровне, где мы находимся. Непосредственные
причины события не часто столь неясны, чтобы требовать научной расшифровки. Но и на высшем
уровне возникает аналогичный вопрос. Многие историки считают лишенным интереса анализ
непосредственных причин войны 1914 г., потому что, по их мнению, она бы разразилась в любом

случае. С точки зрения науки нет выбора между непосредственными и отдаленными причинами. И те и
другие могут привлечь внимание историка. Но в том случае, когда он считает, что вторые делают
неизбежным изучаемое событие, исследование первых теряет всякий смысл. Если в 1914 г. ситуация в
Европе была такова, что любой инцидент мог вызвать конфликт, то каузальность почти полностью
находится внутри самой ситуации и инцидент был не больше, чем оказией.
Снова возникает вопрос: как доказать такого рода высказывания? И снова ответом будет:
неопровержимое доказательство невозможно. Мы не можем повторить опыт, исключить июльский
инцидент 1914г., чтобы дать возможность истории идти другим путем, который подтвердит или
опровергнет гипотезу о «неизбежности». Все, что мы можем делать, -
41
это мысленные эксперименты. Мы постараемся комбинировать главные данные ситуации с большим
количеством разнообразных случаев, чтобы сделать вывод о том, что в абсолютном большинстве
случаев (во всех случаях или только в некоторых) событие бы произошло. Вывод сделан из фактов, но
он их превосходит.
Какова степень вероятности таких выводов? Я не думаю, что можно отважиться на общее
высказывание. На мой взгляд, положение в Европе после Мюнхена было таково, что для избежания
войны в 1939 г. нужно было основательное изменение гитлеровского режима. Другими словами, если
исключить невероятные случаи (внезапная смерть Гитлера, удавшийся заговор против фюрера), с
конца 1938 г. обстановка делала войну неизбежной. В 1914г. обстановка была опасной, и большинство
наблюдателей считали войну вероятной, но дата ее начала по крайней мере была неясна, и сама эта
дата могла повлечь за собой отдаленные последствия. Если бы война разразилась в 1920 г. или в 1925
г., то протекала бы она так же, привела бы к тем же последствиям или нет?
Такого рода рассуждения о причинах того, что произошло, путем мысленного сравнения с другим
возможным ирреальным ходом событий равносильны для прошлого прогнозам о будущем. Мы знаем о
том, что событие действительно состоялось, потому что оно произошло, но мы не знаем, было ли оно
следствием общей обстановки, рассмотренной в своих главных чертах, или того или иного инцидента,
приписываемого тому или иному человеку или стечению обстоятельств. Следовательно, когда мы
подчеркиваем каузальную связь между обстановкой и прошлым событием, то наше утверждение не
менее спорно, чем предвидение такого же рода будущего события. (Суждение «событие имело место»
неоспоримо. Суждение «оно было адекватным следствием такой-то обстановки» оспоримо.)
Суждения, относящиеся к исторической каузальности и выведенные из мысленного сравнения между
тем, что произошло, и тем, что могло произойти, могут иметь множество форм: 1) суждения
адекватной каузальности; обстановка делает событие (почти) неизбежным. 2) Суждения второ-
степенной каузальности; событие не было детерминировано обстановкой, оно было вызвано частным,
случайным или единичным фактом (разумеется, такого рода суждения взаимно дополняют друг друга:
если ситуация в Европе в октябре 1938 г. делала в ближайшее время европейскую войну неизбежной,
то не имели значения инциденты последнего часа, поступки дипломатов здесь и там). 3) Суждения,
приписывающие событию или индивиду роль первоначала: австро-венгерский ультиматум был primum
movens (первопричиной) серии событий, приведших к войне 1914г., взятие власти большевистской
партией 1917 г. было primum movens серии событий, приведших к распространению
коммунистического режима, охватившего полмира. 4) Суждения, приписывающие событию или
индивиду действие «перевертывания» или «изменения направления» по отношению к предыдущей
тенденции: политическая эволюция, которая в Европе шла в направлении либеральных учреждений,
была остановлена и изменена войной 1914г. Большевистская партия изменила эволюцию европейского
социализма, которая была направлена в сторону мирных методов. Продолжило ли ход русской истории
установление советского строя или из-
42
менило-д-ечение этой истории, ориентированной несколько десятков лет к к конституционным и
либеральным процессам? 5) Суждения, приписывающие человеку ответственность в исключительных
случаях, вызванных движением или режимом, которые сами по себе, может быть, были неизбежны:
если предположить, что революционный кризис сделал неизбежной или очень вероятной военную
диктатуру, то в чем действительный гений Наполеона наложил свой отпечаток на Францию и Европу?
Если предположить, что после смерти Ленина абсолютная власть одного человека была неизбежна
(или очень вероятна), то какие аспекты советского режима определились особенностями «железного
человека».
Логически все эти суждения одного и того же рода. Они нам показывают, как конкретно ставятся столь
дискуссионные проблемы о роли великих людей, о детерминизме и случайности. И эти проблемы явля-
ются не философскими, а научными. Они касаются не ценностей, а фактов. Разногласия связаны скорее
с степенью, чем с принципом. Никто не утверждает, что ничего бы не изменилось во Франции с 1798
по 1815 г., а в России с 1924 по 1953, если бы на месте Наполеона или Сталина оказался другой

человек. Никто также не утверждает, что Наполеон и Сталин действовали бы точно так же, если бы
правили совершенно другими странами. Кое-что великие люди могут изменить, но они не могут
изменить все.
И что же они могут изменить? Нет общего ответа на этот вопрос. Поле эффективности великих людей
более или менее широко в зависимости от эпох. Впрочем, это поле никогда точно и уверенно нельзя
измерить. Каким бы был советский режим, если бы первым человеком был не Сталин, а кто-то другой?
Никто этого в деталях не может сказать, но можно утверждать, что не доказано, что такой феномен, как
большая чистка, имел бы место, если бы генеральным секретарем был Троцкий или Бухарин. На
возражения, что ни тот, ни другой не имели шансов одолеть Сталина, можно ответить, что тот, кто мог
его одолеть, необязательно имел бы психологические особенности, которые являлись причиной не-
которых аспектов советизма (насильственное вероисповедание, чистки и т. д.). Научно эффективность
деятельности Сталина считается установленной с тех пор, как невозможность ее отрицания доказана.
Как представить себе Россию пятилетних планов во главе с другим руководителем, но без Сталина?
Никому это не удастся, каково бы ни было его воображение. Но достаточно, чтобы некоторые явления
не обязательно были связаны с социально-политической и экономической обстановкой, чтобы
личность Сталина представлялась возможной причиной и по крайней мере гипотетически получила
форму исторической силы.
Пределы доказательства объясняют расхождения теорий и суждений. Учитывая то, что нельзя
исключить роль индивида, некоторые склонны утверждать это слишком категорически. Менее
амбициозный и менее одаренный генерал, чем Наполеон Бонапарт, не смог бы использовать силы
революционной Франции, чтобы овладеть Европой. Менее подозрительный и менее жестокий, чем
Сталин, не добавил бы к неизбежным сурово-стям пятилетних планов беспощадные репрессии против
восставших крестьян, а также устранение сподвижников Ленина, сопровождаемое организацией
судебных процессов. Другие, наоборот, склонны к проти-
43
воположному мнению; на этом же месте другой человек либо социальным, либо психическим
механизмом был бы приведен к таким же эксцессам. В зависимости от обстоятельств вероятна то одна,
то другая теория. Возможна широта или ограниченность индивидуальной ответственности. Логически
установлено то, что нельзя доказать ее неэффективность, отсюда следует более или менее большая
вероятность более или менее большой ее роли, смотря по обстоятельствам, индивида или случая.
Дискуссия приобретает еще большую важность, когда она касается каузальности первоначала серии
событий. Удалась бы большевистская революция в отсутствие Ленина и Троцкого? Если бы
большевистская революция не победила, то было ли возможно принципиально другое развитие
(промышленное строительство при демократическом режиме), то есть развитие, несовместимое с
основными обстоятельствами русской революции? Ни на один из двух вопросов факты не позволяют
дать категорический ответ. Исторический вывод, гипотеза об ответственности двух людей за успех
одной партии, а также гипотеза о развитии не боль-шевизированной России проблематичны. Как
способность различать относительную вероятность многих гипотез дает повод к спору, так и историки
делают решительный выбор в зависимости от своих предпочтений. Один подробно излагает историю,
где выделены детали, где события не могли произойти иначе, чем они произошли. Другой рассказывает
ту же самую историю, подчеркивая то, что ему, кажется, нужно приписать индивидам, и то, что с
некоторыми изменениями могло произойти (скажем, в неболыпевизированной России).
Эти крайние теории даже своей противоположностью раскрывают структуру исторической
действительности. Историческая необходимость (то, что мы так называем) всегда проявляется только в
людях, которые являются ее агентами и интерпретаторами. Когда две партии выдают себя тоже за
интерпретаторов необходимости, то только события решают спор между ними. Если событие должно
произойти, то мы теряем надежду предвидеть. Почему, оглядываясь назад, мы утверждаем, что могли
бы предвидеть, то есть, иными словами, что массовые данные заранее определяют исход? Может быть,
несколько человек, благоприятные или неблагоприятные случайные обстоятельства могли склонить
баланс в одну или другую сторону. Когда несколько человек хотят быть агентами необходимости, то
нам, современникам, не следует думать, что ничего не будет изменено в соответствии с именем
победителя. Почему к прошлому надо применять другой критерий, чем к настоящему или будущему?
Проблема исторического детерминизма, как я ее только что эскизно изложил, в сущности своей есть
проблема необходимости и действия. Тот, кто утверждает, что ход истории определяется только
необходимостью сверхиндивидуальных сил, исключает действие индивидов. Тот же, кто считает, что
ход истории в каждое мгновение определяется вмешательством непредвиденных обстоятельств,
исключает всякую общую умо-постигаемость и предлагает хаос. Историк, озабоченный
детерминизмом, не обращается к другим общественным наукам, как, например, историк культуры, он
старается уловить драматический характер истории, который определяется диалектикой людей и их
среды, необходимости и случайности.

44
Чтобы устранить одну из двух сторон диалектики, нужно расположиться очень высоко над событиями
и на манер философа или теолога удерживать в сознании только то, что оставило след в спасении или
самосозидании человека. Или, например, наподобие человека действия расположиться в жарком месте
боя, безгранично доверившись собственной воле и судьбе. Историк не является ни человеком действия,
ни философом: удерживая в уме обе стороны, он ищет, как произошло то, что привлекает внимание
только философа, как воля действующих лиц, судьба и удача способствовали осуществлению того, что
никем не предсказывалось и никем не было желаемо, но в конце концов становилось творением и
опытом всех.
4
Философы, историки или логики, размышлявшие над воссозданием социальных фактов, - все были
поражены контрастом между бессвязностью историей пережитой и порядком истории рассказанной.
Самый частый пример, который выбирают для иллюстрации те и другие, - это пример битвы.
Происшедшее на равнине в Бельгии в один из июньских дней 1815 г. составит то, что мы называем
битвой при Ватерлоо. В чем заключается реальность этой битвы? Тысячи и тысячи людей мыслили,
действовали, сражались и умерли. Составлена ли реальность из движений индивидов? Эти движения не
имеют смысла, если обозревать их со стороны, если не принимать во внимание мышление тех и
других. Таким образом, реальность создана из этих связанных между собой движений и состояний
сознания, последние придают смысл первым. Но что создает единство этих бесчисленных мыслей и
движений? Материальное единство — это единство места и времени: битва началась в определенный
час дня, в определенном месте, закончилась она также в определенной пространственно-временной
точке. Но это пространственно-временное единство есть строго материальное единство (и даже в этом
плане оно не закончено: до какого момента и до какого пункта продолжалось преследование?).
Состояния сознания являются интегративной частью реальности, они разнообразны и многочисленны:
откуда следует их единство, которое называют битвой при Ватерлоо? Логически ответ следующий: ис-
торическое единство сконструировано, но не пережито.
Романисты, описывающие битву, пережитую простым гусаром, хотят показать контраст между опытом
битвы какого-нибудь отдельного солдата и стилизованным представлением, которое создают об этой
битве историки. Этот контраст существует, но он не значит, что опыт солдата - это реальность, а
представление историка — фикция. Целое не имеет смысла для того, кто знает только фрагмент. Оно
может быть не менее реальным для того, кто его улавливает в его единстве и внутреннем качестве.
На каком уровне историк старается постигнуть битву? Все зависит от направленности его
любознательности. Если он интересуется тактическим ходом битвы, то изучит подробности. Если он
интересуется искусством командования, то за точку отправления он возьмет планы двух
45
главнокомандующих. На всех уровнях — на уровне ли одного бойца или на уровне полководца — он
откроет целое, понятное по отношению к замыслу человека (или группы людей). Битва, хотя и не
является атомом, тем не менее, рассматривается как единый исторический факт. Противостоит ли факт
более широким историческим единствам, таким, например, как нация, период, культура? Представляют
ли исторические единства всегда один и тот же вид? А если между ними имеются естественные
различия, то каковы из них основные? '
Начнем с первого банального, но не без последствий, замечания: с точки зрения историка, битва при
Ватерлоо должна быть снова помещена в более широкое целое. Нельзя понять организацию
французской армии, управление огнем без обращения к предыдущим годам, к возникновению
революционных армий, преобразованию, затем истощению имперских армий. Французские и
английские солдаты, сражавшиеся на бельгийской равнине, были бойцами, уцелевшими в длинной
цепи битв, побед и поражений, которые формировали, ослабляли или тренировали тех и других. Если
от Ватерлоо идти к возникновению армий Революции, то нужно будет идти еще дальше — к
королевской армии и т. д. до бесконечности.
Договоримся: мы не хотим сказать, что для понимания и объяснения того, что произошло 18 июня
1815г., нужно знать то, что во французской армии приписывалось монархическим традициям. Но
историк хочет найти потерянные истоки и поэтому не довольствуется констатацией события, его
причины он ищет в прошлом. Поскольку он интересуется, каким образом события произошли (wie es
geschehen 1st), он следует и не может не следовать временному порядку (от прошлого к настоящему
или от настоящего к прошлому), потому что каждый момент заимствовал те моменты, которые ему
предшествовали, и свое значение он приобретает в свете этих последних. Эта необходимость
постепенного расширения сбора информации, на которой после многих других настаивал Тойнби,
вытекает не только из непрерывности истории человечества, из присутствия здесь и сейчас социальных
институтов и идей, истоки которых исчезают в бездне времени: она также порождается из
любопытства, свойственного историку. Историк Парижа, будучи историком, не может и не хочет

остановиться только на Лютеции. Социология может и должна фиксировать пределы временного
движения вспять.
Когда мы перешли от «битвы Ватерлоо» к «войнам Революции и Империи», то не изменили ли мы
жанр. Пространственно-временное единство «войн Империи» видно менее ясно, чем пространственно-
временное единство «битвы при Ватерлоо», но оно существенно от него не отличается. Эти войны
имеют начало и конец во времени, они имели театр военных действий, который можно установить.
Верно, что человек, может быть, еще был в состоянии охватить взглядом целое одной битвы, тогда как
целое «войн Революции и Империи» есть только психический объект. Но если так рассуждать, то битва
на Марне в сентябре 1914 г. по своим масштабам относится к виду «войны», а не к виду «битвы»: в
самом деле, она не поддается восприятию только одного человека.
В случае с битвой при Ватерлоо пространственно-временное единство, так сказать, подтверждается
единством замысла, который можно припи-
46
сать двум главнокомандующим. Событие точно не соответствует ни одному из двух замыслов, но
сознание обоих людей представляло себе событие до его свершения. То же самое нельзя утверждать,
когда рассматривают целое, созданное войнами Революции и Империи, которое явно никто не мог
представить себе заранее. Различие существенное, хотя, на мой взгляд, не решающее. Многие
отдельные события — взятие Бастилии, взятие Тюильри 10 августа - действительно, заранее никем не
предполагались. Они являются результатом, которого, может быть, никто сознательно не хотел,
многочисленных поступков, речей, действий индивидов. Но историк не виноват в том, что видит в
этом результате «историческое единство», если верно, что «взятие Бастилии» или «взятие Тюильри»
вообще имели смысл и последствия, о которых свидетельствуют современники и которые
подтверждает историческое исследование.
В той мере, в какой приближаются к более крупным целостностям оба элементарных фактора
исторического единства (пространственно-временное единство и единство одного или нескольких
замыслов людей) исчезают, но тем не менее единство не становится чисто фиктивным. Мы говорим о
«войнах Революции и Империи», потому что Революция 1789 года развязала цикл конфликтов, главной
причиной которых была постановка под вопрос традиционных политических режимов и преоб-
разование армий. Возврат Франции к ценностям прошлого и к монархическому режиму означал конец
этих конфликтов. Об этих войнах обоснованно говорят как о единстве, поскольку данные события,
несмотря на их продолжительность и разнообразие, зависят от небольшого числа причин, которые им
придали связность и смысл.
Историки, стремящиеся постигнуть крупные периоды истории, вместе с тем ищут факты, которые
оказывали решающее влияние на каждую эпоху, и факты, вызвавшие переломы. «Периодизация» -
законное желание исследователя. Остается узнать, в какой степени данные доказывают истинность или
законность каждого из периодов.
Возьмем одну из самых известных периодизаций - периодизацию экономической истории, которую
Маркс изложил в предисловии «К критике политической экономии»: первобытный коммунизм,
азиатский способ производства, экономика, базирующаяся на рабстве (античность), экономика,
основанная на крепостничестве (Средние века), экономика, базирующаяся на наемном труде
(капитализм) и завтра- социализм. Принцип этой периодизации, ее основной критерий — это
отношения зависимости людей в процессе труда. Такая периодизация была бы абсолютно правомерна,
если бы все в каждый период было различным в соответствии с состоянием доминирующего фактора.
Другими словами, критерий, с очевидностью, был бы настоятельно необходим, если бы он совпадал с
причиной, которая полностью детерминировала бы остальную часть общества. Критерий не имел бы
значения, если бы речь шла о второстепенном явлении. Избранные критерии всегда находятся между
этими двумя крайностями. Они не являются ни исключительной причиной, ни незначительным
данным.
Зависимость людей в процессе производства, которую выражает понятие наемного труда, имеет
определенные последствия. Ошибка начинается, когда историк произвольно решает, что наемный труд
в корне
47
исключает те или иные изменения (повышение уровня жизни, гуманные отношения между
работниками и нанимателями). Спорное употребление термина «капитализм» связан с такого рода
ошибкой. Определив капитализм через наемный труд, заявляют, что он сам по себе плох и не
допускает никаких возможных реформ. Вопрос о том, какие реформы возможны в рамках капитализма
— это вопрос о том, какие позитивные или негативные последствия влечет избрание того или иного
факта в качестве критерия этого экономического строя, в данном случае в роли такого критерия
выступает наемный труд. Можно доказать, что наемный труд не помешал некоторым изменениям, что
некоторые изменения определяются техническим или экономическим развитием при наличии наемного

труда.
Урок, который мы хотим логически извлечь из этого примера, состоит не в том, что историк должен
отказаться от установления периодов или характеризовать период при помощи факта, который он
считает особо важным. Урок заключается в другом, более сложном. Историк имеет некоторую свободу
в выборе критериев, которые он использует для характеристики того или иного периода истории (либо
отдельной экономической, политической истории, либо всеобщей истории). Но он не свободен
приписать своему выбору значение, которое может ему придать только исследование. Экономист
может считать, что его интересуют превыше всего отношения людей в процессе производства, он
может полагать, что различие между зависимостью по отношению к предпринимателю и по
отношению к государству велико, но он должен искать в действительности, а не постулировать или
воображать последствия этого различия для уровня жизни, материальных и моральных условий, в
которых находится работник и т. д.
Пойдем еще дальше. Что нужно думать об этих громадных единствах, которые Шпенглер окрестил
«культурами», а Тойнби - «обществами» или «цивилизациями»? Являются ли они реальностью или
только призраком исторического воображения? Предыдущий анализ показал относительный характер
понятия реальности, применяемого к историческому миру. Физически только индивиды реальны. Но
историческая реальность не есть реальность физическая, она состоит из жизненных опытов или из
значений, которые эти опыты имеют в виду, значений, выходящих за пределы индивидуальных
сознаний. Поведение людей иной раз обнаруживает порядок и связность, которых никакие участники
событий не предполагали и не хотели. Интеллигибельность исторических значений или событий не
микроскопична и априори нельзя исключить реальность крупных цивилизаций.
Но эта реальность тоже не очевидна, она вытекает только из самого исследования. «Культуры», в
понимании Шпенглера, тем более реальны, что: 1) они не общаются между собой; 2) они имеют четко
обозначенные пространственно-временные границы; 3) они представляют внутреннюю связность,
приписываемую детерминирующему действию причины; 4) они в основном самобытны по отношению
друг к другу. Шпенглер без колебания утверждает, что каждая «культура» вдохновляется самобытным
духом и, по существу, не способна на обмен, каждая замкнута в самой себе, каждая несет во всех своих
аспектах печать своей несравненной ин-
48
тенции, каждая, наконец, в свою очередь проходит одни и те же этапы неизбежного хода.
Тойнби так далеко не идет. Одни цивилизации вытекают из других, они заимствуют кое-что друг у
друга, они не совсем непонятны друг другу. Но чем больше Тойнби приближается к фактам, тем
меньше он убеждает в самой реальности этих цивилизаций. Он начинает с их противопоставления
нациям под предлогом того, что первые, а не вторые предлагают «ясное поле исследований». Но
цивилизации второго поколения не понятны без ссылки на основные цивилизации. Необходимо, чтобы
цивилизации, если у них нет строго очерченных границ и самодостаточности, имели связность и
самобытность. Но откуда каждая цивилизация берет свою самобытность? Тойнби считает, что религия
представляет собой принцип этой самобытности, но он этого четко не утверждает и не доказывает. И
не настаивает на этой самой самобытности. Ни один из четырех факторов реальности, перечисленных
нами в связи с цивилизациями Тойнби, бесспорным образом не действует: цивилизации общаются друг
с другом, они не имеют ни четко определенных пространственно-временных границ, ни ясно
выраженных связности и оригинальности. По крайней мере, все ли цивилизации имели типичное
развитие, чтобы признать в них виды одного и того же рода? Не осмелимся дать положительный ответ,
потому что всемирная империя может появиться с опозданием на тысячу лет (цивилизация восточного
христианства) или потому что «мертвая» цивилизация видит свое «типичное развитие» надолго
остановленным.
Остается ли в концепции Тойнби что-либо от этого многообразия цивилизаций? Не будем ходить так
далеко. Остается множество систем ценностей, коллективных организаций и религиозных верований.
В этом смысле история человечества не является единым целым. Остается под вопросом степень
различия между цивилизациями, степень связности каждой из них. Хотя отстранен шпенглеровский
догматизм относительно их абсолютной непроницаемости и полной уникальности, тем не менее
продолжают существовать бесспорные различия между образом жизни, мышления, верованиями и
организацией этого разнообразия в небольшое число целостных образований, которые не являются ни
чистым воображением, ни неопровержимой очевидностью.
Ошибка начинается, когда из этих данных, доказывающих многообразие и противоречивую реальность
целостностей, делают своего рода метафизический вывод, который преобразовывает эти целостности в
живые существа, обреченные на рождение и смерть.
В менее поспешном анализе надо было бы рассмотреть все типы исторических единств, но все равно
обнаружились бы снова проблемы, аналогичные тем, которые мы вкратце изложили: реальность
исторических едиств, по существу, противоречива, данные их предлагают, но редко навязывают. С

точки зрения логики историк никогда не должен забывать природу единства, которую он
реконструирует, и не приписывать способу восприятия каузальное значение, которого оно не имеет.
Именно опыт, а не интуиция или вывод, показывает, какие изменения могут происходить в
целостности, имеющей четкий критерий.
49
5
Так же, как исторические единства связаны каким-то образом с проблемой понимания людей,
участвующих в событиях, схемы изменений как-то связаны с вопросами «как» и «почему». Редко,
когда эти схемы не заключают в себе более или менее эксплицитную интерпретацию причин, которые
их детерминируют.
Может быть, в истории исторической мысли схема циклов является самой древней и самой обычной.
Философы, политики, начиная с Платона и Аристотеля, неоднократно представляли и описывали
последовательность режимов (монархия, аристократия, демократия, последняя вырождалась в
демагогию, откуда следует тирания, представляющая собой начало нового цикла), находя, может быть,
в ходе человеческой истории эквивалент вращения небесных тел, а также эквивалент больших
космических циклов, которые скорее предполагали, чем действительно наблюдали. У Ницше была
интуиция о вечном возвращении, которая распространила на весь мир и на каждый инцидент
беспощадный и, может быть, утешительный закон повторения.
Историк как ученый не должен выбирать между различными схемами изменений (циклы или
прогрессы), но он неизбежно сталкивается с проблемой, которая неотделима от проблемы схем.
Природа изменений и схема этих изменений зависят от сущности человеческой деятельности или от
анализируемого творения. Смысл истории неотделим от смысла того, что было создано, чью историю
прослеживают.
Схема истории следует из отношений между двумя моментами времени. Отношение между двумя
событиями, скажем, мир в Европе и империалистический натиск на Африку, может быть отношением
последовательности, каузальности или простого совпадения, оно может выражать реакцию
дипломатов, офицеров или народов на континентальный мир. Во всяком случае это отношение
меняется в соответствии с рассматриваемыми событиями, и только эмпирическое наблюдение может
уточнить в каждом случае его подлинный характер. Но предположим, что задаются вопросом об
отношениях между двумя произведениями искусства или математическими истинами: здесь отношение
как таковое будет отличаться, потому что произведение искусства имеет другой смысл. Скульптура
Фидия, скульптура Реймского кафедрального собора и подземелий Элефантины никогда не будет
превращена в систему наподобие математических теорий или законов физики. История искусства как
искусства - это история ее разнообразных проявлений, история математики - это история создания
системы.
Повторим еще раз, что эти высказывания касаются творчества как такового. Но всякое творчество было
прежде всего фактом или выражением сознания. История научных открытий не меньше приведена в
порядок, чем история художественных произведений. Были периоды стагнации и движения, подъема и
упадка. В отношении людей и событий схема истории наук заранее известна не больше, чем схема
истории политических режимов или художественных стилей. Если можно рассматривать историю
науки как прогресс, то в той мере, в какой освобождают доказанные истины от философской или
идеологической оболочки, в
50
которой-они впервые возникли, ибо абстрагируются от социальных обстоятельств, которые
благоприятствовали или противодействовали открытиям. Если можно рассматривать историю
искусства как становление чистого разнообразия, то в той мере, в какой отделяют само произведение в
его собственной красоте от технических приемов, которые были необходимы для его создания, от
стиля, к которому оно имеет отношение и который был следствием длительного обучения. Сущность
истинных и научных высказываний — накапливаться и часто организовываться в систему, сущность
красивых вещей — следовать друг за другом, каждая вещь является уникальной и незаменимой.
Когда сама природа произведения неоднозначна и подвержена многочисленным интерпретациям, то
смысл истории вытекает из этой же неопределенности. Таков преимущественно случай с философией.
Является ли философия каждой эпохи строго определенным взглядом на мир? Если таков истинный
смысл философии, то ее история неотделима от общей истории. Она отражает духовно разработанную
идею, которую каждая эпоха, каждое человеческое общество имело о самом себе. Зато, по мнению
других философов, эта история Weltanschauungen (мировоззрения) остается чуждой тому, что
составляет сущность философского исследования, потому что эти взгляды на мир лишены, так сказать,
претензии на истину, от которой философ добровольно никогда не отказывается. Philosophic als strenge
Wissenschaft («Философия как строгая наука»
3
) или Psychologic der Weltanschauungen («Психология
мировоззрения»
4
), Гуссерль и Дильтей обозначают два крайних предела, между которыми могут

разместиться другие интерпретации. Если с точки зрения логического позитивиста, история философии
есть история постепенного открытия вопросов, которые имеют смысл, и вопросов, лишенных такого
смысла, то, по мнению гегельянцев (или марксиста), история философии одновременно отражает
последовательные фазы человеческого сознания и этапы поступательного движения к абсолютной
истине.
Историк, специализирующийся в той или иной области науки, более или менее сознательно
соглашается с теорией этой науки, которая скорее зависит от философа, чем от историка. Не потому,
что эта теория может быть разработана, абстрагируясь от исторических данных, ибо эти данные
никогда не навязывают теорию или, по крайней мере, они ее навязывают только при условии, что
могут быть расшифрованы каким-либо образом. Поэтому для нашей проблемы следует только
напомнить, что определение природы, присущей произведению, и специфического смысла, который
приобретает история этого произведения, не может базироваться исключительно ни на фактических
данных, ни на индукции экспериментального типа, оно предполагает собственно философскую
аргументацию.
Что касается схем изменений (прогресс, цикл, разнообразие), связанных не с сущностью частной
истории, а с событиями, то логически проблема ставится просто. Речь идет об изучении фактов без их
диктата на ответ. Логика велит не придавать событиям постоянной направленности, ссылаясь на
специфический смысл деятельности. Например, история техники есть история прогресса: но отсюда не
следует, что техника данного общества непрерывно развивается, ни даже, что такое общество, как
51
наше, которое осознает и желает этого прогресса, не знает периодов стагнации или даже, в случае с
атомной катастрофой, — периодов регресса. Кроме этого несмешения специфической и эмпирической
истории следует точно определить годность схем изменений, установленных на определенный период
в определенной области. Например, в последние полвека проявляется расширение государственных
функций, сокращение зоны, в которой действуют личные инициативы. Было бы опасно экст-
раполировать развитие такого рода. Задержка и резкое изменение такого рода развития мыслимы. Во
всяком случае, если делать вывод из фактов о бесконечном продолжении такого развития, то вывод
должен быть подтвержден не только констатацией прошлой тенденции, но и анализом фактов, которые
представляют его неизбежным. Исторические экстраполяции очень часто носят случайный характер,
поскольку они касаются ограниченной области, они недооценивают сложность исторической
действительности и игнорируют силы, противоположные тем силам, которые действуют в
определенном направлении. Представление об истории, которая всегда течет в одном и том же
направлении, должно быть заменено представлением о борьбе между относительно автономными
силами, исход которой заранее не предопределен. Образ борьбы, на мой взгляд, предпочтительнее
образу потока.
Очень часто схемы изменений связаны со строением исторических единств. Традиционный пример
схемы, который мы привели в начале параграфа, - это пример циклов форм правления. Марксистская
схема, устанавливающая последовательность рабства, крепостничества, наемного труда и социализма,
предполагает формирование исторических единств, уточнение исторических фаз на основании
переменной величины (например, взаимозависимость людей в процессе производства). Прежде всего,
такая схема пригодна, если пригодны образованные исторические единства. Если, например,
организация английской текстильной промышленности в начале XIX в., которую изучал Маркс,
подведена под такое же понятие капитализма, как и крупные американские корпорации середины XX
в., то значение такого исторического единства незначительно, потому что переменная величина,
предположительно детерминирующая, представляет собой слишком много разнообразия. С другой
стороны, если предположить, что зависимость в процессе производства исчезнет, когда частный
предприниматель будет заменен государством, то переход от капитализма к социализму, неизбежность
которого декретирована, будет иметь так же мало значения, как и сам факт национализации
корпораций. К тому же этот вывод нельзя доказать, так как ни в одной стране, где было осуществлено
частичное обобществление, оно не привело к обобществлению тотальному и, кажется, не предполагает
его.
Наконец, есть еще последний вид схемы изменений, по поводу которого мы хотели бы сделать
несколько замечаний. Можно ли наблюдать или делать вывод, что такая-то схема применима к
глобальной истории человечества? Улавливание исторической тотальности логически предполагает
два приема: либо целое сводят к аспекту человеческого существования, которое считают решающим в
плане ценностей, а не эффективности, либо анализируют целое таким образом, что определяют
52
в нем взаимосвязи, изменяемые доминанты, чтобы было можно объяснить прошлые фазы так, чтобы
предсказать будущие. Эти оба приема часто смешиваются или по крайней мере плохо различаются.
Является ли экономическая деятельность главной для марксизма, потому что она определяет все
