Арьес Ф. Человек перед лицом смерти
Подождите немного. Документ загружается.

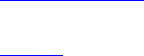
Окружению героя подобало вмешаться, чтобы остановить эти отчаянные изъявления
скорби. «Сир император, — сказал один из пэров Карлу Великому, — не предавайтесь так
безмерно этому горю...» Рыцари короля Артура решают унести своего государя с поля,
где остались тела его родных, и уложить его в дальних покоях, вдали от людей, пока
мертвые не будут преданы земле. Однако к подобным мерам, по-видимому, приходилось
прибегать очень редко. Рыданий, обмороков, отчаянной жестикуляции, которая нам
сегодня кажется болезненной, истерической, обычно бывало достаточно, чтобы дать
выход скорби и позволить перенести расставание с родственником или другом.
Сколько времени длилась эта скорбь? Несколько часов, одну ночь, столько, сколько
нужно было для погребения павших. Самое большее — месяц. Когда Говэн сообщил
королю Артуру о смерти Ивэна и его товарищей, «король принялся горько плакать и в
течение месяца пребывал в такой печали, что почти лишился рассудка».
Изъявления скорби прерывались словесными выражениями сожаления об утрате и
восхвалениями умершего. Второй элемент траура — «плач»; не сразу, с горестными
жестами и головокружением, но оратор овладевал собой и, обращаясь к покойному,
начинал его оплакивать. «Друг Роланд, — воскликнул безутешный император Карл, — да
смилуется над тобой Господь...» Сеньор в отчаянии — он лишился не только племянника,
но и верного вассала: «Кто поведет мои войска?» «Плач» начинался и завершался
молитвой: «Да будет душа твоя в раю». Также и король Артур над телом мессира Говэна
предавался жалобным крикам: «Ах, жалкий и злосчастный король, ах, Артур, ты вправе
сказать, что лишился своих близких друзей, как дерево листьев с наступлением
холодов»
145
. В действительности оплакивающий льет слезы о самом себе, которого
павший друг оставил осиротевшим и беззащитным.
Нетрудно заметить, что сцены скорби, жесты и слова во всех этих случаях очень сходны.
Герои явно следуют определенному обычаю, но выражают при этом личные чувства, так
что происходящее не выглядит как устоявшийся ритуал. .Рассмотренные нами тексты
акцентируют спонтанность поведения персонажей. В этом главное отличие от практики
наемных плакальщиков и плакальщиц античной эпохи, практики, сохранявшейся в
Средиземноморье и в средние века, и даже позднее. В наших текстах друзья, сеньоры и
вассалы покойного сами, по собственному побуждению исполняют обязанности
плакальщиков.
Хотя траур и последнее прощание не относились к религиозной части погребального
обряда, церковь их допускала.
К оглавлению
==150
Но не так было вначале: отцы церкви осуждали традиционную практику приглашения
наемных плакальщиц. Св. Иоанн Златоуст возмущался христианами, «нанимающими
женщин, язычниц, в качестве плакальщиц, дабы усилить скорбь», и даже грозился
отлучить их от церкви. Осуждению подвергалось не столько намерение платить деньги за
плач по покойнику, сколько само стремление препоручить другим столь глубоко личное

дело, каким должно было быть выражение горя, да еще не знать в этом никакой меры.
Так, каноны Александрийского патриархата предписывали скорбящим «держаться в
церкви, в монастыре, дома молчаливо, спокойно и достойно, как подобает тем, кто верует
в истинность Воскресения». Еще в XIII в. в Сицилии при Фридрихе II пение и плач над
усопшими считались недопустимыми
146
.
Итак, поначалу и довольно долго церковь противилась стремлению людей «разжигать
огонь горя» (Иоанн Златоуст), находившему свое выражение в ритуальных «плачах». В
рыцарском эпосе Средневековья, как мы видели, смысл траура был уже иным: дать выход
страданию живых. Не обращаясь к профессиональным плакальщицам, люди интенсивно и
не зная меры выражали скорбь по ушедшему родственнику или другу, но приемы
выражения скорби постепенно также принимали характер ритуала.
Вслед за отпущением грехов и оплакиванием наступал момент переноса тела в место,
избранное для погребения. Труп могущественного сеньора или высокочтимого
священнослужителя заворачивали в дорогую ткань, часто в шелк с золотым шитьем и
драгоценными камнями. Затем укладывали на носилки или в поспешно изготовленный
гроб и несли к месту погребения. Кортеж бывал очень скромный: Ланселота отнесли в
замок лишь двое носильщиков. Но иногда перенос тела обставлялся с большей
торжественностью: по приказу короля Артура гроб с останками Говэна несли десять его
рыцарей, а за ними шел сам король, множество сеньоров простого народа, «с рыданиями
и криками»
В некоторых случаях тело несли сначала туда, где его предстояло омыть драгоценными
благовониями и вином, как это приказал сделать Карл Великий с телами Роланда, Оливье
и архиепископа Турпина, или забальзамировать и зашить в мешок из оленьей кожи, как
поступил Тристан с убитым им в честном поединке великаном Моргольтом, труп
которого он отослал своей дочери
148
. Примечательно, что похоронная процессия была в то
время чисто светской и состояла исключительно из сеньоров, товарищей и вассалов
умершего. Ни священники, ни монахи не сопровождали тело к месту погребения, если
только усопший сам не при-
==151
надлежал к духовенству. Собственно религиозная часть погребального обряда сводилась к
отпущению грехов и благословению, сначала при жизни умирающего, затем над телом
там, где наступила смерть, и наконец, еще раз над могилой. Ни о каких богослужениях в
рассматриваемых нами текстах не упоминается: богослужений над мертвыми или не
совершалось, или же эпические авторы не считали нужным о них сообщать.
Молитва за мертвых
Если участие церкви в погребальном обряде этого раннего периода было столь
ограниченным, то какое место занимали мертвые в литургической практике самой церкви
до каролингской унификации?

Церковная литургия была до известной степени независима от эсхатологической мысли в
ту или иную эпоху. Кроме того, сами по себе литургические тексты не должны
восприниматься буквально, ведь их банализированный смысл, молчаливо признававшийся
за ними верующими современниками, становится явным для исследователя лишь при
сравнении этих текстов с другими источниками, например литературными или
иконографическими. Добавим также, что историки литургии склонны, даже не сознавая
того, под влиянием позднейшего развития идей, присутствующих в их текстах только в
зачатке, придавать этим памятникам слишком большое значение. Вполне простительные
ошибки перспективы грозят ввести в заблуждение историка, использующего религиозные
формулировки не ради них самих, но как индикаторы менталитета! В языческой традиции
жертвоприношения мертвым имели целью успокоить и умиротворить их души и
помешать им возвратиться на землю и нарушить покой живых. Вмешательство живых не
было предназначено для того, чтобы изменить к лучшему участь умерших в подземном
мире теней.
Еврейская традиция не знала даже практики жертвоприношений мертвым. Первый
еврейский текст, который церковь рассматривает как источник молитвы за усопших, —
это рассказ о погребении Маккавеев, возникший лишь в I в. до н.э. Современная критика
различает в нем две части. В древнейшей из них церемония призвана искупить грех
идолопоклонства, совершенный умершими: на их телах были найдены языческие
амулеты. Во второй части, добавленной к первой, можно разглядеть уже идею
посмертного воскрешения: воскреснут только те, кого живые своими молитвами ос-
==152
вободят от грехов, и именно поэтому живые в этом тексте обращаются с молитвами к
Господу. Забота о посмертном существовании умерших и об облегчении его при помощи
религиозных обрядов была присуща, однако, религиям спасения, таким, как дионисийские
мистерии, пифагорейство, эллинистические культы Митры и Исиды.
Первоначально раннехристианская церковь запрещала все погребальные
обычаи,
окрашенные языческим «суеверием», будь то плач наемных плакальщиц или
жертвоприношения на могилах: такое жертвоприношение, refrigerium — поминальную
трапезу, совершала еще в IV в. св. Моника, мать Августина, пока знаменитый Амвросий
Медиоланский не запретил это. Такие поминальные трапезы церковь заменила
евхаристией на алтарях, воздвигнутых на христианских кладбищах.
Шла ли тогда уже речь о заступничестве
за умерших? В представлениях епископов-
интегристов эти мессы были скорее изъявлением благодарности Богу по случаю
праведной кончины христианина, умершего в лоне церкви и погребенного рядом со
святыми мучениками. В действительности же в народном благочестии того времени, где
продолжала жить, не прерываясь, античная языческая традиция, кладбищенские
богослужения ассоциировались одновременно и с культом мучеников, и с поминовением
умерших более низкого ранга, так что молитву в честь святых долгое время смешивали с
молитвой во спасение душ простых усопших, и св. Августину стоило немалого труда
рассеять это недоразумение.

Итак, ни в Ветхом, ни в Новом завете (если не считать спорного текста о погребении
Маккавеев) мы не находим никакого текстуального основания для последующей практики
заступничества живых за мертвых. Как предполагается, эта христианская практика берет
начало в традиции языческой, и первоначально речь шла скорее о поминовении, чем о
заступничестве с целью изменить к лучшему посмертную участь усопшего . Да и как
могла возникнуть идея заступничества, если у живых не было никаких причин
беспокоиться о спасении душ умерших? Ведь спасение было уготовано всем уверовавшим
в Христа, как уже было сказано выше. Конечно, они не могли сразу попасть в рай:
подобной привилегией обладали, по
распространенным тогда представлениям, только
святые мученики и исповедники. Верующие христиане попадали в лоно Авраамово, а, как
писал в начале III в. Тертуллиан, это было между небом и адом: римский канон называет
это местом «временного освежения». Там души праведных ожидали воскресения, которое
должно было наступить с концом времен.
==153
Правда, с конца V в. ученые авторы больше не признавали этой концепции и полагали,
что души умерших сразу попадают в рай или в ад. Можно предположить, однако, что
первоначальная идея об особом пространстве, предназначенном для ожидания, положила
начало концепции чистилища, где душа ожидает решения своей загробной судьбы в огне,
но не адском, мучительном, а очистительном. В верованиях простого народа новая идея
чистилища смешивалась со старыми представлениями об «освежении», о месте
отдохновения, покоя и ожидания, о лоне Авраамовом.
Ибо, несмотря на цензуру со стороны ученых церковных авторов, массы верующих
сохраняли привязанность к традиционной идее ожидания, составлявшей древнейший
пласт заупокойной литургии (до реформ
, проведенных папой Павлом VI в 60-х гг. нашего
века). В день смерти и в годовщину его литургия предусматривала совершение
богослужения, где грешный человек признавал свое бессилие, но утверждал веру,
благодарил Бога и приветствовал погружение умершего в сон и покой блаженного
ожидания.
Старая литургия: чтение имен
Эту концепцию континуитета между миром земным
и миром потусторонним, без драм и
разрывов, концепцию, которую можно назвать народной, мы обнаруживаем не только в
заупокойных молитвах, но и в воскресной литургии.
До эпохи Карла Великого, то есть до введения в конце VIII в. римской литургии, месса в
Галлии включала в себя после чтения священных текстов также долгую церемонию,
позже исчезнувшую или оставившую следы, которые уже не удается расшифровать.
Вплоть до литургических реформ Павла VI место этой церемонии занимали частные
молитвы
священника.

После чтения Евангелия, за которым тогда еще не следовало «Верую», начинался ряд
ритуалов: литании, пение псалмов и троекратное «аллилуйя», сопровождавшее вынос
святых даров. Церемония завершалась сбором пожертвований. И уже вслед за этим
происходила другая, непосредственно интересующая нас церемония: чтение имен, или,
как тогда говорили, чтение диптихов. Диптихи представляли собой первоначально резные
таблички из кости, жертвуемые римскими консулами в день их утверждения в должности.
На таких старых консульских диптихах или на подобных им табличках христиане вели
списки имен, которые и оглашались с амвона после выноса святых даров. В списках были
имена клириков и высших должностных лиц, святых муче-
==154
ников и исповедников и, наконец, верующих, умерших в лоне церкви. Чтение имен
выражало идею тесного евхаристического единения и уз любви Христовой, связывавших
между собой всех членов церковного сообщества
Диптихи возлагались на алтарь (если только список имен не был начертан на самом
алтаре или на полях богослужебных книг). Читать имена полагалось громко и разборчиво.
Мы можем представить себе, как происходила эта долгая рецитация, благодаря фрагменту
мозарабской литургии, то есть литургии христиан, живших до эпохи Реконкисты в
Испании под властью мусульманских правителей. Епископ стоял в окружении
священников, дьяконов и клириков, а рядом, вокруг алтаря или кафедры, толпился народ,
принесший церкви свои пожертвования.
В первом списке — списке «всеобщего братства» — стояли имена лапы римского,
епископов, священников, клириков и министрантов, а также знатных мирян — королей,
больших сеньоров — благодетелей церкви. Каждый из них должен был стремиться внести
свое имя в этот нескончаемый перечень, уподобляемый знаменитой книге жизни, куда Бог
и его ангелы заносили имена избранных. Во втором списке, еще более почитаемом и
оглашавшемся самим епископом, а не священником, были имена святых апостолов и
мучеников (случалось, что, напоминая пастве имена героев священной истории, доходили
до начала Ветхого завета и даже до Адама). Наконец, третий список, также читавшийся
епископом, содержал имена умерших: они, таким образом, следовали не за именами
живых, собранными в первом списке, а за именами святых во втором списке. Епископ
возглашал: «Да будет то же и за души почиющих; Илария, Афанасия...» И хор завершал:
«И за всех почиющих». Закончив чтение, епископ возглашал oratio post nomina, «молитву
после имен», прося Бога вписать имена живых и мертвых среди имен избранных, дабы
избежать путаницы «в день, когда Ты придешь судить мир». Умершие христиане должны
были пополнить своими именами длинный список избранных, ожидавших в блаженном
покое дня воскрешения мертвых. Затем священник завершал церемонию словами: «Ибо
Ты есть жизнь живых, здоровье больных, покой всех умерших верных, во веки веков.
Аминь»
151
.
«Молитвы после имен» дают многократное выражение идее солидарности живых и
мертвых, идее «всеобщего братства». И галликанская, и мозарабская литургии стремились
обеспечить молитвами и таинствами «и живым спасение души и тела, и умершим счастье
вечного обновления». Заступничество мученика должно было сделать воз-

==155
можным «прощение грехов как живым, так и умершим». «Да будет даровано спасение
живым и покой мертвым». Нигде мертвые не отделяются от живых, и милосердие Божье
призывается на всех, живых и мертвых, чьи имена занесены в списки. Списки же эти
предстают как земной дубликат небесного оригинала — той книги жизни, тех «небесных
письмен», которые неизвестный мастер вложил в виде свитка в руку Христу на саркофаге
Агильберта в
Жуаррской крипте.
Еще не было речи о молитве живых за спасение душ усопших. Литургии докаролингского
времени проникнуты идеей коллективной судьбы, которую символизирует долгий и
непрерывный перечень имен, напоминающий библейские генеалогии. Заинтересованного
внимания к индивидуальной судьбе литургическая практика этого раннего периода не
знает.
Страх перед проклятием. Чистилище и ожидание
Новая концепция судьбы отразилась и в изменении литургии. Уже в вестготских
литургических текстах можно почувствовать усилившиеся опасения верующих за свою
загробную участь. Вера в милосердие Божье не исключала страха перед дьяволом. С VI —
VII вв. распространяется представление о том, что и святые, ведущие изнуряющую битву
с дьяволом, могут проиграть ее и погубить свою душу. В сочинениях папы Григория I
Великого (конец VI — начало VII в.) Сатана оспаривает душу одного монаха и
завладевает телом другого. Неудивительно, что в вестготской литургии день Страшного
суда выступает еще более грозным: верующие молят Бога избавить их от вечной муки ада,
от «цепей Тартара», от «адской темницы». Мы видим здесь, как появляются пугающие
образы, которые позднее станут достоянием заупокойной литургии вплоть до наших дней.
Молитвы об отпущении грехов — единственная древнейшая религиозная церемония в
эпоху рыцарского эпоса, совершаемая над телом умершего, — восходят к тому же пласту
католической заупокойной литургии, какой менее явно представлен уже в вестготских
текстах
152
. Римский канон отпущения грехов, по-видимому, сохранил (в первой части Dies
Irae) вестготские молитвы с их самыми мрачными формулами, исполненными ужаса и
отчаяния.
Но именно тогда, когда посмертное проклятие стало казаться более вероятным, более
угрожающим, были открыты способы предупредить его в надежде склонить на сторону
==156

умершего милосердие Божье. Так получает распространение, быть может, не новая, но по
крайней мере не имевшая прежде влияния идея заступничества живых за мертвых. Однако
для того, чтобы мысль о возможности молитвами изменить к лучшему участь умерших
могла утвердиться в религиозном сознании, необходимы были глубокие перемены в
менталитете средневекового человека. Нужно было найти альтернативу идее
непосредственного, сразу после смерти, решения участи мертвых.
Религиозное сознание к тому времени уже долго колебалось между представлением о
невозможности изменить небесный приговор и желанием как-то смягчить судьбу
проклятых. Некоторые авторы того периода воображали себе, например, что адские муки,
оставаясь вечными, могут прекращаться по воскресеньям. Впрочем, теологи очень скоро
оставили подобные утешительные спекуляции, еще долго сохранявшиеся тем не менее в
народных верованиях.
По всей видимости, именно Григорий Великий сыграл важную роль в формировании идеи
о том, что «не совершенно дурные» и «несовершенно добрые» после смерти обречены
огню, но не адскому пламени, а огню очищения, purgatio. Так, уже в начале VII в.
зародилась идея чистилища — purgatorium, хотя не следует переносить на эпоху Григория
Великого и Исидора Севильского конкретные представления о чистилище, свойственные
богословам XIII — XIV вв. или Данте. Еще в начале XVII в. преамбулы завещаний знают
только небесную курию и ад, и лишь к середине столетия понятие чистилища широко
распространяется в массовом сознании. До эпохи Контрреформации и несмотря на
несколько веков теологических изысканий господствовала старая альтернатива: рай или
ад. И все же христиане уже издавна допускали существование некоего промежуточного,
испытательного пространства, не райского и не адского, где их молитвы и благие деяния
могли еще воздействовать благоприятным образом на участь умерших. Представление о
нем питалось старыми языческими верованиями о месте, где бродят тени умерших, еще не
обретшие покоя. О замкнутом, охраняемом и строго упорядоченном пространстве
чистилища из «Божественной комедии» Данте не было и речи: напротив, представлялось,
что мертвые зачастую продолжают пребывать или на месте, где они согрешили, или там,
где их настигла смерть. Они еще могли являться живым, по крайней мере в снах, требуя
молитв или месс за упокой их душ.
Хотя идея промежуточного пространства между раем и адом смогла вытеснить старое
представление о потустороннем мире лишь в XVII в., она уже задолго до этого начала
проникать в религиозную практику западного христианст-
==157
ва. Изменениям этим способствовали, как уже говорилось, распространенные в
христианских мессах верования, допускавшие возможность некоего блаженного времени
ожидания в преддверии Страшного суда, времени покоя, сна, освежения в лоне
Авраамовом. Представление об этом было рано отвергнуто церковными авторами, но оно
продолжало жить в коллективном сознании, пока не получило богословского оформления
в концепции чистилища.

Жизнь каждого человека все больше воспринималась не как звено в цепи коллективной
судьбы человечества, но как сумма градуированных элементов: добрых, менее добрых,
дурных, менее дурных, которые могут быть точно оценены, тарифицированы и потому
искуплены. Не случайно, разумеется, идея заступничества живых за мертвых появилась
тогда же, когда и пенитенциалии, где грехи получали точную оценку и где за них
назначалось строго отмеренное наказание. Индульгенции, мессы и заступнические
молитвы были для мертвых в IX в. тем же, чем пенитенциалии с их тарификацией грехов
были для живых: переходом от коллективной судьбы к судьбе индивидуальной.
Римская месса как заупокойная
Возможно, что именно это все более частое желание «ходатайствовать» за умерших было
главной причиной изменений в структуре богослужения в IX в. Обобщенно можно сказать
так: до эпохи Карла Великого галликанская или вестготская месса была
жертвоприношением Богу со стороны всего сообщества христиан при лишь формальном
различении живых и мертвых, простых верующих и канонизированных святых. После
эпохи Карла Великого все мессы стали заупокойными, мессами в пользу некоторых
умерших, а также мессами по обету некоторых живых, причем те и другие выделялись из
общей массы верующих.
Важнейшим событием была замена галликанской литургии литургией римской,
проведенная по воле Карла Великого и принятая духовенством, несмотря на редкие
случаи противодействия. Введенная тогда римская литургия сохранялась вплоть до 60-х
гг. нашего столетия, до реформы папы Павла VI. Она заметно отличалась от той литургии,
которую собой заменила. Так, в ее словаре продолжали жить такие древние понятия, как
«освежение» и «упокоение», тогда как мрачные и тревожившие воображение формулы
мозарабской литургии в ней почти не удержались, если не считать Libéra, молитвы об
избавлении, которая, однако, неясно когда возникла. Изменилась и церемония
==158
чтения имен, а сопровождавшие ее молитвы приобрели иной характер: списки были
разъединены, причем имена мертвых отныне четко отделялись от имен живых.
Спонтанная солидарность живых и мертвых уступила место ходатайству за души
усопших, которым грозит опасность. Поминовение мертвых стало молитвой
заступничества.
Эти молитвы. Memento, пришедшие на смену длинным и представлявшим всю общину
диптихам, стали также частными. Речь шла теперь уже не обо всех верующих, о которых
церковь хранит молитвенную память, но лишь об одном или двоих умерших, чьи имена
передавались священнику, служившему мессу. В сохранившихся латинских текстах место
для имен, за которые возносилась молитва, обозначено словами illi или illae, «такие-то»,
что указывает на весьма ограниченный характер перечисления. Выбор имен стал делом
частным.
Галликанское долгое чтение имен осталось, таким образом, далеко в прошлом. Но и с
принятием римской литургии оно не исчезло совсем, а только совместилось с

проповедью. Теперь уже не у алтаря, а с кафедры, окончив проповедь и сделав
необходимые для жизни общины сообщения, священник возглашал: «Помолимся, братья,
за семьи такие-то и такие-то». Имена благодетелей церкви, живых и мертвых, читались
при этом не по-латыни, а на местном языке. Верующие читали «Отче наш». Тогда
священник с кафедры добавлял: «А теперь, когда мы помолились за живых, помолимся
равно и за умерших такого-то, такого-то и такого-то». Тогда читали De profundis. Списки
имен были длинные, хотя священники читали их обычно как можно быстрее, проглатывая
половину слов. Донаторы церкви обязывали священников называть их имена с кафедры в
определенные дни или по определенным праздникам.
Новый смысл, придававшийся молитвам за мертвых в римской литургии, превращал
любую мессу в заупокойную, чего не было во времена чтения диптихов. Поэтому-то в
Риме первоначально молитва Memento на воскресных и праздничных богослужениях не
звучала. Нет ее и в сакраментарии, который папа Адриан I направил Карлу Великому как
образец римской мессы, а флорентийский сакраментарии XI в. уточнял по поводу
Memento: «В воскресенье и в дни больших праздников ее не читают».
В этом случае мертвых просто исключали из церковной генеалогии, какой она
представала некогда в диптихах, а затем в молитвах, читавшихся проповедником с
кафедры. Исключали мертвых не из безразличия к ним, а, напротив, именно потому, что
особые молитвы, прямо относившиеся к ним, приобрели новое, более сильное значение.
Многочис-
==159
ленные мессы, служившиеся в течение всей недели в Раннее Средневековье
(раннехристианская церковь их не знала), превращались благодаря Memento в
заупокойные. По этой же причине церковь избегала омрачать этой молитвой праздничный
характер воскресного богослужения.
В IX в. на территории будущей Франции на таких заупокойных мессах уже не возглашали
«аллилуйя». Быть может,
мертвые начали уже внушать страх? Во всяком случае,
несомненно» что отныне они уже рассматривались как отдельное сообщество и не
смешивались с остальным «народом Божьим» — массой верующих христиан. Однако
вскоре люди станут столь чувствительны к нуждам душ умерших, которым угрожала
опасность проклятия, что перестанут исключать их из ритуала воскресного богослужения.
Так что
начиная с Χ в. уже трудно было себе представить религиозный акт, при котором
не затрагивалась бы в молитвах судьба
умерших.
Монашеское восприятие: сокровище церкви
Возможно, что миряне раннесредневековой эпохи сохраняли привязанность к публичному
чтению имен живых и мертвых, и потому этот обычай надолго пережил галликанскую
литургию. Зато выделение молитвы за мертвых и превращение ее в молитву
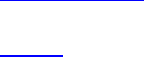
заступничества были связаны с обособлением клириков и монахов в сообществе
верующих
и организацией ими особого сообщества.
В раннехристианской церкви, как известно, существовало только богослужение епископа
и общины. В сельских приходах священник служил ту же епископскую мессу, хотя и в
отсутствие епископа. Такое положение дел сохраняется и поныне в церквах восточного
обряда. На латинском Западе вошло в обычай служить в течение недели мессу без пения, с
одной стороны, упрощенную, а с другой стороны, перегруженную частными молитвами,
иногда импровизированными. Священники старались совершать богослужения не только
ежедневно, но даже по нескольку раз в день, дабы усилить их действенность, увеличить
силу заступничества. В конце VIII — начале IX в. папа Лев III доходил до того, что
служил по девять месс в день, и еще в XII в. Гонорий Отенский указывал, что допускается
совершать не более трех-четырех богослужений в день. Частое повторение месс
позволяло, по представлениям духовенства, приумножать сокровище церкви и
распространять ее благодать на возможно большее число душ верующих. Лишь в XIII —
К оглавлению
==160
XIV вв. церковные соборы ограничили богослужебную практику одной мессой в день, за
исключением Рождества.
Особенно интенсивно и часто совершались богослужения, которые, как сказано выше,
сопровождались чтением Memento и призваны были облегчить участь умерших в
потустороннем мире. В Клюни, по свидетельству Рауля Глабера (начало XI в.),
заупокойные мессы совершались день и ночь: один
из клюнийских монахов, возвращаясь
из паломничества в Святую землю, встретил в Сицилии пустынника, который и рассказал,
что ему открылось в видении, насколько богослужения, постоянно совершаемые в Клюни,
угодны Богу и благодетельны для искупленных душ умерших.
Клюнийское аббатство стояло у истоков традиции особого праздника, посвященного
искуплению мертвых. Из подобных местных инициатив
родилась традиция отводить один
из дней в году молитвенному заступничеству сразу за всех умерших, кому в отличие от
клириков и монахов не было гарантировано посмертное содействие со стороны их
духовных братьев. Эти поминовения мертвых приходились в разных местностях на
разные дни: 26 января, 17 декабря, но чаще всего на 1 августа — день памяти святых
братьев Маккавеев. Наконец в 1048 г. аббат Одилон Клюнийский выбрал 2 ноября, и этот
день постепенно утвердился во всем католическом мире как день поминовения всех
усопших. Этот долгий процесс свидетельствовал одновременно и о чисто монашеском
происхождении обычая, и о длительном безразличии масс к подобному
индивидуалистическому подходу к умершим.
Начиная с VIII — IX вв. именно в монашеской среде развилось еще неведомое в миру
чувство неуверенности и тревоги перед лицом смерти или, скорее, потустороннего мира.
