Арьес Ф. Человек перед лицом смерти
Подождите немного. Документ загружается.


Это свидетельство иконографии подтверждается другим. В христианских эпитафиях
первых веков новой эры можно распознать фрагменты древней молитвы, которую
церковь, быть может, унаследовала от иудейской синагоги и которая сохранилась в
религиозной практике до наших дней
117
. Мы уже слышали эту молитву из уст
умирающего Роланда. Она входила в состав молитв, поручающих Богу душу умершего и
остававшихся в католических миссалах вплоть до литургических реформ папы Павла VI в
60-е гг. нашего столетия
118
.
«Избавь, Господи, душу слуги твоего, как ты избавил Еноха и Илию от смерти, общей для
всех, как ты избавил Ноя от потопа, Авраама, выведя его из города Ур, Иова от его
страданий, Исаака от рук его отца Авраама, Лота от содомского пламени, Моисея от руки
Фараона, царя Египта, Даниила от львиного рва, троих еврейских отроков от печи,
Сусанну от ложного обвинения, Давида от рук Саула и Голиафа, святых Петра и Павла от
темницы, блаженную деву святую Феклу от трех ужасных мук». Эта древнейшая
==114
христианская молитва за мертвых восходит к известной еврейской молитве в дни поста.
Уже в раннехристианскую эпоху вышеприведенная молитва была так распространена, что
первые христианские резчики камня в Арле вдохновлялись ею при украшении
саркофагов.
Как мы видим, — и это уже было отмечено исследователями — молящийся, ссылаясь на
библейские примеры милосердного избавления, говорит не о грешниках, но о самых
больших праведниках: Аврааме, Иове, Данииле, апостолах. Поэтому, когда христианин в
эпоху Раннего Средневековья читал, подобно рыцарю Роланду, в свой смертный час эту
молитву (commendacio animae, вручение души), он думал не о судилище, а о
триумфальном, избавительном вмешательстве Бога, кладущего конец испытаниям,
которые претерпевают на земле его верные. Правда, Роланд также каялся в своих
прегрешениях, что могло означать наступление некоторых перемен в религиозном чувстве
средневекового человека. Но в самой молитве commendacio animae не говорится о грехе
или о прощении грешника. Как если бы грешник уже был прощен и объединен со святыми
праведниками в ожидании воскресения и вечного спасения.
Суд
в конце времен. Книга жизни
Начиная с XII в. мы наблюдаем, как в течение четырех столетий иконография
разворачивает на порталах церквей бесконечную ленту вариантов великой
эсхатологической драмы. Сквозь эти застывшие каменные «кадры» просвечивают
выраженные на привычном религиозном языке новые тревоги человека, открывающего
свою судьбу. Первые изображения Страшного суда, относящиеся к XII в., состоят
из
наложения одной на другую сцен, очень старой и очень новой.
Старая сцена — это именно та, о которой уже шла речь: Христос в славе Своей,
восседающий на небесном престоле. В излучаемом Им свете исчезает, завершается
история мира сего и отдельного человека и торжествует вечное и трансцендентальное. И
в XII в. эта апокалиптическая сцена из видения Иоанна Богослова продолжала жить в

воображении людей, но теперь она занимала лишь одну, верхнюю часть портала. В Больё
в начале XII в. изображения ангелов, дующих в трубы, сверхъестественных существ,
гигантской фигуры Христа, поднимающего огромные руки, покрывают еще большую
часть поверхно-
==115
сти, оставляя мало места другим образам и символам. И позднее, в Сент-Фуа-де-Конк
(ИЗО — 1150 гг.), Христос в овале, усеянном звездами, на облаках, — это все тот же
торжествующий Сидящий «Апокалипсиса».
Но и в Больё, и еще больше в Сент-Фуа-де-Конк под традиционным изображением
второго пришествия появляется новая иконография, вдохновляемая рассказом евангелиста
Матфея о Страшном суде и отделении праведников от проклятых. Эта новая иконография
воспроизводит главным образом три момента: воскрешение мертвых. Суд и отделение
праведных, идущих на небо, от нечестивых, ввергаемых в геенну огненную, «в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
Постановка великой эсхатологической драмы в сознании людей и в искусстве
осуществлялась медленно, как если бы идея Страшного суда, ставшая классической в ХП
— XIII вв., встречала некоторое сопротивление. В Больё на портале романской церкви,
как и на саркофаге Агильберта в Жуаррской крипте и на купели в Шалон-сюр-Марн,
мертвые, выходя из могил, как бы сразу попадают на небо, не подвергаясь суду: они с
самого начала предназначены к спасению, как sancti в Вульгате. Правда, здесь, в Больё,
изображены не только праведники, но и проклятые. Если присмотреться, их можно
обнаружить рядом с чудовищами, изображенными на притолоке портала; некоторые из
этих чудовищ пожирают людей, обреченных на проклятие и вечную муку. Нельзя не
поразиться тому, как опасливо, почти тайком в эту каменную картину Страшного суда
вводятся ад и его муки. Адские существа почти не отличаются здесь от всей той
сказочной фауны, которую романское искусство позаимствовало у искусства Востока и
приумножило в целях как декоративных, так и символических.
В Сент-Фуа-де-Конк смысл сцены на портале церкви раскрывают надписи. На нимбе
Христа можно прочесть ludex — Судья. В другом месте композиции скульптор высек в
камне слова из Евангелия от Матфея: «Приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Идите от меня, проклятые, в
огонь вечный...» И ад, и рай имеют здесь свою эпиграфическую легенду. Мы видим здесь
также сцену Суда: знаменитое взвешивание душ архангелом Михаилом. Рай занимает уже
лишь равное с адом место в композиции. Наконец, самое примечательное: ад заглатывает
среди прочих и людей церкви, монахов с тонзурой. Следовательно, со старинным
приобщением всех верующих к святым к середине XII в. было покончено. Никто в народе
Божьем не может изна-
==116

чально рассчитывать на спасение, его не получат автоматически даже те, кто предпочел
жизни в миру монастырское затворничество.
Таким образом, в XII в. утвердилась новая иконография, которая накладывала
евангельскую концепцию Страшного суда на апокалиптическую концепцию конца
времен, связывала одну с другой. В XIII в. идея Страшного суда почти полностью
вытеснила идею второго пришествия Христа. С этого времени перед нашими глазами
разворачиваются на камне сцены судебного заседания: судья Христос на троне окружен
ангелами со знаменами в руках — символом судебной власти. Овал, ранее отделявший
изображение Христа от других фигур, исчез. Иногда рядом с Христом-судьей стоит его
свита — двенадцать апостолов.
Особое значение приобретают две судебные процедуры. Одна из них — взвешивание душ,
обычно изображаемое в центре композиции. Ангелы, глядящие с облаков на это действо,
выражают волнение и тревогу, связанные с этим решающим актом небесного правосудия.
Нет больше и речи о том, чтобы мертвые, избежав испытания, сразу восходили к жизни
вечной. Значение судебного разбирательства в определении их судьбы еще более
подчеркнуто тем, что в некоторых композициях праведники отделяются от грешников
не только при помощи весов архангела Михаила. Как если бы скульпторам показалось,
что этого недостаточно, в другом месте композиции архангел Гавриил своим мечом еще
раз отсекает избранных от проклятых.
Однако не всегда взвешивание на весах предрешает судьбу. Мы видим вмешательство
небесных заступников, играющих роль, не предусмотренную в тексте евангелиста
Матфея: они молят Верховного Судью явить милость. Христос здесь в такой же мере
милосердный Судья, прощающий виновного, как и грозный Судья, карающий грешника.
В роли заступников выступают обычно Мать Судьи и Его ученик, стоявший в день Его
распятия у подножия креста. Впервые Святая Дева и св. Иоанн Евангелист появляются в
сцене судилища на портале романского собора Сен-Лазар в Отэне (XII в.), в верхней части
тимпана, с обеих сторон от большого ореола, окружающего Христа на троне. В Отэне эти
фигуры еще как бы остаются в тени, но начиная с XIII в. они
стали главными
действующими лицами, не менее важными, чем сам архангел Михаил с весами в руках.
Святая Дева и Иоанн Евангелист изображаются стоящими на коленях, с руками,
сложенными в умоляющем жесте и обращенными к Христу.
Вновь сойдя с небес на землю, Христос уподобляется, таким образом, средневековому
королю, восседающему в
==117
своей судебной курии и творящему правосудие. Такое уподобление нисколько не
ослабляло в глазах современников величия Христа, ибо осуществление правосудия
воспринималось как проявление могущества и власти в самом чистом виде, а образ
судебной курии был символом величия. Воплощение эсхатологических мотивов в образе

судебного заседания поражает лишь нас сегодняшних, ставших столь безразличными,
полными скепсиса в отношении правосудия и судебной магистратуры. Значение,
придаваемое правосудию в повседневной жизни и в стихийной морали общества, есть
один из психологических факторов, разделяющих и противопоставляющих старый,
архаичный менталитет наших предков и наш современный менталитет.
Эта чувствительность к понятию и проявлениям правосудия восходит к XI — XII вв. и
сохраняется до конца XVIII в. Человеческая жизнь выступала как длительная процедура,
каждый элемент которой санкционирован юридическим актом. Сами институты
публичной власти строились по модели судебных курий, полицейская и финансовая
администрация были организованы как трибунал с председателем, советниками,
прокурором и секретарем. Существовала также связь между этой юстициальной
концепцией мира и новым пониманием жизни как биографии. Каждый момент жизни
будет когда-нибудь взвешен в торжественном судебном заседании, в присутствии всех
могущественных сил неба и ада. Взвешивание человеческой души на весах поручено
архангелу Михаилу, который поэтому стал в скором времени популярным покровителем
умерших: надо было торопиться заручиться его благосклонностью. Его молили за души
усопших: «Да введет он их в святой свет».
Но откуда узнает небесный Суд о тех деяниях, которые он должен оценить? Они занесены
в книгу другим ангелом, выступающим отчасти как секретарь суда, отчасти как счетовод.
Символ книги появляется в Священном писании рано, уже в видении пророка Даниила:
«И восстанет в то время Михаил, князь великий... и наступит время тяжкое, какого не
бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из
народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». О той же таинственной
книге говорится и в «Апокалипсисе»: «И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу,
написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». На саркофаге в Жуаррской
крипте VII в. эта книга представлена в виде свитка, который Христос держит в руке перед
славящими Его избранными. В том свитке были записаны их имена, и он продолжал
пополняться до самого конца времен. Тогда же,
==118
в VII в., эта книга послужила духовным прообразом реальной liber vitae, «книги жизни»,
куда записывались имена благодетелей церкви, поминавшиеся в молитвах над святыми
дарами. На портале Сент-Фуа-де-Конк ангел держит раскрытую книгу, на которой также
написано «книга жизни». В нее занесены святые и праведники, обитатели «земли живых»,
то есть рая.
Таков был первоначальный смысл «книги жизни», но с XIII в. он меняется. Теперь это
больше не перечень святых, а реестр человеческих деяний. Поступки каждого человека
уже не теряются в бескрайнем пространстве трансцендентного или, говоря иными
словами, в коллективной судьбе рода человеческого. Отныне они индивидуализированы,
выделены. Жизнь больше не сводится к дыханию, к энергии, она состоит из мыслей, слов,
действий (отсюда текст покаянной молитвы Confiteor, составленной в VIII в. епископом
Мецским Хродегангом: «Я согрешил в помышлении, и в речении, и в деянии»), она являет
собой сумму фактов, которые могут быть учтены и рассчитаны в некоей книге.

Эта книга выступает, таким образом, одновременно как история человека, его биография,
и как бухгалтерский гроссбух, где с одной стороны записаны добрые деяния человека, а с
другой — дурные. Новый рационализм, расчетливость делового человека, начинавшего
тогда открывать свой собственный мир — мир, ставший нашим, — применяются здесь к
содержанию человеческой жизни, как к товару или монете. «Книга жизни» сохраняла свое
место среди символов моральной жизни вплоть до середины XVIII в., хотя образ весов в
иконографии появлялся все реже, а на смену архангелу со знаменем — символом
судебной власти — пришли св. Иосиф или ангел-хранитель.
В XIII в., столетие спустя после возведения романской церкви Сент-Фуа-де-Конк с ее
знаменитым порталом, в составленном францисканцами гимне Dies irae ("День гнева"),
который пели во время заупокойной мессы, говорится о книге, «где все содержится»; по
этой книге вершится суд над миром. Характерная и многозначительная перемена: то, что
первоначально было книгой избранных, стало теперь книгой проклятых.
Еще столетие спустя, в середине XIV в., на картине Якопо Альбареньо был изображен
Христос-судья на троне, держащий на коленях открытую книгу. В ней написано: «Кто
записан в эту книгу, будет проклят». Ниже трона, где восседает Христос, представлены
души умерших в виде скелетов. Каждая из этих душ держит в руках собственную книгу и
выражает жестами, какой ужас может внушить чтение такой книги. Подобные же
индивидуальные кни-
==119
жечки, своего рода удостоверения личности, которые висят на шеях у обнаженных людей,
олицетворяющих воскресших мертвых, мы находим на большой фреске Страшного суда в
глубине хора собора в Альби (конец XV или начало XVI в.)"
9
.
Мы еще увидим в дальнейшем, как в искусстве XV в. драма переносится в комнату
умирающего. У изголовья его постели Бог или дьявол сверяются с книгой. Мотив книги
сохранился и в XVII — XVIII вв. в провансальском искусстве, барокко. В Антибах Время
в образе старика приподымает саван, покрывающий тело юноши, и показывает при этом
книгу. В церкви Сен-Мишель-де-Салон алтарный ретабль XVIII в. содержит среди других
классических атрибутов смерти также раскрытую книгу.
В XIV — XV вв., по представлениям современников, ведением загробных счетов
занимаются те, кому выгодно, если дурные дела человека перевешивают, — силы ада,
черти. Поэтому и книга на картинах, фресках или рельефах чаще обращена своими
страницами к дьяволу или его слугам. В эпоху Контрреформации вновь устанавливается
равновесие. Для благочестивых моралистов XVII—XVIII вв. была неприемлема мысль,
будто лишь дьявол занимается ведением счетов на Страшном суде. В одном из
многочисленных тогда трактатов о том, как надлежит готовить себя к смерти, в «Зерцале
души грешника и праведника в течение жизни и в час смерти» 1736 г., утверждается, что у
каждого человека есть две книги: одна для добра, которую ведет ангел-хранитель, а
другая для зла — ее ведут бесы.
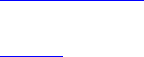
Картина неправедной смерти описана так: «Удрученный ангел-хранитель покидает его
[умирающего], роняя его книгу, где стираются записанные там добрые дела, ибо все, что
он сделал доброго, лишено ценности для небес. Слева же виден бес, представляющий ему
книгу, заключающую в себе всю историю его дурной жизни». Картина благой, праведной
смерти выглядит прямо противоположно: «Ангелхранитель с радостным видом
показывает книгу, где записаны его добродетели, его добрые дела, посты, молитвы,
умерщвление плоти и тому подобное. Дьявол же в смятении удаляется и бросается в ад с
его книгой, где нет никаких записей, ибо его грехи стерты искренним покаянием»
120
. Так
большая коллективная «книга жизни» с портала церкви Сент-Фуа-де-Конк превратилась
600 лет спустя в индивидуальную книжечку, нечто вроде паспорта с указанием
судимостей, предъявляемого у врат вечности.
Итак, книга содержит всю историю жизни человека, но составляется она для того, чтобы
послужить ему лишь один-единственный раз: в момент завершения
всех счетов,
К оглавлению
==120
подведения баланса, сравнения пассива и актива. В представлениях людей начиная по
крайней мере с XII в. существовал только один критический момент в судьбе человека,
dies irae, dies ilia, «день гнева, день тот», когда каждая индивидуальная биография будет
выделена из общей судьбы, пересмотрена и заново оценена. Примечательно, что это не
момент самой смерти, а момент после смерти, который первоначальная христианская
версия относила к концу времен, ожидавшемуся, впрочем, в самом скором будущем.
Это все тот же, уходящий корнями в седую древность отказ рассматривать прекращение
физического существования человека как конец его бытия. Люди воображали себе некое
«продление», которое хотя и не всегда доходило до идеи бессмертия блаженных, но
создавало все же определенное промежуточное пространство между смертью и
окончательным завершением жизни.
Тема Страшного суда отнюдь не была забыта в XV — XVII вв.: мы находим ее в
живописи Ван Эйка и Босха, в церковном искусстве Ассизи или Дижона. Однако эта тема
пережила себя и утратила популярность. Форма, в которой представлялся людям того
времени «последний конец» человеческого существования, изменилась. Идея Суда
отделилась тогда от идеи Воскресения.
Сама по себе концепция воскрешения плоти продолжала жить. Надгробная иконография и
эпитафии, как католические, так и протестантские, не переставали к ней обращаться. Но
теперь она оторвалась от великой космической драмы рода человеческого и сохранила
свое место лишь в личной судьбе отдельного человека. Христианин еще продолжал
подчас утверждать в надписи на его могильном камне, что когда-нибудь воскреснет, а
будет ли это в день второго пришествия Христа или в день конца мира, было ему
безразлично. Главной оставалась уверенность в собственном воскресении, в этом
последнем акте собственной жизни, жизни,
которая занимала человека настолько, что
общая судьба всего творения Божьего переставала его интересовать. Такое утверждение
индивидуальности противопоставляло позицию людей XIV — XV вв. — в еще большей
степени, чем людей XII — XIII вв. — традиционному христианскому менталитету

предшествующих столетий. Сверхъестественное будущее человека, умиротворенное,
освобожденное от драматизма грозного судилища, может показаться возвращением к
оптимистической концепции раннего христианства. И все же такое сближение
поверхностно и обманчиво, ибо, несмотря на утверждения надгробной эпиграфики, страх
перед Судом брал верх над верой в собственное воскресение.
==121
Отделение идеи Воскресения от идеи Суда имело и другое, более очевидное следствие.
Промежуток между физической смертью и окончательным завершением жизни исчез, и
это было великим событием в истории менталитета. Пока такой промежуток существовал,
смерть еще не была собственно смертью, ибо баланс жизни не был еще подведен. Человек
оставался между жизнью и смертью, он обладал все еще способностью «явиться» живым,
чтобы потребовать у них помощи, молитв и даров «на помин души», которых ему
недоставало. Еще было время, чтобы святые заступники исполнили свою спасительную
роль. Отдаленные последствия добрых дел, совершенных человеком при жизни, еще
могли успеть дать себя знать.
Но отныне участь бессмертной души решалась в самый момент физической кончины. Все
меньше места оставалось для появления призраков, привидений, теней — неуспокоенных
душ умерших. Зато вера в существование чистилища, места ожидания, составлявшая
ранее исключительное достояние ученых-богословов или поэтов, стала поистине
популярной, всеобщей (хотя и не ранее середины XVII в.), вытеснив собой старые
представления о смерти как сне и покое.
Великая драма покинула пространства потустороннего мира. Она приблизилась, она
разыгрывалась теперь в комнате самого умирающего, у его смертного одра. Поэтому на
смену прежней иконографии Страшного суда пришла новая: гравюры на дереве,
распространяемые посредством новейшего изобретения — искусства типографии,
индивидуальные картинки, которые каждый мог созерцать у себя в комнате. Листая
трактаты об «искусстве умирать», о способах подготовки к благой, праведной смерти,
неграмотный мирянин находил эти гравюры и мог понять смысл книги так же хорошо, как
и люди ученые
Эта иконография при всей своей новизне возвращает нас
к архаической модели смерти как угасания лежащего на смертном одре. Кровать, символ
любви и отдыха, была с незапамятных времен и местом смерти. Умирал ли человек от
болезней или так называемой «естественной» смертью, то есть, по представлениям того
времени, без болезни и страданий, он всегда умирал в кровати. Внезапная смерть
считалась явлением исключительным и ужасным, ведь даже серьезные ранения или
несчастные случаи оставляли время
для ритуальной агонии в постели.
Однако в иконографии смерти комната умирающего приобретала новый смысл. Она уже
не была больше местом, где происходит событие почти банальное, обыденное, пусть и

более торжественное, чем другие события в человеческой жизни. Комната становилась
театром, подмостками драмы, где в
==122
последний раз разыгрывалась судьба умирающего: вся его жизнь, его страсти, мысли и
поступки входили в игру. Больной, лежащий на смертном одре, умирает. По крайней мере
так можно понять из текста, где говорится, что он мучим страданиями. На картинке это не
так заметно: больной не выглядит слишком исхудавшим, ослабевшим. По обычаю,
комната его полна народу, ведь умирали всегда прилюдно. Но те, кто толпится у постели
умирающего, не видят ничего из того, что в этот момент происходит, и сам умирающий не
видит присутствующих. Не отрываясь, завороженно следит он за необыкновенным
зрелищем, которое только он один и видит: комната полна сверхъестественных существ,
устремляющихся к его изголовью. С одной стороны, святая Троица, дева Мария, ангел-
хранитель, все небесное воинство; с другой — Сатана и чудовищная армия бесов. Конец
времен разыгрывается здесь, в комнате умирающего. Все в сборе, но это уже мало
напоминает судебную курию. Св. Михаил не взвешивает там на своих весах добро и зло.
Его заменил ангел-хранитель — скорее духовный наставник и помощник, чем судебный
защитник или протоколист.
Наиболее ранние изображения смерти в кровати сохраняют еще ставшую классической
мизансцену судилища, трактованную в стиле мистерий. Такова, например, иллюстрация к
заупокойной молитве в Псалтыри 1340 г. Обвиняемый взывает к заступничеству
Богоматери, моля избавить его от адских мук. Сатана, стоя за постелью умирающего,
заявляет свои права на его душу. Снизойдя к заступничеству Святой Девы, Бог дарует
милость обвиняемому
122
. Бог предстает не столько как грозный судья в трибунале,
сколько как арбитр в споре добра и зла за душу умирающего. По словам А.Тененти,
изучавшего иконографию трактатов об «искусстве умирать» (artes moriendi), в этой «битве
между двумя сверхъестественными сообществами» умирающий выступает скорее как
пассивный свидетель, чем как активно действующее лицо. В беспощадной схватке за его
душу, разыгрывающейся у его постели между небесным воинством и армией бесов, ему
остается лишь ждать, чья сторона возьмет верх
123
.
Если иллюстрации к авиньонской поэме «Зерцало Смерти» в рукописи, датируемой
приблизительно 1460 г., действительно подтверждают эти слова исследователя, то в
других случаях впечатление складывается иное. Представляется, что умирающий
сохраняет достаточную свободу, и если Бог, как кажется, слагает с себя прерогативы
судьи, то человек сам становится собственным судьей. Силы неба и силы
ада
присутствуют при последнем испытании, предложенном умирающему; исход этого
испытания определит
==123

смысл всей прожитой жизни. Силы потустороннего мира выступают как зрители и
свидетели. Человек же властен в эту минуту все проиграть или все выиграть. От него
зависит, победит ли он с помощью своего ангела-хранителя и небесных заступников и
спасется или уступит соблазнам дьявола и погубит свою душу.
Последнее испытание в час смерти заменило собой Страшный суд. в конце времен.
Умирающему предложена страшная игра, и именно в терминах игры рассуждает об этом
Джироламо Савонарола: «Человек, дьявол играет с тобой в шахматы и пытается овладеть
тобой и поставить тебе шах и мат в этот момент. Будь же наготове, подумай хорошенько
об этом моменте, потому что, если ты выиграешь в этот момент, ты выиграешь и все
остальное, но если проиграешь, то все, что ты сделал, не будет иметь никакой ценности».
«Этот момент» — момент смерти.
Иконография macabre
В такой рискованной игре есть нечто ужасное, и вполне понятно, что страх перед
потусторонним миром мог владеть людьми, еще
не испытывавшими страха перед самой
смертью. Страх перед потусторонним миром выражался в представлениях об адских
муках. Сближение момента смерти с моментом окончательного решения участи человека
грозило распространить на саму смерть страх, внушаемый вечными муками. Быть может,
именно так и следует интерпретировать феномен macabre — характерных для Позднего
Средневековья мрачных и отталкивающих изображений
разлагающихся трупов, гниения,
а затем, в XVII — XVIII вв., иссохших скелетов, костей, черепов. Средневековый феномен
macabre ставил в тупик историков, начиная с Жюля Мишле, пораженных
оригинальностью сюжетов и реализмом изображения.
Разумеется, и иконография macabre опиралась на определенные традиции. Неизбежность
смерти, хрупкость и бренность земного бытия вдохновляли уже древнеримских мастеров,
изображавших скелет на бронзовой чаще или на мозаичном полу богатого дома. И в
средневековом искусстве очень рано можно обнаружить изображение Смерти в виде
всадника из «Апокалипсиса». Так, на капители колонны в соборе Парижской Богоматери,
на портале Страшного суда в Амьене женщина с завязанными глазами уносит мертвое
тело, кладя его на круп своего коня. В других случаях всадник Смерть держит в руках
весы судилища или смертоносный лук со стрелами. Но иллюстрации
==124
эти немногочисленны, маргинальны и комментируют без всякого пафоса общие места
идеи человеческой смертности.
Размышление о тщете и суетности земной жизни, о необходимом «презрении к миру»
постоянно присутствует в христианской литературе Средневековья. Латинская поэзия XII
в. полна меланхолических мыслей о былом величии, унесенном беспощадным временем:
«Где теперь торжествующий Вавилон, где ужасный Навуходоносор, где могущество
Дария? (...) Они гниют в земле (...) Где те, кто был в этом мире прежде нас? Пойди на
кладбище и взгляни на них. Они теперь всего лишь прах и черви, плоть их сгнила...»
124
В
монастырях монахам, слишком искушаемым всем мирским, не уставали напоминать о

бренности могущества, богатства, красоты. Вскоре, незадолго до великого расцвета
macabre, другие монахи, нищенствующие братья, выйдя из монастырей, распространили
по всему христианскому миру темы и мотивы, глубоко поразившие воображение
городских масс, внимавших странствующим проповедникам. Темы этих проповедей
относились к той же культуре macabre, которой предстояло в скором будущем пережить
невиданный расцвет.
Правда, до XIV в. образ разрушения, распада всего живого иной, чем в более позднее
время: прах, пыль, но не разлагающаяся масса, кишащая червями. В языке Вульгаты и
старинной литургии в дни великого поста понятия пыли и праха, из которых человек
вышел и в которые он возвратится, смешиваются. Подобный круговорот праха, связанный
с идеями природы и материи, создает образ разрушения, близкий к традиционному,
архаическому образу смерти, выражаемому словами «все мы смертны». Напротив, новому
образу смерти, индивидуальной, патетической, тому образу, который мы находим в
трактатах об «искусстве умирать», должен был соответствовать и новый образ
разрушения.
Наиболее ранние воплощения macabre в средневековом искусстве зачастую еще
обнаруживают преемственную связь с иконографией Страшного суда или же суда
индивидуального, разворачивающегося у постели умирающего. К примеру, на большой
фреске на пизанском Кампо Санто, датируемой примерно серединой XIV в., вся верхняя
часть представляет собой битву ангелов и бесов, оспаривающих друг у друга души
умерших. Ангелы уносят избранных на небо, бесы же ввергают проклятых в ад.
Привыкшие к иконографии Суда, мы находим здесь то, что и ожидали найти. Зато в
нижней части фрески мы напрасно стали бы искать традиционные образы воскресения
мертвых. Вместо них мы видим женщину с распущенными волосами, в
==125
длинных одеждах, летящую над миром и разящую своей косой молодых людей обоего
пола в лучшие мгновения их жизни. Это странный персонаж, в котором есть нечто и от
ангела (она летит, и ее тело антропоморфно), и от дьявола и зверей (у нее крылья летучей
мыши). Действительно, нередки будут попытки лишить Смерть ее нейтральности и
отнести ее к миру дьявола, к миру адских сил. «Тенью ада» называет Смерть Пьер Ронсар.
Но ее будут рассматривать и как посланца добра, верного исполнителя воли Божьей: в
картине Страшного суда у Ван Эйка она накрывает мир своим телом, подобно
Богоматери, накрывающей род человеческий своим плащом.
На большой фреске в Пизе под взмахами косы Смерти падают наземь мертвые тела с
закрытыми глазами, а ангелы и бесы спешат подобрать души, покидающие свою бренную
оболочку. В стороне от этой сцены всеобщей смерти есть и другая: отряд всадников
пятится от ужасающего зрелища трех разверстых гробов. Лежащие в них мертвецы
находятся в трех различных стадиях разложения: у одного лицо еще не тронуто тлением, и
он был бы похож на лежащих в другой части композиции, только что сраженных косой
Смерти, если бы не живот, раздувшийся от трупного газа; другое тело уже обезображено
тлением до неузнаваемости, и только в отдельных местах еще видны куски плоти; третий
мертвец уже достиг состояния мумии.
