Алеврас Н.Н., Гришина Н.В., Краснова Ю.В. (ред.) История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII-XXI веков
Подождите немного. Документ загружается.


171
Свешников А. В. Социальный статус и поведенческие стратегии...
15
Пример подобного рода отчета см.: Человек с открытым сердцем. Автобиографи-
ческое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса 1860–1941 / авт.-сост.
О. Б. Вахромеева. СПб., 2004. С. 196–199.
16
Иванов А. Е. Ученые степени… С. 99.
17
См.: Жебелев С. А. Указ. соч. С. 150–151.
18
Наиболее известным случаем является неудовлетворительная оценка, получен-
ная на кандидатском экзамене известным впоследствии историком Н. П. Павловым-
Сильванским. См.: Чирков С. В. Н. П. Павлов-Сильванский и его книга о феодализме
// Павлов-Сильванский П. Н. Феодализм в России. М., 1988. С. 603–604.
19
Об институте зарубежных стажировок «оставленных при кафедре» см.: Трохи-
мовский А. Ю. : 1) Заграничные командировки ученых Московского университета в
1856–1881 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2007; 2) Политика Министерства
Народного Просвещения по подготовке молодых ученых за границей. 1856–1881 гг. //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. 2007. № 1. С. 67–76.
20
Об институте приват-доцентуры см.: Бон Т. М. Указ. соч. С. 37–44.
21
Жебелев С. А. Указ. соч. С. 152.
22
Брачев В. С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб.,
2001. С. 127.
23
Бон Т. М. Указ. соч. С. 37.
24
См.: Свешников А. В. Петербургская школа медиевистов начала ХХ века. Попытка
историко-антропологического исследования научного сообщества. Омск, 2010.
25
Красножен М. Е. Указ. соч. С. 8.
26
Человек с открытым сердцем… С. 197.
27
Этот вопрос наиболее обстоятельно рассмотрен в литературе на материале взаимо-
отношения со своими учениками московского профессора В. И. Герье. См., например:
Антощенко А. В. Учитель и ученик : В. И. Герье и П. Г. Виноградов : (К вопросу о
Московской исторической школе) // История идей и воспитание историей : Влади-
мир Иванович Герье. М., 2008. С. 105–117; Иванова Т. Н. Владимир Иванович Герье
: портрет педагога и организатора образования. Чебоксары, 2009. С. 212–241; Ивано-
ва Т. Н., Зарубин А. Н. В. И. Герье как «надежный путеводитель» в научной карьере
П. Н. Ардашева : к вопросу о складывании функций научного руководителя на рубеже
XIX–ХХ вв. // Мир историка : историогр. сб. Вып. 6. Омск, 2010. С. 22–42.
28
Иванов А. Е. Ученые степени… С. 89.
29
См.: Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 1. М., 1990. С. 159–161.
30
См.: Лоскутова М. В. Географическая мобильность профессоров и преподавателей
российский университетов второй половины XIX в. : постановка проблемы и пред-
варительные результаты исследования // «Быть русским по духу и европейцем по об-
разованию» : (Университеты Российской империи в образовательном пространстве
Центральной и Восточной Европы XVIII – начала ХХ в.). М., 2009. С. 183–221.

172
Сотворение историка...
Н. В. Гришина
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)
«АНАХРОНИЗМ НАШИХ ПЕЧАЛЬНЫХ ДНЕЙ»:
РОССИЙСКАЯ ДИССЕРТАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НА РУБЕЖЕ 1910–1920-х ГОДОВ
Российская диссертационная система никогда не была статичной. На про-
тяжении всего XIX столетия, по мере своего становления, она подвергалась
различным преобразованиям. Особенно интенсивно процесс обсуждения судь-
бы российской диссертационной системы происходил на рубеже XIX–XX вв.,
когда после ряда скандальных защит эта проблема начала активно обсуждаться
общественностью, а чуть позже стала предметом пристального внимания ми-
нистерских комиссий.
В конце 1910-х – 1920-е гг. обсуждение трансформации системы присужде-
ния ученых степеней продолжалось. Причем оно инициировалось и поддер-
живалось различными властями, которые в этот период быстро менялись. Так,
в заседании историко-филологического факультета Московского университета
24 октября 1917 г. происходило обсуждение проекта Временного правитель-
ства об отмене магистерских экзаменов и получении звания приват-доцента
в результате представления в факультет сочинения pro venia legendi
1
. Данный
проект можно рассматривать в качестве продолжения министерской политики
царской России по увеличению численности научного сословия.
Среди профессоров, участвовавших в заседании, было распространено
мнение, что возникновение такого проекта было вызвано «нуждой провинци-
альных университетов в преподавателях»
2
. При этом ученые опасались, что в
результате принятия министерского указа, произойдет «девальвация научного
ценза»
3
. Они видели в проекте желание МНП «получить преподавателей чис-
лом поболее, ученостью пожиже»
4
.
Многие профессора продолжали настаивать на сохранении «повышенных
требований» к будущим ученым как в отношении магистерского экзамена, так
и подготовки диссертационного исследования. Напомню, что эти требования
были сформулированы еще в конце XIX в., когда велась дискуссия о судьбе

173
Гришина Н. В. «Анахронизм наших печальных дней»...
российской диссертационной системы
5
, и оставались актуальными в начале
XX в., что отразилось в проектах по преобразованию системы высшего обра-
зования, готовившихся под эгидой МНП 1902–1903 и 1906 гг.
6
В июле 1919 г. уже в рамках построения советской системы присуждения
ученых степеней обсуждался новый проект Положения об «оставленных» при
университете для приготовления к профессорскому званию
7
. Среди нововведе-
ний проекта можно отметить официальное учреждение должности профессора-
руководителя и профессоров-специалистов, курировавших молодого исследо-
вателя. Огосударствление системы образования просматривается в том, что
проект предусматривал «казенное содержание» всех «оставленных» при уни-
верситете, хотя некоторые профессора настаивали на сохранении прежнего
порядка, в основе которого лежал избирательный подход к финансовой под-
держке соискателей. Обсуждался вопрос о формате чтения пробных лекций: в
проекте предполагалось их чтение только в закрытом заседании факультета
8
.
Значительная часть магистрантов на рубеже 1910–1920-х гг. еще не заверши-
ли работу над диссертациями и не были готовы к защите своего исследования.
Но можно заметить, что общее число «оставленных» при университете в указан-
ный период только возросло. Так, на факультете общественных наук в Москов-
ском университете в 1919 г. числилось 45 «оставленных», из них 20 проходили
по историческому отделению
9
. Для сравнения: на рубеже XIX–XX вв. по данным
университетских отчетов их количество в среднем составляло 6–8 человек в год.
Многие из «оставленных» начали приготовление к профессорскому званию еще
в дореволюционный период. Схожие процессы наблюдались и в других универ-
ситетах. В частности, в материалах к отчету о работе Петербургского универси-
тета за 1917–1919 гг. читаем, что в осеннем полугодии 1917 и весеннем 1918 гг.
для подготовки к профессорскому званию было оставлено 272 человека. Из них
по историко-филологическому факультету – 102, физико-математическому – 91,
юридическому – 70, факультету Восточных языков – 9 универсантов
10
. В итоге,
такое внушительное количество «оставленных» в конце 1910-х гг. можно рас-
ценивать как проявление дореволюционных тенденций в диссертационной куль-
туре. Приведенная статистика – это своеобразный шлейф от нарастающего про-
цесса защит на рубеже XIX–XX вв. На рубеже первых двух десятилетий XX в.
он был искусственно ускорен деструктивным характером ситуации – разрывом
научной традиции, осложнившим осуществление трансляции опыта диссерта-
ционной культуры историков «старой школы» новому поколению.
Даже после официальной отмены ученых степеней и званий практика остав-
ления при университетских кафедрах сохранялась. В частности, на заседании
исторического отделения факультета общественных наук Московского универ-
ситета 27 марта 1920 г. было принято решение об оставлении В. В. Оранского
по кафедре истории античного мира и В. О. Камерницкого по кафедре истории
новых европейских обществ
11
.
Уже в конце апреля того же года В. В. Оранский получил право чтения за-
крытых лекций с целью зачисления на преподавательскую должность
12
. В засе-
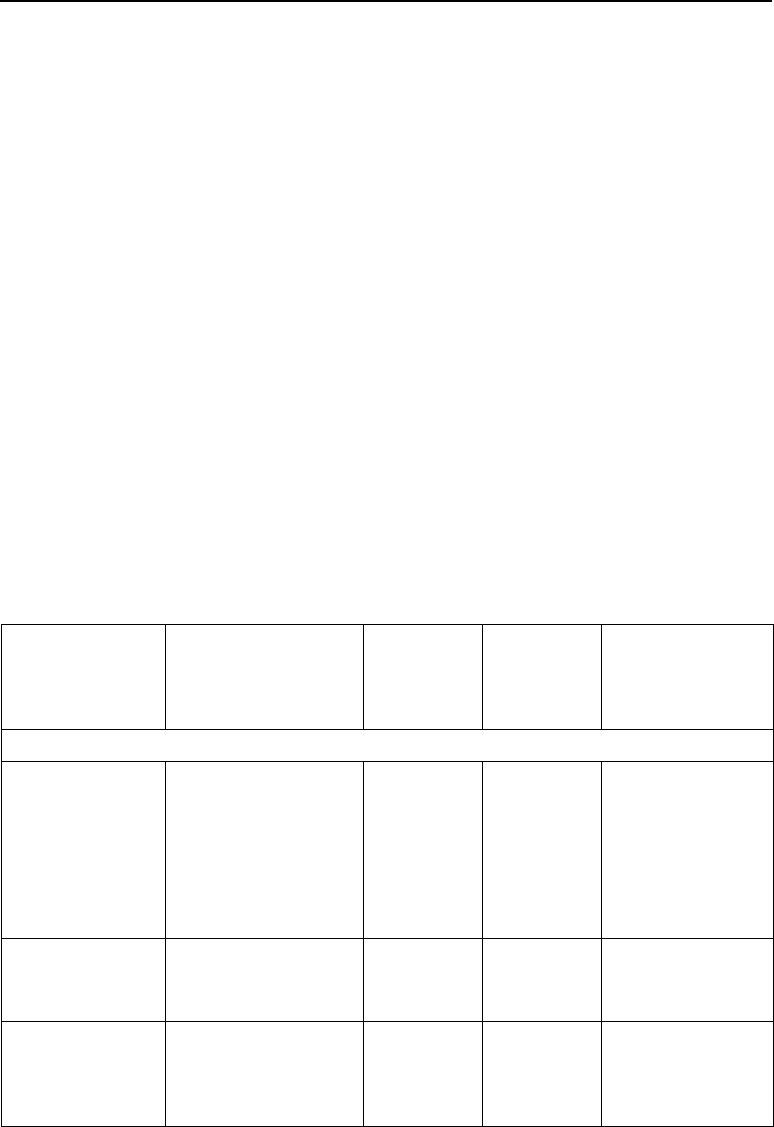
174
Сотворение историка...
дании, прошедшем 4 июня 1920 г., лекции были прочитаны. Протокол гласил:
«В качестве основной темы избран был “Африканский колонат”. Добавочная
тема была посвящена “Союзам в Греции в IV веке до Р. Х.”. Лекции и отве-
ты аспиранта вызвали ряд веских возражений, особенно в виду избрания им
“древней” истории в качестве специальности. Признав заслушанные лекции и
ответы В. В. Оранского “удовлетворительными”, факультет постановил: уси-
лить следующую группу лекций одной добавочной темой (“Римская Галлия”),
которая дала бы аспиранту возможность проявить большую самостоятельность
и более углубленное отношение к источникам и учебной литературе»
13
.
В то же время сохраняется практика чтения пробных лекций в открытых за-
седаниях факультета. Публично пробные лекции читались после прочтения их
в закрытом формате. Так, Е. А. Коровин прочитал две закрытые лекции «Мон-
тескье (жизнь, труды, доктрина)» и «Проблема личности государства», а потом
две открытые – «Дипломатическая история образования Албанского государ-
ства» и «Красный Крест в современном международном общении»
14
.
В обозначенный хронологический отрезок ряд диссертационных историй
подходили к заключительному аккорду – защите диссертации. В период с 1917
по 1919 г. в российских университетах (Московский, Петербургский, Харьков-
ский, Киевский) по историческим специальностям было защищено всего 15
диссертаций, что составило чуть больше 5 % от общего количества диссерта-
ций дореволюционного времени (см. табл.).
Диссертации, защищенные в российских университетах
по историческим разрядам. 1917–1919 гг.
Ф.И.О.
диссертанта
Название
диссертации
Ученая
степень
и разряд
науки
Дата
защиты
Оппоненты
15
Московский университет
Яковлев
Алексей
Иванович
Засечная черта
Московского госу-
дарства в XVII веке:
Очерк из истории
обороны южной
окраины Москов-
ского государства
Магистр
русской
истории
19.02.1917
М. К. Любавский
Ю. В. Готье
С. Ф. Платонов
Яковлев
Алексей
Иванович
Приказ сбора рат-
ных людей 146–161
/ 1637–1653 гг.
Доктор
русской
истории
01.05.1917
Ю. В. Готье
С. В. Бахрушин
А. А. Кизеветтер
Пичета
Владимир
Иванович
Аграрная рефор-
ма Сигизмунда-
Августа в Литовско-
русском государстве
Магистр
русской
истории
?.03.1918
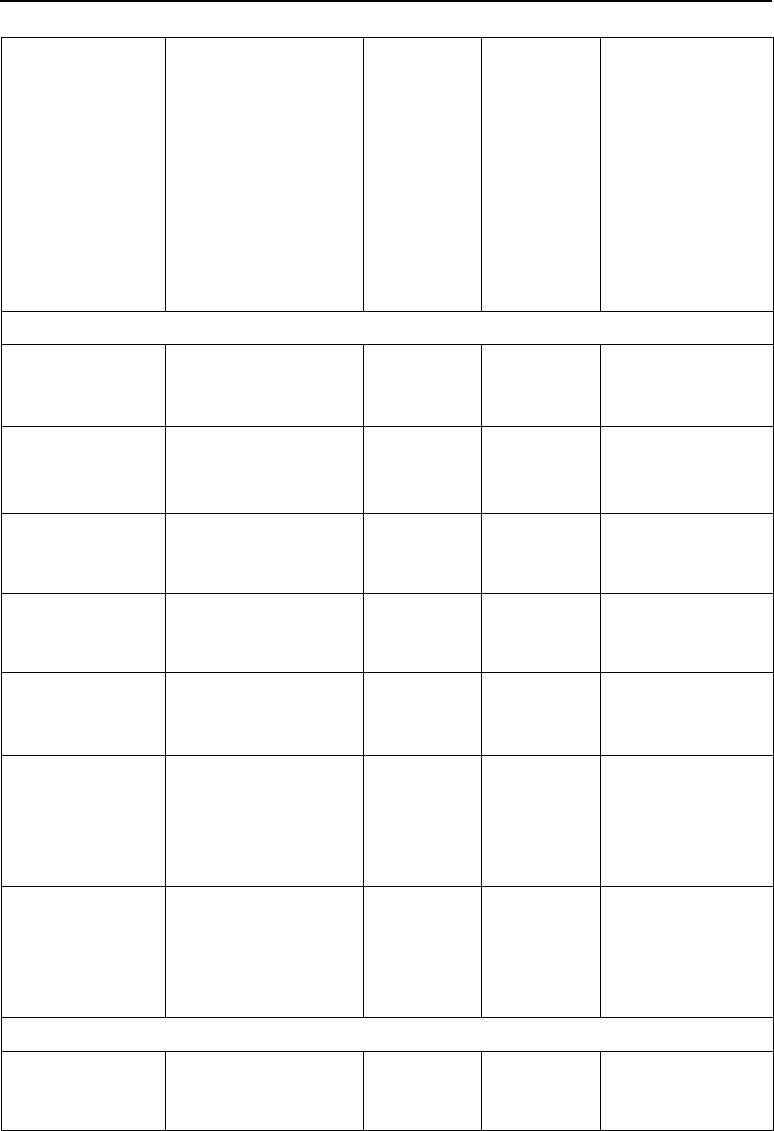
175
Гришина Н. В. «Анахронизм наших печальных дней»...
Пичета
Владимир
Иванович
Аграрная рефор-
ма Сигизмунда-
Августа в Литовско-
русском государ-
стве. Ч. 2. Отно-
шение литовско-
русского общества к
аграрной реформе и
правительственная
деятельность в эпо-
ху реформы
Доктор
русской
истории
21.04.1918
М. К. Любавский
Ю. В. Готье
В. А. Панов
Санкт-Петербургский университет
Заозерский
Александр
Иванович
Царь Алексей Ми-
хайлович в своем
хозяйстве
Магистр
русской
истории
30.04.1917
С. Ф. Платонов
А. Е. Пресняков
Бицилли
Петр
Михайлович
Салимбене: Очерки
итальянской жизни
XIII в.
Магистр
всеобщей
истории
22.05.1917
И. М. Гревс
Д. К. Петров
Вернадский
Георгий
Владимирович
Русское масонство в
царствовании Екате-
рины II
Магистр
русской
истории
22.10.1917
С. В. Рожде-
ственский
И. А. Шляпкин
Любомиров
Павел
Григорьевич
Очерк истории ни-
жегородского опол-
чения 1611–1613 гг.
Магистр
русской
истории
10.12.1917
С. Ф. Платонов
А. Е. Пресняков
Волков
Иван
Михайлович
Древнеегипетский
бог Себек
Магистр
всеобщей
истории
22.12.1917
Б. А. Тураев
В. В. Струве
Добиаш-
Рождественская
Ольга
Антоновна
Культ Святого Ми-
хаила архангела в
европейском сред-
невековье V–VIII
века
Доктор
всеобщей
истории
21.04 /
08.04.1918
И. М. Гревс
А. А. Васильев
Пресняков
Александр
Евгеньевич
Образование вели-
корусского госу-
дарства: Очерки по
истории XIII–XV
столетий.
Доктор
русской
истории
28.05 /
15.04.1918
С. Ф. Платонов
С. В. Рожде-
ственский
Харьковский университет
Коцейовский
Александр
Леопольдович
Тексты пирамид
Магистр
всеобщей
истории
1918 Б. А. Тураев
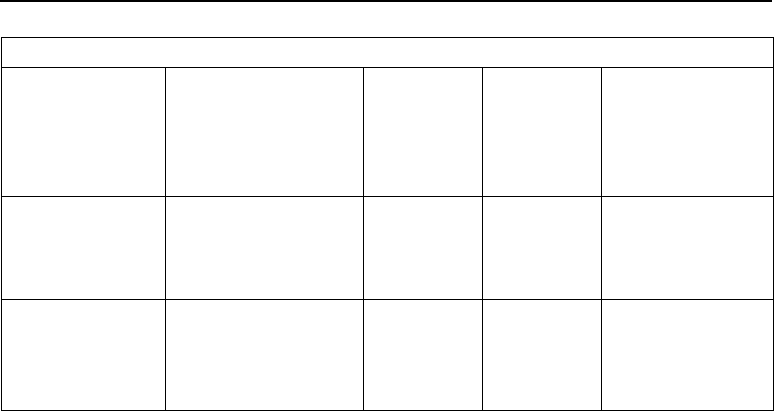
176
Сотворение историка...
Университет св. Владимира
Курц
Борис
Григорьевич
Сочинение Киль-
бургера о русской
торговле в царство-
вание Алексея Ми-
хайловича
Магистр
русской
истории
1918
Г. А. Максимо-
вич
Смирнов
Петр
Павлович
Города Московского
государства в пер-
вой половине XVII
века
Магистр
русской
истории
1919
Сташевский
Евгений
Дмитриевич
Смоленская война
1632–1634 гг.: орга-
низация и состояние
Московской армии
Доктор
русской
истории
1919
Примечание. Составлено по: Кричевский Г. Г. Диссертации университетов
России. 1805–1919. М., 1984. Рукопись; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 101. Л. 35–
35об; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9403. Л. 51; ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 3.
Л. 96–97, 134–136, 223–224, 259–260, 269–271; Ершова В. М. О. А. Добиаш-
Рождественская. Л., 1988. С. 61.
Как видно из представленной таблицы, в 1917–1919 гг. было защищено 10
магистерских диссертаций (7 по русской истории и 3 по всеобщей истории) и 5
докторских (4 по русской истории и 1 по всеобщей истории). Их авторы стре-
мились защититься и получить искомую ученую степень как можно быстрее,
пока действовали прежние квалификационные требования. Это стало одной из
причин, почему в 1917 и 1918 гг. ряд исследователей (А. И. Яковлев, В. И. Пи-
чета) защитили магистерскую и докторскую диссертации с минимальным
перерывом в несколько месяцев, а то и недель. На волне политической неста-
бильности, породившей в 1918 г. кардинальные перемены в диссертационной
системе
16
, ряд историков успели защитить диссертации в 1919 г. по «старым»
требованиям
17
. Некоторые диссертанты явно воспользовались сложившейся
ситуацией. Например, защита Е. Д. Сташевского в другое время вряд ли могла
пройти без проблем, учитывая его «испорченное реноме» в историко-научном
сообществе
18
.
Происходившие в этот период в общественно-политической жизни России
перемены оказывали влияние на содержание «диспутационных» речей соиска-
телей. Так, Г. В. Вернадский и А. И. Заозерский, защищавшие свои магистер-
ские исследования в 1917 г., еще до октябрьских событий, говорили о значении
переживаемого момента не только для общества в целом, но и для науки. Прав-
да, если мнение одного было достаточно оптимистичным (Г. В. Вернадский
считал, что, несмотря на «болезненный перелом народного сознания», произо-
шла актуализация многих вопросов исторического прошлого, «стали явными

177
Гришина Н. В. «Анахронизм наших печальных дней»...
прежде только скрытые возможности русской социальной жизни»
19
), то другой
был настроен куда более пессимистично. А. И. Заозерский начал свою речь
констатацией, что «интересы настоящего оставляют совсем мало места для ин-
тереса к истории», что во время «стремительной перестройки, какая идет сей-
час по всей линии нашей жизни, мы можем потерять связь с нашим прошлым»,
оно может стать «чужим и ненужным»
20
.
Еще более «включенными» в исторический контекст оказывались речи ис-
следователей, вышедших на защиту в 1918 и 1919 гг. Важно подчеркнуть, что
«атмосфера бури» 1910-х гг., оказавшая влияние на ход научной работы, свя-
зывалась, в первую очередь, с мировой войной. Особенно это было характерно
для историков-«всеобщников». В частности, О. А. Добиаш-Рождественская,
защищавшая докторскую диссертацию в 1918 г., в своей диссертационной
речи констатировала, что она «ждала конца войны», но, видимо, придется сми-
риться, что теперь остается вести исследование «о Франции без Франции»
21
.
В ее речи нашел отражение даже факт поиска литографии для тиражирования
книги. «Литографические мытарства» ученого состояли в том, что большую
часть диссертации она вынуждена была переписать сама
22
. Д. Н. Егоров назвал
книгу Добиаш-Рождественской историческим памятником «нашей великой
разрухи, когда печатная книга в “свободной стране” стала почти недоступной
роскошью» и «торжеством жизни над этим насильно навязанным подобием
смерти»
23
.
Зачастую диссертационные диспуты в это время перерастали в своеобраз-
ные политические ристалища. Позволю себе привести пространную, но весьма
показательную цитату из воспоминаний И. Ф. Рыбакова о докторском диспу-
те В. И. Пичеты: «Вскоре после Октябрьской революции защитил докторскую
диссертацию В. И. Пичета; его ученый диспут ознаменовался контрреволюци-
онным выступлением официального оппонента, бывшего ректора, профессора
М. К. Любавского (впоследствии – академика). Последний заявил, что диспут
его друга и ученика – возможно, последний – “анахронизм наших печальных
дней”, так как “кучка политических авантюристов, захвативших власть, поста-
вила науку под сомнение и намерена ее вовсе уничтожить”. В заключительном
слове Пичета сказал, что не разделяет “пессимизма уважаемого Матвея Кузь-
мича” и что он (Пичета) “исполнен наилучших аспектов и уверен, что наука в
нашей стране будет развиваться и достигнет невиданных высот”»
24
. И. Ф. Ры-
баков, оставленный М. М. Богословским при кафедре русской истории Москов-
ского университета в 1915 г., после 1917 г. значительно «полевел», что было
замечено представителями «старой» профессуры: «В ученых кругах много го-
ворили о выступлениях Любавского и Пичеты. Последний говорил мне, что
“старики” смотрят на него, как на человека неустойчивого и что был “сожали-
тельный разговор” и обо мне, как о человеке “отходящем влево”»
25
.
Все же в рецензиях и факультетских отзывах, которые были более формали-
зованы с точки зрения оформления, явной связи с текущим моментом истори-
ческого развития мы не находим. Если сравнивать два вида источников – речь

178
Сотворение историка...
на диспуте и отзывы факультета и оппонентов, – просматривается любопыт-
ная картина. Речи продолжают оставаться сугубо личностным документом, по-
скольку строго обозначенного канона к их написанию не было выработано.
Можно выделить лишь некоторые общие места речей – характеристика преж-
ней историографической традиции, основные выводы работы. Литературная
обработка, построение речи продолжают оставаться достаточно вариативны-
ми. Отзывы, наоборот, приобретают все более каноничный вид. В них четко
выделяются следующие структурные элементы: общая характеристика рабо-
ты, краткое изложение основного содержания исследования, перечисление его
достоинств и недостатков. Рекомендательная формула к защите, в которой со-
искатель признается достойным искомой степени или его находят возможным
допустить к защите диссертации, выработанная еще на рубеже XIX–XX вв.,
полностью воспроизводится и в этот период
26
.
Полная отмена ученых степеней и званий привела к постепенному, хотя и до-
статочно затяжному по времени, свертыванию сложившейся в дореволюцион-
ной России диссертационной системы, сопровождавшемуся нарастанием пес-
симистических настроений среди ученых по поводу судьбы российской науки.
Однако они продолжали предпринимать шаги по сохранению и приращению
ученой корпорации. Официально ликвидированные многие формы «взращи-
вания» молодых научных кадров сохранялись на неофициальном уровне. Дис-
сертационный режим в полном объеме был восстановлен в середине 1930-х гг.
Он во многом основывался на прежних аттестационных требованиях, что по-
зволяет говорить о высокой степени сохранности «старой» традиции приоб-
ретения ученых степеней и званий.
Примечания
1
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 423. Л. 63–66. В декабре 1917 г. свои заключения по дан-
ному проекту также озвучили факультеты Петроградского университета. См.: ЦГИА
СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 62. Л. 69.
2
См.: Мнения профессоров П. Н. Сакулина, М. М. Богословского, Д. М. Петрушевско-
го // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 423. Л. 63–63об, 64об.
3
См.: Мнение декана А. А. Грушки // Там же. Л. 65об.
4
См.: Мнение профессора А. А. Кизеветтера // Там же. Л. 64.
5
См., подробнее: Грибовский В. М. Прошедшее и настоящее русских и западно-
европейских университетов. СПб., 1905. 11 с.; Мякотин В. М. Диспут и ученая степень
// Рус. богатство. 1897. Июль. № 7. С. 1–34; Сергеевич В. И. О порядке приобретения
ученых степеней // Север. вестн. 1897. № 10. С. 1–19; Шершеневич Г. Ф. О порядке
приобретения ученых степеней. Казань, 1897. 33 с.
6
См.: Труды высочайше учрежденной Комиссии по преобразованию высших учебных
заведений. СПб., 1903. Вып. I–IV; Труды Совещания профессоров по университетской
реформе, образованного при Министерстве народного просвещения графа И. И. Тол-
стого в январе 1906 г. СПб., 1906. Дискуссия вокруг проектов преобразования диссер-
тационной системы рассмотрена в виде отдельного сюжета в статье Н. Н. Алеврас и
Н. В. Гришиной «Российская диссертационная культура XIX – начала XX в. в восприя-

179
Гришина Н. В. «Анахронизм наших печальных дней»...
тии современников: к вопросу о национальных особенностях». Статья в 2010 г. при-
нята к публикации в «Диалог со временем : альманах интеллектуальной истории».
7
ЦАГМ. Ф. 1609. Оп. 6. Д. 3. Л. 44–48.
8
Во временных правилах зачисления на должность преподавателей 14–21 июня 1919 г.
указывалось, что публичные пробные лекции сохраняются, а закрытые лекции устраи-
ваются лишь при необходимости. См. подробнее: Калистратова Т. И. Институт исто-
рии ФОН МГУ – РАНИОН (1921–1929). Н. Новгород, 1992. С. 31.
9
ЦАГМ. Ф. 1609. Оп. 6. Д. 3. Л. 29, 51–51об. Динамику общего количества «остав-
ленных» при кафедрах на историко-филологическом факультете и факультете обще-
ственных наук в 1915–1920 гг. см.: Калистратова Т. И. Указ. соч. С. 26–27. Автор дела-
ет вывод, что «число “оставленных” здесь не превысило дореволюционного уровня».
Подчеркну, что это заключение верно лишь для периода 1910-х гг., когда число «остав-
ленных» даже несколько снизилось: с 64 в 1915 г. до 40 в 1920 г. Между тем эта цифра
значительно превосходит количество «аспирантов» 90-х гг. XIX в.
10
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 101. Л. 120. В Петербургском университете после ре-
волюции число «оставленных» даже возросло. Например, в 1914 г. «оставленными»
числились 203 человека.
11
ЦАГМ. Ф. 1609. Оп. 6. Д. 15. Л. 2об. Замечу, что вместе с ними были «приняты в
число оставленных» Н. С. Михайловская, Н. А. Бакланова и Л. П. Матасова, а в апреле
1920 г. О. А. Лясковская, до «уплотнения вузов» числившиеся в числе «оставленных»
при 2-м МГУ, в состав которого в 1918 г. вошли Московские Высшие женские курсы.
12
Там же. Л. 7об.
13
Там же. Л. 10об.
14
Там же. Л. 15, 20. Важно подчеркнуть, что неудовлетворительная степень сохранно-
сти факультетской и университетской документации за период 1917 – начала 1920-х гг.
не позволяет последить перипетии многих диссертационных историй.
15
Оппоненты на защитах магистерских диссертаций В. И. Пичеты, П. П. Смирнова и
докторской диссертации Е. Д. Сташевского не установлены. Также не удалось выявить
полного состава оппонентов на защитах А. Л. Коцейовского и Б. Г. Курца. Курсивом
обозначены неофициальные оппоненты.
16
В октябре 1918 г. произошла отмена ученых степеней и званий. См.: Декрет СНК
РСФСР от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве госу-
дарственных ученых и высших учебных заведений Российской республики» // Собра-
ние узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. М.,
1918. № 72.
17
Отдельные диссертационные истории получили завершение даже в начале 1920-х гг.
В частности, в 1921 г. прошла защита диссертации Н. П. Оттокаром. Упоминание об
этой защите см.: Клюев А. И. Из истории одной книги : Н. П. Оттокар и его книга
«Флорентийская коммуна в конце Дудженто» в контексте эпохи // Диалог со временем
: альм. интеллектуал. истории. 2011. № 34. С. 252–253.
18
Имеется в виду история с кражей Е. Д. Сташевским из московских архивов цело-
го ряда документов, что привело к фактическому разрыву отношений между ним и
его учителем М. В. Довнар-Запольским. См.: Михальченко С. И. Дело профессора
Е. Д. Сташевского // Вопр. истории. 1998. № 4. С. 122–128.
19
Речь Г. В. Вернадского на магистерском диспуте (Санкт-Петербургский университет,
22 октября 1917 г.) // Алеврас Н. Н. Речь на магистерском диспуте Г. В. Вернадского в

180
Сотворение историка...
контексте его диссертационной истории (к публикации источника) // Мир историка :
историогр. сб. / под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып. 6. Омск, 2010. С. 381.
20
Заозерский А. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве // Рус. мысль. 1917. Май
– июнь. С. 147.
21
ОР РНБ. Ф. 254. Ед. хр. 221. Л. 1об.
22
Там же. Л. 4об – 5.
23
Егоров Д. Добиаш-Рождественская О. А. Отзыв на книгу ее «Культ св. Михаила в
латинском средневековье V–XIII вв.» Пг., 1917 // Свобода России. 1917. № 46.
24
НИОР РГБ. Ф. 714. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 12.
25
Там же. Л. 12–13.
26
См., например: Пресняков А. Отзыв о книге А. И. Заозерского «Царь Алексей Ми-
хайлович в своем хозяйстве. Пг., 1917» // Рус. ист. журн. 1918. Кн. 5. С. 270–279; Рож-
дественский С. В. Отзыв о книге А. Е. Преснякова «Образование Великорусского Госу-
дарства. Очерки по истории XIII – XV столетий. Пг., 1918» // Там же. С. 279–290; Пла-
тонов С. Отзыв о книге П. Г. Любомирова «Очерк истории Нижегородского ополчения
1611–1613 гг. Пг., 1917» // Там же. С. 290–294; Рождественский С. Отзыв о диссерта-
ции Г. В. Вернадского «Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917» //
ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 3. Л. 199–205об; Платонов С. Ф. Книга А. Е. Преснякова
«Образование Великорусского государства». Подготовительные заметки к отзыву //
ОР РНБ. Ф. 585. Д. 1451. Л. 1–4об; Максимович Г. Рецензия на сочинения Б. Г. Курца
«Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича»
1915 г. и «Состояние России в 1650–1655 гг. по донесениям Родеса» 1915 г., пред-
ставленные для приобретения степени магистра русской истории // Университет. изв.
Киев. 1919. № 1–4. С. 1–18 и др.
