Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции
Подождите немного. Документ загружается.

не о его переходе. Если бы основанием возникновения этого права была действительная
распорядительная сделка, как полагают цитированные авторы, то имело бы место
правопреемство (что по определению исключается ввиду неуправомоченности
отчуждателя), а условия, перечисленные в ст. 302 ГК, оказались бы просто излишними
<435>.
--------------------------------
<432> См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. II: Особенная часть.
Б.м., 1896. С. 139.
<433> Как уже отмечалось, согласно иному мнению, добросовестный приобретатель
становится собственником в силу приобретательной давности, однако в анализируемом
аспекте вопрос о конкретном основании возникновения у него права собственности
значения не имеет: важно, что согласно и этой точке зрения таким основанием во всяком
случае не является "действительная" распорядительная сделка.
<434> Карлин (Carlin) назвал этот первоначальный способ квалифицированным
завладением (qualificirte Besitzerlangung) (цит. по: Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 157).
<435> Аналогичный вывод следует сделать и применительно к германскому праву,
на нормы которого в обоснование своей позиции ссылаются Л.Ю. Василевская (Указ. соч.
С. 205) и Д.В. Мурзин (Указ. соч. С. 110 и сл.). Согласно § 932 BGB право собственности
при приобретении от неуправомоченного лица возникает у приобретателя "вследствие
отчуждения, произведенного на основании § 929", т.е., казалось бы, в силу
предусмотренной этим параграфом абстрактной вещной распорядительной сделки
(соглашение о переходе права собственности + фактическая передача вещи), которая,
следовательно, должна была бы рассматривается в данном случае как действительная.
Именно из этого и исходят цитированные авторы. Однако такое буквальное толкование на
самом деле не соответствует истинному смыслу рассматриваемых норм. § 929
устанавливает, что вещная сделка совершается собственником, т.е. для того, чтобы
состоялся переход права собственности, требуется в качестве необходимого условия
наличие у традента распорядительной власти. § 932 предусматривает исключение из этого
правила, когда право собственности возникает и при невыполнении этого требования,
однако при наличии дополнительного условия - добросовестности приобретателя. В свою
очередь, § 935 (I) устанавливает исключение из нормы § 932, предписывая, что
приобретения права собственности на основании последнего не происходит, если вещь
была похищена у собственника или непосредственного владельца, утеряна или утрачена
им иным образом. Таким образом, для приобретения права собственности a non domino
помимо совершения вещного договора (§ 929) требуются: а) добросовестность
приобретателя и б) факт выбытия вещи из владения собственника (или непосредственного
владельца) по его воле. Учитывая сказанное, распорядительная сделка, совершенная
лицом, не имеющим распорядительной власти, не может считаться действительной, ибо в
противном случае она бы одна и была достаточной для наступления вещного эффекта,
указанные же дополнительные условия были бы излишни.
К сказанному следует добавить, что, как было справедливо замечено, правило nemo
plus iuris... принадлежит к числу технических принципов, фундаментальных оснований
построения правопорядка, не имеющих какой-либо исторически обусловленной
идеологической окраски; оно не выражает аксиологических предпосылок и ценностей
общества, реализации которых служат правовые нормы, в частности, касающиеся
обеспеченности и безопасности оборота <436>, в том числе ограничивающие виндикацию
и удовлетворяющие тем самым потребность рынка в надежности торговых операций, что
в старогерманском правопорядке (не знавшем, впрочем, виндикации движимости в
строгом смысле <437>) нашло отражение в знаменитой юридической поговорке - Hand
wahren Hand <438>. Таким образом, рассматриваемое юридическое правило, учитывая его
технический характер, не может быть поставлено под сомнение на том лишь основании,
что изменились социально-экономические условия, в которых оно было сформулировано,
а вместе с ними и соответствующие правовые нормы. Оно, как отмечал Е.В. Васьковский,
"вытекает из самого понятия гражданских прав и не допускает никаких изъятий" <439>.
--------------------------------
<436> См.: Krzynowek J. Op. cit. S. 267.
<437> Хотя германцы знали понятие собственности и для движимых вещей, им, как
отмечал Луиджи Менгони, "не удалось измыслить собственность на движимость отдельно
от владения, от материального осуществления права". Собственник располагал только
исками в защиту юридического владения (Gewere) - Anefangsklage и schlichte Klage. Это
были петиторные иски об "истребовании владения", основанные на противоправном
факте лишения (Entwerung), и этим отличные от римской rei vindicatio, принадлежавшей
собственнику как таковому и основанной на его утверждении hanc rem meam esse (лат. -
"что эта вещь является моей") (см.: Mengoni L. Op. cit. P. 42 - 45; немецкие термины
приводятся в авторской редакции).
<438> Одним из наиболее древних источников, в которых документирована эта
пословица, является ст. 69 Billwaarder Landrecht (конец XIV в.). Позднее она была
повторена, например, в реформированном статуте Любека 1586 г. (кн. III, тит. II "О
ссуде", ст. 1). Она означает, что "рука" (Hand), которой была доверена вещь, должна
"гарантировать" (wahren) ее возврат в "руку" (Hand), из которой она ее получила, т.е. лицо,
которому вещь доверена (фидуциарий), персонально отвечает перед доверителем
(фидуциантом), который не имеет никакой иной защиты, кроме этого личного иска о
возврате против фидуциария. Если перевернуть термины, относящиеся в предложении к
подлежащему и прямому дополнению (оба выражены словом Hand), глагол wahren
приобретет также и иное значение: поскольку собственник не имеет иска об истребовании
против третьих лиц ("должен состоять при своем доверенном лице", как указано в статуте
Любека), он должен "наблюдать", "следить" за рукой держателя, обращать внимание на
то, что тот делает (см.: Mengoni L. Op. cit. P. 47, nt. 24 и указанные там источники).
<439> Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 157. Автор называл случай добросовестного
приобретения от неуправомоченного отчуждателя лишь кажущимся исключением из
рассматриваемого принципа (Там же. С. 139), справедливо критикуя взгляд,
поддерживаемый сегодня Л.Ю. Василевской и Д.В. Мурзиным, но ранее отстаивавшийся
также некоторыми дореволюционными цивилистами (напр., Азаревичем, Загоровским),
согласно которому добросовестный приобретатель получает собственность путем
передачи вопреки принципу nemo plus iuris... (Там же. С. 157).
Необходимо вместе с тем помнить, что данное правило касается только
распорядительных сделок, необходимым условием действительности которых, как уже
отмечалось, является наличие у распоряжающегося распорядительной власти. Оно ни в
коей мере не относится к сделкам, устанавливающим исключительно обязательственные
отношения. Для совершения таковых не требуется распорядительной власти
обязывающегося лица, поэтому, например, обязаться перенести на покупателя право
собственности по договору купли-продажи может и не управомоченное на распоряжение
лицо <440>.
--------------------------------
<440> См.: Brox H. Op. cit. S. 62 f. Попытка оспорить это положение была недавно
предпринята К.И. Скловским (см.: Скловский К. О действительности продажи чужого
имущества // Вестник ВАС РФ. 2003. N 9. С. 80 и сл.). Главный довод автора, внешне
апеллируя к принципу каузальности традиции, на самом деле переворачивает его с ног на
голову: "...Традиция не может иметь эффекта без каузы - договора купли-продажи... -
пишет Скловский. - Но эта зависимость оказывается, насколько можно судить, обратимой:
если традиция не может перенести собственность, то не может устоять и основание,
поскольку причина ничтожности традиции, то есть отсутствие собственности
отчуждателя, имеет место и в отношении купли-продажи"; "недействительность сделки
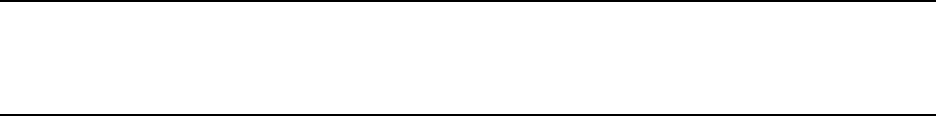
влечет недействительность традиции, а недействительность традиции... означает и
недействительность сделки" (с. 84). "Каузальность делает невозможным сохранение
действительности купли-продажи при недействительности передачи по причинам,
связанным не с самой передачей, а с правами на вещь" (с. 85). Нет необходимости
специально опровергать эти явно алогичные суждения (их критику см., напр.:
Бекленищева И.В. Указ. соч. С. 21 и сл.); полагаю, что подобная профанация принципа
каузальности вряд ли способна ввести кого-либо в заблуждение.
В отечественной доктрине <441> и судебно-арбитражной практике <442> весьма
распространенным, если не преобладающим, является, однако, противоположный подход,
согласно которому совершенная неуправомоченным лицом обязательственная сделка,
направленная на отчуждение имущества, рассматривается как недействительная
(ничтожная) вследствие отсутствия у отчуждателя правомочия распоряжения <443>. Он
выражен, в частности, в абз. 6 п. 3.1 рассмотренного выше Постановления
Конституционного Суда, а также в официальном разъяснении Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ, указавшего, что до государственной регистрации перехода к
покупателю права собственности на объект недвижимости он не вправе совершать сделки
по его отчуждению <444> (исходя из контекста, именно обязательственные сделки).
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие
положения" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут,
2001 (издание 3-е, стереотипное).
<441> См., напр.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие
положения. С. 654; Скловский К. О действительности продажи чужого имущества. С. 80 и
сл.; Грось А.А. Указ. соч. С. 109; Мурзин Д.В. Указ. соч. С. 112; Ломидзе О.Г., Ломидзе
Э.Ю. Указ. соч. С. 158; Моргунов С. Указ. соч. С. 47 и сл., 54 и сл.; Ломидзе О.Г. О
правовой оценке договора, направленного на отчуждение имущества неуправомоченным
лицом // Вестник ВАС РФ. 2007. N 5. С. 4 - 18.
<442> См., напр.: п. 6 письма ВАС РФ от 31 июля 1992 г. N С-13/ОП-171 "Обзор
практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о
собственности" // Вестник ВАС РФ. 1992. N 1; п. 1 приложения к инф. письму Президиума
ВАС РФ от 28 апреля 1997 г. N 13 "Обзор практики разрешения споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав" // Вестник ВАС РФ. 1997. N 7. С. 91;
п. 12 приложения к инф. письму Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор
практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи
недвижимости" // Вестник ВАС РФ. 1998. N 1. С. 89; Постановление Президиума ВАС РФ
от 26 сентября 2000 г. N 3531/00 // Вестник ВАС РФ. 2001. N 1. С. 57 - 59; Щипачева Т.
Добросовестный приобретатель // ЭЖ-Юрист. 2003. N 8. С. 6, 7.
<443> Согласно еще одному мнению, такая сделка должна квалифицироваться по ст.
174 ГК как совершенная с нарушением ограничения полномочий, т.е. является оспоримой
(см., напр.: Чигир В. О виндикации имущества у добросовестного приобретателя //
Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 20. Алматы:
Юрист, 2004. С. 87 со ссылкой на: Усков С. Проблема приобретения имущества от
неуправомоченного отчуждателя // ХП. 2002. N 6. С. 66 и сл.). Данное мнение не может
быть поддержано, ибо в ст. 174 ГК гипотезирована ситуация, когда у органа
юридического лица или лица, действующего в качестве представителя, имеются
полномочия на совершение сделки, однако они ограничены договором или
учредительными документами по сравнению с тем, как определены в доверенности, в
законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается
сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений.
Неуправомоченный отчуждатель не действует ни в качестве представителя, ни в качестве
органа юридического лица и во всяком случае не имеет никаких полномочий на
распоряжение вещью (именно поэтому он и является неуправомоченным).
<444> Пункт 2 указ. приложения к инф. письму Президиума ВАС РФ от 13 ноября
1997 г. N 21.
Этот подход, однако, не находит подтверждения в нормах действующего
законодательства, которое не содержит никаких препятствий для заключения
обязательственного договора о продаже чужой вещи лицом, не управомоченным на ее
отчуждение, и не предусматривает оснований недействительности такого договора. В
этом вопросе наш законодатель следует традиции римского права, конструировавшего
договор купли-продажи как исключительно обязательственный и допускавшего в этом
смысле продажу чужой вещи независимо от наличия у продавца правомочия
распоряжения <445>. Эту преемственность нельзя оспорить на том основании, что
римская emptio-venditio, в отличие от купли-продажи по российскому праву, обязывала
продавца передать покупателю не право собственности, а лишь спокойное владение. Дело
в том, что обязательство возникало независимо не только от того, был ли продавец
собственником вещи, но и от того, находилась ли последняя в его владении и
существовала ли вообще в момент заключения договора.
--------------------------------
<445> См., напр.: Voci P. Iusta causa traditionis e iusta causa usucapionis. P. 103;
Sanfilippo C. Istituzioni di diritto romano. 10a ed., curata ed aggiornata da A. Corbino e A.
Metro. S. 1: Rubbettino, 2002. § 243. P. 302.
Ulp. 41 ad Sab., D. 18, 1, 28: Нет никакого сомнения, что
Rem alienam distrahere quem posse можно продать чужую вещь: ведь
nulla dubitatio est: nam emptio есть купля и продажа; однако вещь
est et venditio: sed res emptori может быть изъята у покупателя.
auferri potest.
Договор о продаже чужой вещи был, таким образом, действительным и создавал
соответствующее обязательство <446>: продавец должен был передать покупателю
владение вещью и гарантировать его от эвикции, а покупатель - передать продавцу право
собственности на монеты в качестве уплаты покупной цены. При этом поскольку
продавец не обладал правом собственности на переданную вещь, то не приобретал
таковое вследствие traditio и покупатель. Он мог в этом случае стать собственником
только в силу приобретательной давности, а следовательно, до истечения давностного
срока вещь могла быть виндицирована у него собственником.
--------------------------------
<446> Договор считался, однако, ничтожным, если покупателю заведомо было
известно, что он приобретает краденую вещь, даже если продавец и не знал об этом факте.
Однако ничтожность при этом была следствием именно упречного поведения покупателя,
а не неуправомоченности продавца на отчуждение, которая никакого значения для
обязательственного эффекта купли-продажи не имела. Так, при добросовестности
покупателя обязательство возникало во всяком случае (Paul. 34 ad ed., D. 18, 1, 34, 3).
Французский законодатель, приняв консенсуальную систему перехода права
собственности на индивидуально-определенные вещи по договору, отказался от
классического римского подхода и установил в art. 1599 Code civil правило о том, что
"продажа чужой вещи ничтожна". Такое решение вполне объяснимо, ибо при
консенсуальной системе договор купли-продажи является уже не чисто
обязательственной, но смешанной, обязательственно-распорядительной сделкой: он не
только порождает обязательство (соответственно, продавца - передать вещь, а покупателя
- уплатить покупную цену), но и непосредственно приводит к вещному эффекту -
переходу права собственности, а значит, его действительность предполагает наличие у
отчуждателя распорядительной власти <447>.
--------------------------------
<447> Впрочем, итальянский ГК, также принявший консенсуальную систему
перехода права собственности по договору, не содержит нормы о ничтожности продажи
чужой вещи. Согласно art. 1478 c.c., "если в момент заключения договора проданная вещь
не была собственностью продавца, он обязан обеспечить покупателю ее приобретение" (в
собственность); "покупатель становится собственником в тот момент, когда продавец
приобретает право собственности у его обладателя". Таким образом, продажа чужой
вещи, не будучи ничтожной, просто не имеет непосредственного вещного эффекта, но
порождает эффект обязательственный.
Сходная ситуация относительно продажи чужой вещи имела место и в русском
дореволюционном гражданском праве <448>: продаваемая вещь должна была быть в
полном распоряжении продавца на праве собственности, а продажа чужой вещи
признавалась недействительной (ст. 1384, 1386, 1387, 1389 ч. 1 т. X Свода законов
Российской империи). Это правило было несколько смягчено сенатской практикой,
признавшей, что лицо, которому вещь не принадлежит, может обязаться к определенному
сроку приобрести ее и затем продать за определенную цену <449>. Данная позиция нашла
поддержку в Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения, указавшей
в объяснениях к Проекту, что "может быть заключен договор, устанавливающий
обязательство, например, продать... особливо определенное (т.е. индивидуально-
определенное. - Д.Т.) чужое имущество, на случай, если должник приобретет его в
собственность... или договор, устанавливающий обязательство склонить собственника к
продаже имущества..." <450>. Более общее правило, сформулированное Комиссией, в том
числе применительно к данному случаю, и закрепленное в ст. 22 Проекта, звучало так:
"Действие не считается невозможным, если препятствие к его исполнению может и, по
намерению сторон, должно быть устранено ко времени исполнения обязательства" <451>.
--------------------------------
<448> Однако в том, что касается способа перехода права собственности по
договору, русское дореволюционное законодательство не восприняло какой-либо
определенной системы и содержало на этот счет, по словам Е.В. Васьковского, "довольно
сбивчивые постановления": судебная практика толковала их в том смысле, что право
собственности на движимость переходит в момент заключения договора, большинство же
ученых-цивилистов придерживалось мнения, что русским гражданским
законодательством воспринята система традиции (см. об этом: Васьковский Е.В. Указ.
соч. С. 136 и сл.). По мнению самого Е.В. Васьковского, "правила нашего
законодательства не дают возможности решить с полной достоверностью, какая система
принята им: римская (традиционная) или англо-французская (договорная). Но так как ни
одна статья не говорит о безусловной необходимости традиции и так как примечание к ст.
699 и ст. 711 относят к способам приобретения прав на имущества договоры, то, по-
видимому, более согласно с духом нашего права то мнение, по которому для передачи
собственности на движимость достаточно одного договора" (Там же. С. 138).
<449> Кассационные решения N 94 1880 г., N 228 1879 г. и др. (цит. по: Гражданское
уложение. Кн. V. Обязательства: Проект Высочайше учрежденной Редакционной
комиссии по составлению Гражданского уложения. Т. I. Ст. 1-276 с объяснениями. СПб.,
1899. С. 66).
<450> Там же. С. 65.
<451> Там же. С. 61. Здесь очевидно влияние германского права: ср. с абз. 1 § 308
BGB: "Невозможность исполнения обязательства не лишает договор действительности,
если невозможность может быть устранена, а договор заключен на тот случай, что
исполнение станет возможным в дальнейшем".
Из тех же начал исходит и действующий российский ГК, воспринявший, вслед за ГК
РСФСР 1964 г., римскую систему традиции. Он содержит прямое указание на то, что
"договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у
продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или
приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из
характера товара" (п. 2 ст. 455). Так, в ожидании государственной регистрации перехода
права собственности на недвижимость покупатель, который до момента такого перехода
не может считаться управомоченным на распоряжение, вполне может тем не менее
заключить с третьим лицом обязательственный договор об отчуждении приобретаемой
недвижимости. Заключая обязательственную сделку, неуправомоченный отчуждатель,
действительно, не обладает правом собственности на отчуждаемую вещь, но этого и не
требуется, поскольку в условиях действия системы традиции (п. 1 ст. 223 ГК) продавец
должен быть собственником только в момент передачи права собственности, а не в
момент установления обязательственных отношений между ним и покупателем <452>. Но
можно ли заранее делать вывод о том, что до наступления обусловленного для передачи
товара срока (т.е. срока исполнения договора купли-продажи) продавец не сможет
приобрести товар в собственность? Очевидно, нет, а потому и говорить о первоначальной
объективной невозможности исполнения, влекущей ничтожность договора, в данном
случае нельзя <453>.
--------------------------------
<452> Формальное основание для иного вывода применительно к договорам,
подлежащим государственной регистрации, могут дать положения п. 1 ст. 20
Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594), согласно которым отсутствие у заявителя
прав на объект недвижимости влечет отказ в государственной регистрации. Однако если в
отношении регистрации прав данное положение возражений не вызывает, то в части
регистрации договоров (согласно п. 1 ст. 2 того же Закона под регистрацией прав
понимается также регистрация сделок с недвижимостью) оно вряд ли обоснованно,
поскольку блокирует предусмотренную п. 2 ст. 455 ГК возможность продажи товара,
подлежащего приобретению продавцом в будущем.
<453> См. также: Слыщенков В.А. Указ. соч. С. 173 и сл.
Необходимо, однако, учитывать и другую возможную ситуацию, которая также
стала предметом анализа Редакционной комиссии по составлению Гражданского
уложения, а именно "когда договор направлен прямо к установлению обязательства
предоставить чужое имущество, не обусловленного приобретением самого имущества или
соответственного на него права обязавшеюся стороною" <454>. После некоторых
колебаний Комиссия склонилась к отрицательному решению, рассудив, что подобный
договор был бы безнравственным.
--------------------------------
<454> Гражданское уложение. Кн. V: Проект. Т. I. С. 66.
Однако такая квалификация, апеллирующая к внеправовому и притом достаточно
неопределенному критерию, всегда вызывала серьезные затруднения как теоретического,
так и практического характера <455>. Кроме того, очень сложно встретить в реальной
жизни безнравственную сделку, которая не была бы в то же самое время и незаконной.
Конечно, если соглашение прямо направлено к установлению обязательства передачи
чужой вещи без ее предварительного приобретения продавцом и при этом обе стороны
осведомлены о том, что данная вещь последнему не принадлежит, то с выводом Комиссии
о недействительности подобного договора следует согласиться. Однако, как
представляется, недействительность в данном случае наступает по иному чем
безнравственность основанию. Поскольку обеим сторонам известно о принадлежности
вещи третьему лицу, причем они изначально не рассчитывают на ее приобретение в
собственность продавцом и тем не менее заключают договор, объективно
предполагающий переход права собственности от продавца к покупателю, в данной
ситуации невозможный, значит, они действуют без намерения создать юридические
последствия, а заключенный ими договор является мнимым (п. 1 ст. 170 ГК).
--------------------------------
<455> См. об этом: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.:
Статут, 1998. С. 251 - 262.
Именно не желая допустить ситуации, при которой договор, заключенный при
изложенных обстоятельствах, оказался бы действительным, Редакционная комиссия
воздержалась от формулирования какого-либо правила относительно действительности
договора продажи чужого имущества вообще. "Если закон, - говорится в объяснениях к
Проекту, - не устанавливает предположения... что заключающие такой договор стороны
имеют в виду принятие одною из них обязательства склонить собственника имущества к
соответственному исполнению... то едва ли практично постановлять о действительности
договора, когда он может оказаться недействительным как противный нравственности
именно потому, что предмет его - чужое имущество. Впрочем, исходная точка для
постановления... римского правила не совсем, быть может, соответствует современному
юридическому сознанию. В особенности, в договорах об особливых (индивидуальных. -
Д.Т.) вещах стороны не исходят из представления об общей имущественной
ответственности обязанной стороны, а имеют в виду конкретные вещи, на которые
главным образом направляется их воля. <...> По этим основаниям проект... не вводит...
правила, признающего действительными договоры о чужом имуществе" <456>. Сходным
образом мыслят и некоторые современные авторы, не признающие действительности
обязательственной сделки, совершенной неуправомоченным лицом. "...Стороны вовсе не
имеют в виду, - пишет, например, К.И. Скловский, - что вещь где-то существует, а видят
вещь перед собой. При этом где-то существующий собственник отнюдь не берет на себя
никаких обязательств перед покупателем" <457>.
--------------------------------
<456> Гражданское уложение. Кн. V: Проект. Т. I. С. 67 и сл.
<457> Скловский К. О действительности продажи чужого имущества. С. 90, сн. 32.
Эта аргументация представляется неубедительной. Во-первых, она исходит из
неверной посылки, ошибочность которой вряд ли стоит доказывать, будто правовые
последствия договора вообще определяются исключительно тем, как их представляют
себе стороны <458>. Во-вторых, направленная против признания, как общего принципа,
действительности обязательственного договора об отчуждении не принадлежащей
отчуждателю вещи, она не учитывает еще одной, причем наиболее распространенной и
практически значимой ситуации, когда обе стороны либо только приобретатель не
осведомлены об истинной принадлежности отчуждаемого имущества. В этом случае, в
отличие от рассмотренного выше, согласованная воля сторон, выраженная в договоре,
несомненно, направлена на юридические последствия, т.е. не является мнимой, причем
возможная недобросовестность продавца, знающего, что он отчуждает не принадлежащее
ему имущество, и не имеющего намерения приобрести его в собственность до момента
исполнения обязательства, имеет скрытый характер и сама по себе не может влиять на
действительность договора (так называемая reservatio mentalis, ср. § 116 BGB) <459>.
Можно ли квалифицировать такой договор как ничтожный вследствие отсутствия у
продавца правомочия распоряжаться вещью и, казалось бы, связанной с этим
первоначальной юридической невозможностью исполнения?
--------------------------------
<458> Здесь вспоминается классический пример, используемый в немецкой учебной
литературе. Простому обывателю сложно понять, что, покупая, например, утреннюю
газету в киоске (т.е. протягивая, зачастую без единого слова, монету и указывая на нужное
издание), он заключает сразу три договора: обязательственный договор купли-продажи,
вещный договор о переходе права собственности на газету и вещный договор о переходе
права собственности на деньги. Непостижимость этой догматической и законодательной
конструкции для неюриста не означает, однако, ее ошибочности. Точно так же и
применительно к нашему праву можно сказать, что пассажир, садящийся в автобус, чтобы
доехать до места работы, чаще всего и не подозревает, что тем самым он заключает
договор перевозки с автотранспортной организацией, и тем не менее факт заключения
договора в этом случае бесспорен.
<459> Рассматриваемая ситуация, как правило, оставляется без внимания
противниками действительности договора об отчуждении вещи, не принадлежащей
отчуждателю, или оценивается ими явно односторонне, с акцентом на
недобросовестности отчуждателя. "Ведь, заключая этот договор, - пишет О.Г. Ломидзе, -
как минимум одна из его сторон демонстрирует открытое и агрессивное неуважение к
чужому праву, стремление извлечь для себя имущественные выгоды недолжным путем, за
счет нарушения (ущемления) положения надлежащего правообладателя" (Ломидзе О.Г. О
правовой оценке договора, направленного на отчуждение имущества неуправомоченным
лицом. С. 14 и сл.). При таком подходе не учитывается, что квалификация договора как
недействительного нисколько не изменила бы ситуацию нарушенного права, но при этом
дополнительно нанесла бы ущерб интересам добросовестного приобретателя (если он не
стал собственником в силу сложного юридического состава, предусмотренного ст. 302
ГК), о чем еще пойдет речь ниже.
Отрицательный ответ, кажется, не нуждается в особом обосновании.
Обязательственный договор сам по себе не влечет перехода права собственности и
никоим образом это право не обременяет <460>, поэтому основанием его
недействительности не могут служить ни невозможность непосредственного и
немедленного наступления вещного эффекта, ибо она не имеет отношения к делу, ни
первоначальная невозможность перехода права собственности от данного конкретного
отчуждателя за отсутствием у него распорядительной власти, поскольку такая
невозможность является субъективной. Данное положение нашло прямое и
недвусмысленное закрепление в источниках современного единообразного права, таких,
как Принципы УНИДРУА 2004 и Принципы Европейского договорного права:
--------------------------------
<460> В связи с этим невозможно согласиться с позицией ВАС РФ, высказанной по
конкретному делу, согласно которой продаваемое имущество обременяется правами
покупателя на основании договора купли-продажи, а продавец утрачивает право
распоряжаться этим имуществом любым способом (см. п. 7 приложения к цит. инф.
письму Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. N 21).
Art. 3.3 UNIDROIT Principles 2004 Art. 4:115 Principles of ECL:
(Initial impossibility) Initial impossibility
(1) The mere fact that at the A contract is not invalid
time of the conclusion of the merely because at the time it
contract the perfomance of the was concluded perfomance of the
obligation assumed was impossible, obligation assumed was impossible,
does not affect the validity of or because a party was not
the contract. entitled to dispose of the assets
(2) The mere fact that at the to which the contract relates.
time of the conclusion of the
contract a party was not entitled
to dispose of the assets to which
the contract relates, does not
affect the validity ofthe contract.
Ст. 3.3 Принципов УНИДРУА 2004 Ст. 4:115 Принципов ЕДП:
(Первоначальная невозможность) Первоначальная невозможность
(1) Тот лишь факт, что во время Договор не является
заключения договора исполнение недействительным лишь потому,
принимаемого обязательства было что в то время, когда он был
невозможным, не влияет на заключен, исполнение принятого
действительность договора. обязательства было невозможным,
(2) Тот лишь факт, что во время или потому, что сторона не была
заключения договора сторона не управомочена распоряжаться
была управомочена распоряжаться имуществом, к которому относится
имуществом, к которому относится договор.
договор, не влияет на
действительность договора.
Обязательственный договор об отчуждении не может, кроме того, служить,
безотносительно к вопросу о его действительности, титулом владения для приобретателя,
фактически получившего вещь, но не ставшего собственником <461>, так как, обязывая к
передаче имущества в собственность, он направлен на перенос именно права
собственности, а не титульного владения; собственник же, как известно, владеет не на
основании договора, а исключительно в силу своего права собственности. Таким образом,
квалификация обязательственного договора, заключенного неуправомоченным на
отчуждение лицом, как действительного вовсе не означает, что приобретатель, получив
вещь, становится ее титульным (законным) владельцем, к чему, как иногда думают, такая
квалификация неизбежно приводила бы.
--------------------------------
<461> Иное мнение сложилось в доктрине благодаря разъяснению Пленума ВАС РФ
(см. п. 14 Постановления от 25 февраля 1998 г. N 8), согласно которому имущество в этом
случае "служит предметом исполненного продавцом обязательства, возникшего из
договора продажи, а покупатель является его законным владельцем" (см., напр.: Ломидзе
О.Г., Ломидзе Э.Ю. Указ. соч. С. 152; Скловский К. О действительности продажи чужого
имущества. С. 83 и сл.).
В этом отношении весьма показательно следующее рассуждение К.И. Скловского:
"...Данное в статье 305 ГК РФ определение законного владельца как лица, получившего
вещь по договору, определенно не допускает возможности того, что такой владелец не
имеет права на вещь - вещного или обязательственного <462>. Иными словами, ГК РФ
решительно исключает возможность того, что титульный владелец, то есть владелец,
получивший вещь по действительному договору, не получил на нее права" <463>.
--------------------------------
<462> Попутно заметим, что используемая автором конструкция
"обязательственного права на вещь" представляется внутренне противоречивой,
игнорирующей различие между вещными и обязательственными правами.
<463> Скловский К. О действительности продажи чужого имущества. С. 83.
Тезис о том, что любой договор, предусматривающий передачу вещи, порождает у
приобретателя титул владения, призван, очевидно, показать методом ad absurdum, что
если бы договор купли-продажи чужой вещи был действителен, то приобретатель имел бы
титул владения, а следовательно, был бы законным (титульным) владельцем, истребовать
вещь у которого нельзя ни при каких обстоятельствах (в том числе и при отсутствии
условий, предусмотренных в ст. 302 ГК). Однако этот тезис не вытекает из смысла ст. 305
ГК, на которую ссылается автор, как может показаться на первый взгляд при ее
буквальном прочтении, вне системы других норм. В данной статье имеются в виду
договоры, направленные на передачу титульного владения иного, чем владение на праве
собственности, возникающее вследствие исполнения договора купли-продажи, ибо
защите владения собственника посвящена другая, отдельная норма - ст. 301 ГК.
Конечно, может случиться и так, что владение вещью, переданной по договору
купли-продажи, возникает у покупателя до перехода к нему права собственности
(например, передача недвижимого имущества происходит до государственной
регистрации перехода права или - при продаже движимой вещи - стороны договариваются
о том, что собственность перейдет лишь в момент оплаты товара). Именно на это
обстоятельство ссылаются в качестве контрдовода против только что сказанного, т.е.
чтобы показать, что иногда договор купли-продажи все же может быть титулом владения,
а потому квалификация его как действительного, несмотря на неуправомоченность
отчуждателя, должна была бы привести к выводу о законности владения приобретателя по
такому договору в любом случае, независимо от соблюдения установленных в ст. 302 ГК
условий приобретения a non domino.
Так, ссылаясь на пример с продажей недвижимого имущества, О.Г. Ломидзе
утверждает, что с момента его передачи приобретателю, но до государственной
регистрации перехода права собственности приобретатель является законным владельцем
и подлежит вещно-правовой защите в соответствии со ст. 305 ГК. "То есть, несмотря на то
что договор купли-продажи направлен на отчуждение, на перенос права собственности, до
момента отчуждения он может служить основанием законного владения приобретателя
отчуждаемым объектом" <464>.
--------------------------------
<464> Ломидзе О.Г. О правовой оценке договора, направленного на отчуждение
имущества неуправомоченным лицом. С. 11.
Подобное обоснование является софистическим. Автор не учитывает, что законное
владение приобретателя по договору купли-продажи до перехода к нему права
собственности (а речь должна здесь идти о приобретателе любого имущества,
получившем владение, но не ставшем еще собственником, а не только о приобретателе
недвижимости) имеет место лишь в ситуации управомоченности лица, передавшего вещь,
на ее отчуждение. Ибо для того, чтобы владение приобретателя было законным, наличия
действительного обязательственного договора купли-продажи недостаточно. Сам по себе
этот договор, как уже показано, не может быть титулом владения. Объяснение просто: он
создает лишь обязательственное право требования, но никак не правомочие владеть
вещью. Для возникновения у приобретателя в подобных случаях законного владения
необходима управомоченность продавца на отчуждение: ведь очевидно, что тот, кто не
вправе распорядиться вещью, не может установить и законное владение ею, даже если у
него есть такая обязанность, основанная на действительной обязательственной сделке.
Следовательно, договор, заключенный с неуправомоченным отчуждателем, независимо от
его квалификации как действительного, не служит основанием законного владения. Он
составляет лишь то, что в римском праве именовалось (iusta) causa possessionis (которая
отнюдь не была равнозначна правовому титулу владения) и требовалось, наряду с
добросовестностью покупателя a non domino, для возникновения у него права
собственности в силу приобретательной давности (usucapio pro emptore).
Обязательственный договор, как неоднократно подчеркивалось, порождает лишь
обязательственное отношение, т.е. связывает отчуждателя, который в случае
невыполнения принятого на себя обязательства, в том числе в случае передачи одного
только фактического владения вещью, но не права на нее (а именно это чаще всего и
происходит при отчуждении имущества неуправомоченным лицом), будет нести перед
приобретателем ответственность за неисполнение договора. Если бы обязательственный
договор в случае неуправомоченности отчуждателя был недействительным, то не
существовало бы и норм об ответственности за эвикцию (ст. 461, 462 ГК), ибо эта
ответственность является договорной и наступает за ненадлежащее исполнение договора;
