Петрухин В.Я. Мифы Финно-угров
Подождите немного. Документ загружается.

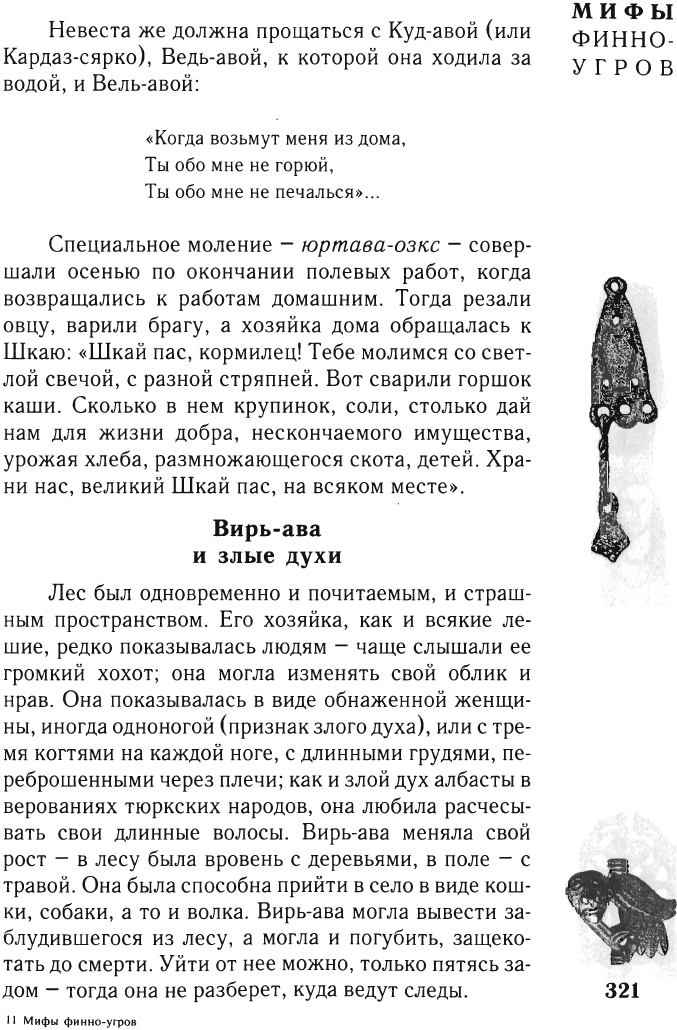
Невеста
же
должна
прощаться
с
Куд-авой
(или
Кардаз-сярко),
Ведь-авой,
к
которой
она
ходила
за
водой,
и
Вель-авой:
«Когда
возьмут
меня
из
дома,
Ты
обо
мне
не
горюй,
Ты
обо
мне
не
печалься»
...
Специальное
моление
-
юрmава-озкс
-
совер
шали
осенью
по
окончании
полевых
работ,
когда
возвращались
к
работам
домашним.
Тогда
резали
овцу,
варили
брагу,
а
хозяйка
дома
обращалась
к
Шкаю:
«Шкай
пас,
кормилец!
Тебе
молимся
со
свет
лой
свечой,
с
разной
стряпней.
Вот
сварили
горшок
каши.
Сколько
в
нем
крупинок,
соли,
столько
дай
нам
для
жизни
добра,
нескончаемого
имущества,
урожая
хлеба,
размножающегося
скота,
детей.
Хра
ни
нас,
великий
Шкай
пас,
на
всяком
месте».
Вирь-ава
и
злые духи
Лес был
одновременно
и
почитаемым,
и
страш
ным
пространством.
Его
хозяйка,
как
и
всякие
ле
шие,
редко
показывалась
людям
-
чаще
слышали
ее
громкий
хохот;
она
могла
изменять
свой
облик
и
нрав.
Она
показывалась
в
виде
обнаженной
женщи
ны,
иногда
одноногой
(признак
злого
духа),
или
с
тре
мя
когтями
на
каждой
ноге,
с
длинными
грудями,
пе
реброшенными
через
плечи;
как
и злой
дух
албасты
в
верованиях
тюркских
народов,
она
любила
расчесы
вать
свои
длинные
волосы.
Вирь-ава
меняла
свой
рост
-
в
лесу
была
вровень
с
деревьями,
в
поле
-
с
травой.
Она
была
способна
прийти
в
село
в
виде
кош
ки,
собаки,
а
то
и волка.
Вирь-ава
могла
вывести
за
блудившегося
из
лесу,
а
могла
и
погубить,
защеко
тать
до
смерти.
Уйти
от
нее
можно,
только пятясь
за-
МИФЫ
финно
УГРОВ
дом
-
тогда
она
не
разберет,
куда
ведут
следы.
321
11
Мифы
финно-угров
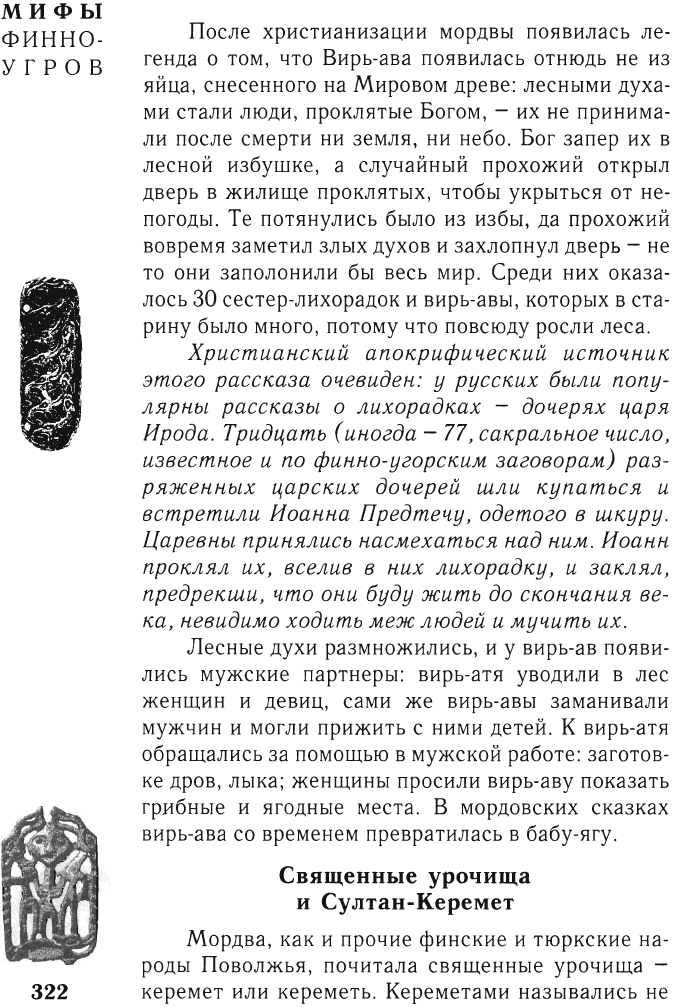
МИФЫ
финно
УГРОВ
После
христианизации
мордвы
появилась
ле
генда
о
том,
что
Вирь-ава
появилась
отнюдь
не
из
яйца,
снесенного
на
Мировом
древе:
лесными
духа
ми
стали
люди,
проклятые
Богом,
-
их
не
принима
ли
после
смерти
ни
земля,
ни
небо.
Бог
запер
их
в
лесной
избушке,
а
случайный
прохожий
открыл
дверь
в
жилище
проклятых,
чтобы
укрыться
от
не
погоды.
Те
потянулись
было
из
избы,
да
прохожий
вовремя
заметил
злых
духов
и
захлопнул
дверь
-
не
то
они
заполонили
бы
весь
мир.
Среди
них
оказа
лось
30
сестер-лихорадок
и
вирь-авы,
которых
в
ста
рину
было
много,
потому
что
повсюду
росли
леса.
Христианский
апокрифический
источник
этого
рассказа
очевиден:
у
русских
были
попу
лярны
рассказы
о
лихорадках
-
дочерях
царя
Ирода.
Тридцать
(иногда
- 77,
сакральное
число,
известное
и
по
финно-угорским
заговорам)
раз-
ряженных
царских
дочерей
шли
купаться
и
встретили
Иоанна
Предтечу,
одетого
в
шкуру.
Царевны
принялись
насмехаться
над
ним.
Иоанн
проклял
их,
вселив
в
них
лихорадку,
и
заклял,
предрекши,
что
они
буду
жить
до
скончания
ве
ка,
невидимо
ходить
меж
людей
и
мучить
их.
Лесные
духи
размножились,
и
у
вирь-ав
появи
лись
мужские
партнеры:
вирь-атя
уводили
в
лес
женщин
и
девиц,
сами
же
вирь-авы
заманивали
мужчин
и
могли
прижить
С
ними
детей.
К
вирь-атя
обращались
за
помощью
в
мужской
работе:
заготов
ке
дров,
лыка;
женщины
просили
вирь-аву
по
казать
грибные
и
ягодные
места.
В
мордовских
сказках
вирь-ава
со
временем
превратилась
в
бабу-ягу.
Священные
урочища
и
Султан-Керемет
Мордва,
как
и
прочие
финские
и
тюркские
на
роды
Поволжья,
почитала
священные
урочища
-
322
керемет
или
кереметь.
Кереметами
назывались
не
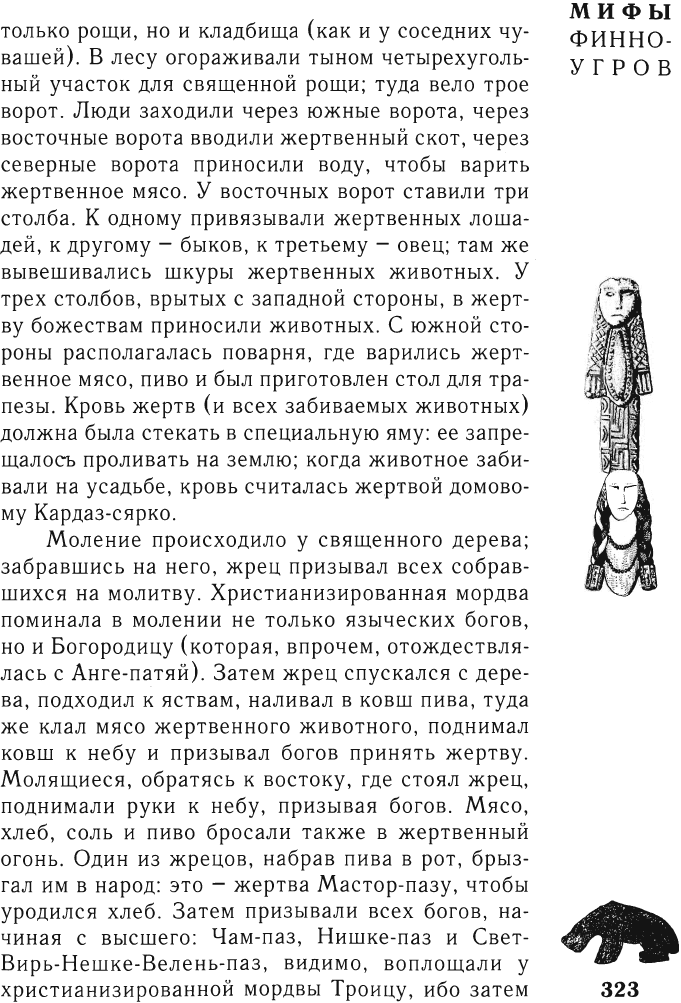
только
рощи,
но
и
кладбища
(как
и
у
соседних
чу
вашей).
В
лесу
огораживали
тыном
четырехуголь
ный
участок
для
священной
рощи;
туда
вело
трое
ворот.
Люди
заходили
через
южные
ворота,
через
восточные
ворота
вводили
жертвенный
скот,
через
северные
ворота
приносили
воду,
чтобы
варить
жертвенное
мясо.
У
восточных
ворот
ставили
три
столба.
К
одному
привязывали
жертвенных
лоша-
дей,
к
другому
-
быков,
к
третьему
-
овец;
там
же
вывешивались
шкуры
жертвенных
животных.
У
трех
столбов,
врытых
с
западной
стороны,
в
жерт
ву
божествам
приносили
животных.
С
южной
сто
роны
располагалась
поварня,
где
варились
жерт
венное
мясо,
пиво
и
был
приготовлен
стол
для
тра
пезы.
Кровь
жертв
(и
всех
забиваемых
животных)
должна
была
стекать
в
специальную
яму:
ее
запре
щалосъ
проливать
на
землю;
когда
животное
заби
вали
на
усадьбе,
кровь
считалась
жертвой
домово
му
Кардаз-сярко.
Моление
происходило
у
священного
дерева;
забравшись
на
него,
жрец
призывал
всех
собрав
шихся
на
молитву.
Христианизированная
мордва
поминала
в
молении
не
только
языческих
богов,
но
и
Богородицу
(которая,
впрочем,
отождествля-
лась
с
Анге-патяЙ).
Затем
жрец
спускался
с
дере-
ва,
подходил
к
яствам,
наливал
в
ковш
пива,
туда
же
клал
мясо
жертвенного
животного,
поднимал
ковш
к
небу
и
призывал
богов
принять
жертву.
Молящиеся,
обратясь
к
востоку,
где
стоял
жрец,
поднимали
руки
к
небу,
призывая
богов.
Мясо,
хлеб,
соль
и
пиво
бросали
также
в
жертвенный
огонь.
Один
из
жрецов,
набрав
пива
в
рот,
брыз-
гал
им
в
народ:
это
-
жертва
Мастор-пазу,
чтобы
МИФЫ
ФИННО-
УГРОВ
уродился
хлеб.
Затем
призывали
всех
богов,
на-
~.
чиная
с
высшего:
Чам-паз,
Нишке-паз
и
Свет-
,.,..,..
Вирь-Нешке-Велень-паз,
видимо,
воплощали
у
христианизированной
мордвы
Троицу,
ибо
затем
323
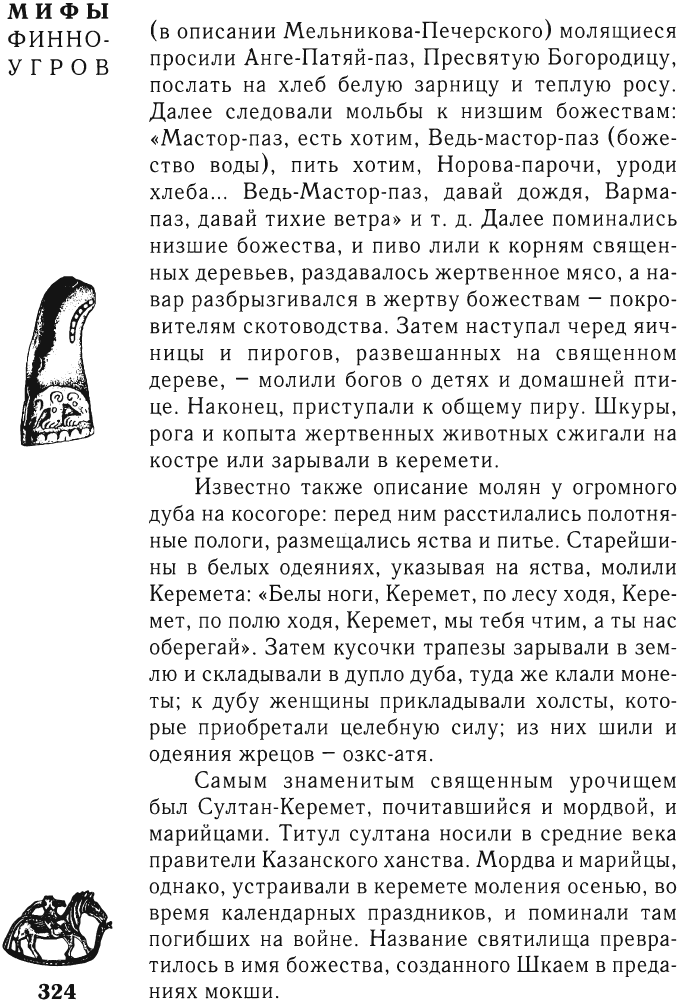
МИФЫ
ФИННО
УГРОВ
324
(в
описании
Мельникова-Печерского)
молящиеся
просили
Анге-Патяй-паз,
Пресвятую
Богородицу,
послать
на
хлеб
белую
зарницу
и
теплую
росу.
Далее
следовали
мольбы
к
низшим
божествам:
«Мастор-паз,
есть
хотим,
Ведь-мастор-паз
(боже
ство
воды),
пить
хотим,
Норова-парочи,
уроди
хлеба
...
Ведь-Мастор-паз,
давай
дождя, Варма
паз,
давай
тихие
ветра»
и
т.
д.
Далее
поминались
низшие
божества,
и
пиво
лили
к
корням
священ
ных
деревьев,
раздавал
ось
жертвенное
мясо,
а
на
вар
разбрызгивался
в
жертву
божествам
-
покро
вителям
скотоводства.
Затем
наступал
черед
яич
ницы
и
пирогов,
развешанных
на
священном
дереве,
-
молили
богов
о
детях
и
домашней
пти
це.
Наконец,
приступ
али
к
общему
пиру.
Шкуры,
рога
и
копыта
жертвенных
животных
сжигали
на
костре
или
зарывали
в
керемети.
Известно
также
описание
молян
у
огромного
дуба
на
косогоре:
перед
ним
расстилались
полотня
ные
пологи,
размещались
яства
и
питье.
Старейши
ны
в
белых
одеяниях,
указывая
на
яства,
молили
Керемета:
«Белы
ноги,
Керемет,
по
лесу
ходя,
Кере
мет,
по
полю
ходя,
Керемет,
мы
тебя
чтим,
а
ты
нас
оберегай».
Затем
кусочки
трапезы
зарывали
в
зем
лю
и
складывали
в
дупло
дуба,
туда
же
клали
моне
ты;
к
дубу
женщины
прикладывали
холсты,
кото
рые
приобретали
целебную
силу;
из
них
шили
и
одеяния
жрецов
-
озкс-атя.
Самым
знаменитым
священным
урочищем
был
Султан-Керемет,
почитавшийся
и
мордвой,
и
марийцами.
Титул
султана
носили
в
средние
века
правители
Казанского
ханства.
Мордва
и
марийцы,
однако,
устраивали
в
керемете
моления
осенью,
во
время
календарных
праздников,
и
поминали
там
погибших
на
войне.
Название
святилища
превра
тилось
в
имя
божества,
созданного
Шкаем
в
преда
ниях
мокши.
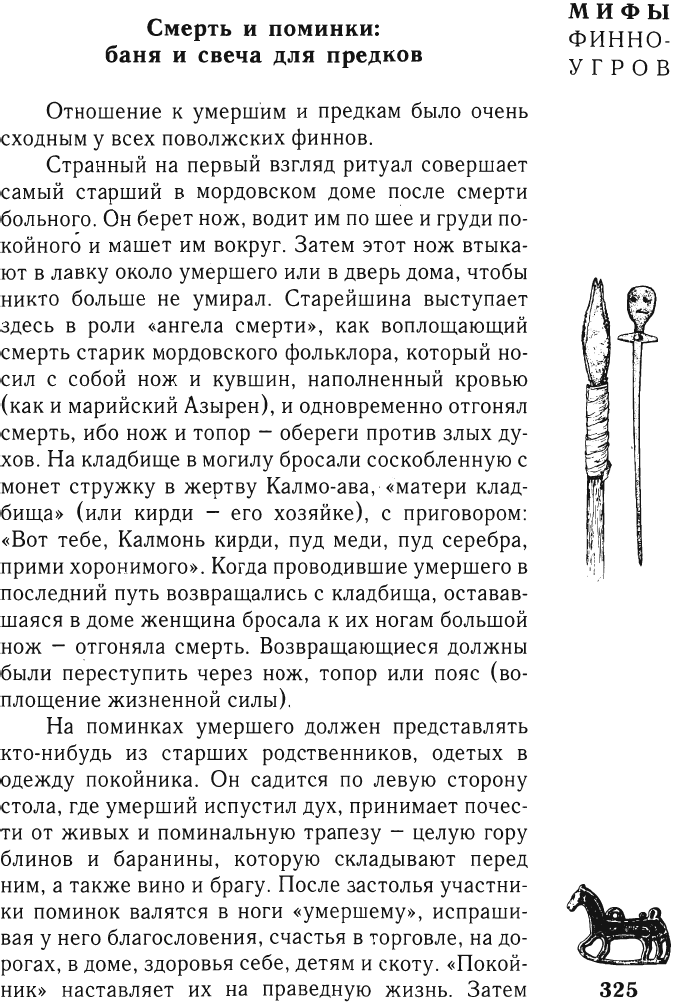
Смерть
и
поминки:
баня
и
свеча
для
предков
Отношение
к
умершим
и
предкам
было
очень
сходным
у
всех
поволжских
финнов.
Странный
на
первый
взгляд
ритуал
совершает
самый
старший
в
мордовском
доме
после
смерти
больного.
Он
берет
нож,
водит
им
по
шее
и
груди
по
койнога
И
машет
им
вокруг.
Затем
этот
нож
втыка
ют
в
лавку
около
умершего
или
в
дверь
дома,
чтобы
никто
больше
не
умирал.
Старейшина
выступает
здесь
в
роли
«ангела
смерти»,
как
воплощающий
смерть
старик
мордовского
фольклора,
который
но
сил
с
собой
нож
и
кувшин,
наполненный
кровью
(как
и
марийский
Азырен),
и
одновременно
отгонял
смерть,
ибо
нож
и
топор
-
обереги
против
злых
ду
хов.
На
кладбище
в
могилу
бросали
соскобленную
с
монет
стружку
в
жертву
Калмо-ава,
«матери
клад
бища»
(или
кирди
-
его
хозяйке),
с
приговором:
«Вот
тебе,
Калмонь
кирди,
пуд
меди,
пуд
серебра,
прими
хоронимого».
Когда
проводившие
умершего
в
последний
путь
возвращались
с
кладбища,
оставав
шаяся
в
доме
женщина
бросала
к
их
ногам
большой
нож
-
отгоняла
смерть.
Возвращающиеся
должны
были
переступить
через
нож,
топор
или
пояс
(во
площение
жизненной
силы).
На
поминках
умершего
должен
представлять
кто-нибудь
из
старших
родственников,
одетых
в
одежду
покоЙника.
Он
садится
по
левую
сторону
стола,
где
умерший
испустил
дух,
принимает
почес
ти
от
живых
и
поминальную
трапезу
-
целую
гору
блинов
и
баранины,
которую
складывают
перед
ним,
а
также
вино
и
брагу.
После
застолья участни
ки
поминок
валятся
в
ноги
«умершему»,
испраши
вая
у него
благословения,
счастья
в
торговле,
на
до
рогах,
в
доме,
здоровья
себе,
детям
и
скоту.
«Покой
нию>
наставляет
их
на
праведную
жизнь.
Затем
МИФЫ
ФИННО
УГРОВ
325
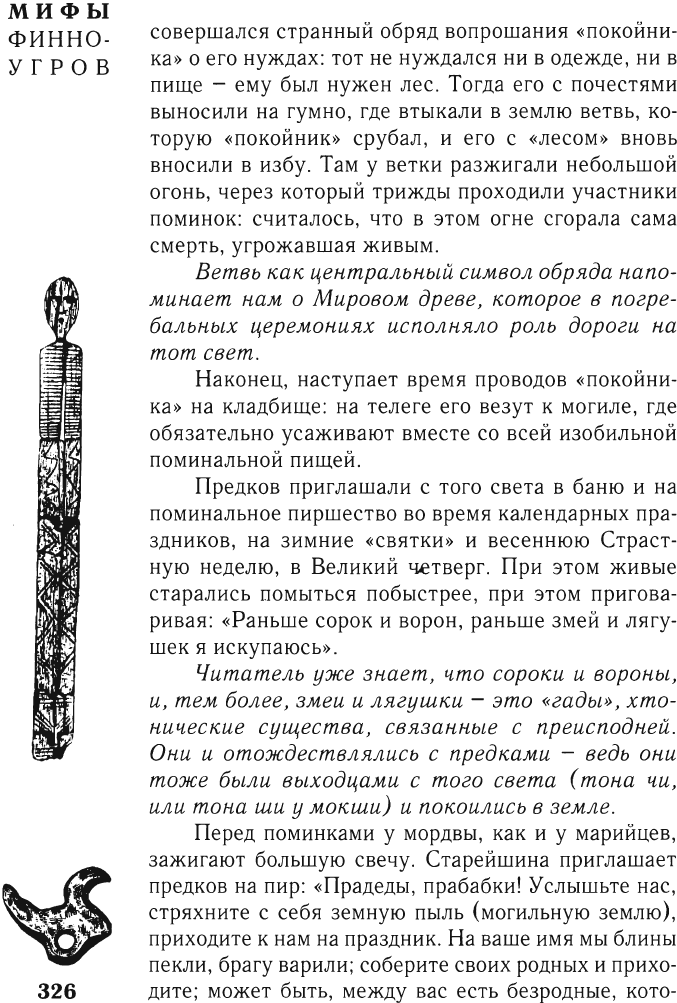
МИФЫ
ФИННО
УГРОВ
~
~
326
совершался
странный
обряд
вопрошания
«покойни
ка»
о
его
нуждах:
тот
не
нуждался
ни
в
одежде,
ни
в
пище
-
ему
был
нужен
лес.
Тогда
его
с
почестями
выносили
на
гумно,
где
втыкали
в
землю
ветвь,
ко
торую
«покойник»
срубал,
и
его
с
«лесом»
вновь
вносили
в
избу.
Там
у
ветки
разжигали
небольшой
огонь,
через
который
трижды
проходили
участники
поминок:
считалось,
что
в
этом
огне
сгорала
сама
смерть,
угрожавшая
живым.
Ветвь
как
центральный
символ
обряда
напо
минает
нам
о
Мировом
древе,
которое
в
nогре
бальных
церемониях
исполняло
роль дороги
на
тот
свет.
Наконец,
наступает
время
проводов
«покойни
ка»
на
кладбище:
на
телеге
его
везут
к
могиле,
где
обязательно
усаживают
вместе
со
всей
изобильной
поминальной
пищей.
Предков
приглашали
с
того
света
в
баню
и на
поминальное
пиршество
во
время
календарных
пра
здников,
на
зимние
«святки»
И
весеннюю
Страст
ную
неделю,
в
Великий
четверг.
При
этом
живые
старались
помыться
побыстрее,
при
этом
пригова
ривая:
«Раньше
сорок
и
ворон,
раньше
змей
и
лягу
шек
я
искупаюсь».
Читатель
уже
знает,
что
сороки
и
вороны,
и,
тем
более,
змеи
и
лягушки
-
это
«гады»,
хто
нические
существа,
связанные
с
nреисnоднеЙ.
Они
и
отождествлялись
с
предками
-
ведь
они
тоже
были
выходцами
с
того
света
(тона
чи,
или
тона
ши
у
мокши)
и
nокоились
в
земле.
Перед
поминками
у
мордвы,
как
и
у
марийцев,
зажигают
большую
свечу.
Старейшина
приглашает
предков
на
пир:
(,прадеды,
прабабки!
Услышьте
нас,
стряхните
с
себя
земную
пыль
(могильную
землю),
приходите
к
нам
на
праздник.
На
ваше
имя
мы
блины
пекли,
брагу
варили;
соберите
своих
родных
и
прихо
дите;
может
быть,
между
вас
есть
безродные,
кото-
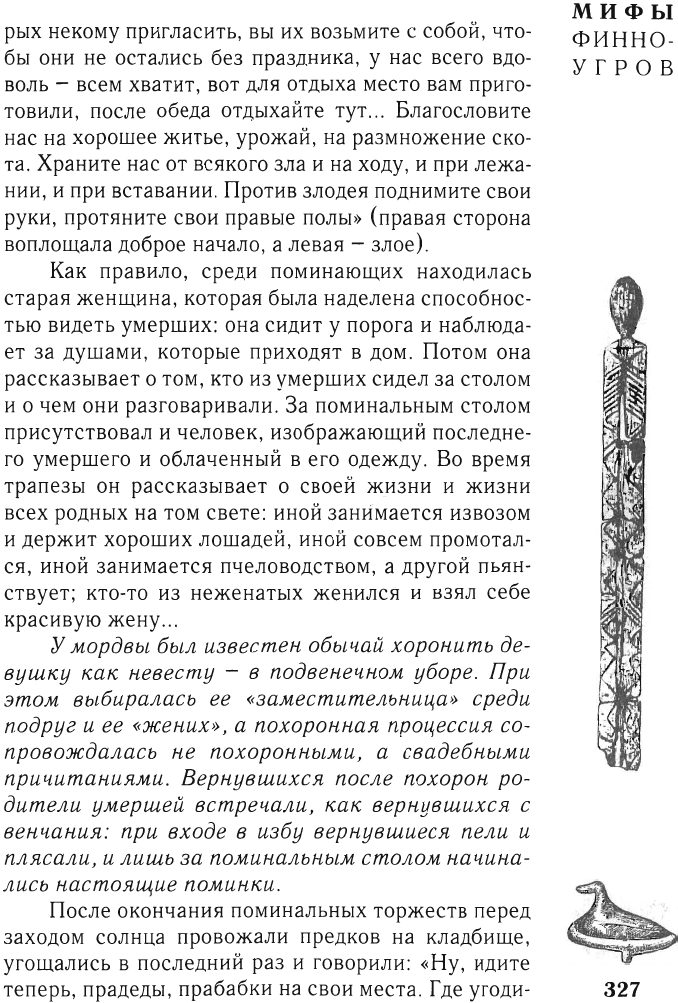
рых
некому
пригласить,
вы
их
возьмите
с
собой,
что
бы
они
не
остались
без
праздника,
у
нас
всего
вдо
воль
-
всем
хватит,
вот
для
отдыха
место
вам
приго
товили,
после
обеда
отдыхайте
тут
...
Благословите
нас
на
хорошее
житье,
урожай,
на
размножение
ско-
та.
Храните
нас
от
всякого
зла
и
на
ходу,
и
при
лежа-
нии,
и
при
вставании.
Против
злодея
поднимите
свои
руки,
протяните
свои
правые
полы»
(правая
сторона
воплощала
доброе
начало,
а
левая
-
злое).
Как
правило,
среди
поминающих
находилась
старая
женщина,
которая
была
наделена
способнос
тью
видеть
умерших:
она
сидит
у
порога
и
наблюда
ет
за
душами,
которые
приходят
в
дом.
Потом
она
рассказывает
о
том,
кто
из
умерших
сидел
за
столом
и
о
чем
они
разговаривали.
За
поминальным
столом
присутствовал
и человек,
изображающий
последне
го
умершего
и
облаченный
в
его
одежду.
Во
время
трапезы
он
рассказывает
о
своей
жизни
и
жизни
всех
родных
на
том
свете:
иной
занимается
извозом
и
держит
хороших
лошадей,
иной
совсем
промотал
ея,
иной
занимается
пчеловодством,
а
другой
пьян
ствует;
кто-то из
неженатых
женился
и
взял
себе
красивую
жену
...
у
мордвы
был
известен
обычай
хоронить
де
вушку
как
невесту
-
в
подвенечном
уборе.
При
этом
выбиралась
ее
«заместительница»
среди
подруг
и
ее
«жених»,
а
nохоронная
nроцессия
со
nровождалась
не
nохоронными,
а
свадебными
причитаниями.
Вернувшихся
после
похорон
ро
дители
умершей
встречали,
как
вернувшихся
с
венчания:
при
входе
в
избу
вернувшиеся
пели
и
плясали,
и
лишь
за
поминальным
столом
начина-
лись
настоящие
поминки.
После
окончания
поминальных
торжеств
перед
заходом
солнца
провожали
предков
на
кладбише,
угощались
в
последний
раз
и
говорили:
«Ну,
идите
МИФЫ
ФИННО
УГРОВ
теперь,
прадеды,
прабабки
на
свои
места.
Где
угоди-
327
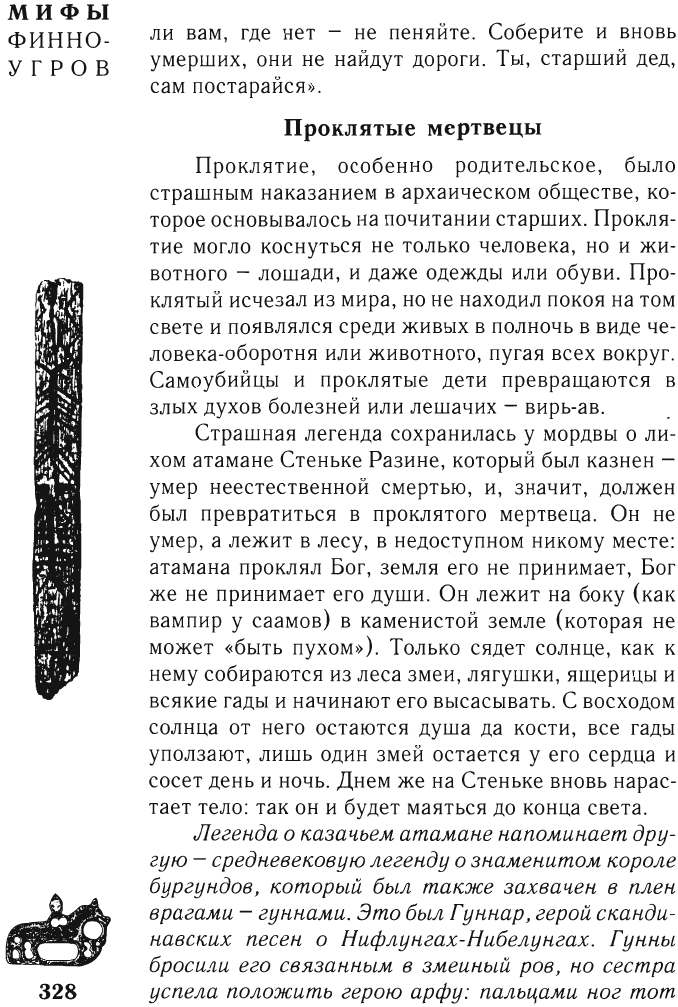
МИФЫ
ФИННО
УГРОВ
328
ли
вам,
где
нет
-
не пеняЙте.
Соберите
и
вновь
умерших,
они
не
найдут
дороги.
Ты,
старший
дед,
сам
постараЙся».
Проклятые
мертвецы
Проклятие,
особенно
родительское,
было
страшным
наказанием
в
архаическом
обществе,
ко
торое
основывалось
на
почитании
старших.
Прокля
тие
могло
коснуться
не
только
человека,
но
и
жи
вотного
-
лошади,
и
даже
одежды
или
обуви.
Про
клятый
исчезал
из
мира,
но
не
находил
покоя
на
том
свете
и
появлялся
среди
живых
в
полночь
в
виде
че
ловека-оборотня
или
животного,
пугая
всех
вокруг.
Самоубийцы
и
проклятые
дети
превращаются
в
злых
духов
болезней
или
лешачих
-
вирь-ав.
.
Страшная
легенда
сохранилась
у
мордвы
о
ли
хом
атамане
Стеньке
Разине,
который
был
казнен
-
умер
неестественной
смертью,
и,
значит,
должен
был
превратиться
в
проклятого
мертвеца.
Он
не
умер,
а
лежит
в
лесу,
в
недоступном
никому
месте:
атамана
проклял
Бог,
земля
его
не
принимает,
Бог
же
не
принимает
его
души.
Он
лежит
на
боку
(как
вампир
у
саамов)
в
каменистой
земле
(которая
не
может
«быть
пухом»).
Только
сядет
солнце,
как
к
нему
собираются
из
леса
змеи,
лягушки,
ящерицы
и
всякие
гады
и
начинают
его
высасывать.
С
восходом
солнца
от
него
остаются
душа
да
кости,
все
гады
уползают,
лишь
один
змей
остается
у
его
сердца
и
сосет
день
и
ночь.
Днем
же
на
Стеньке
вновь
нарас
тает
тело:
так
он
и
будет
маяться
до
конца
света.
Легенда
о
казачьем
атамане
напоминает
дру
гую
-
средневековую
легенду
о
знаменитом
короле
бургундов,
который
был
также
захвачен
в
плен
врагами
-
гуннами.
Это
был
Гуннар,
герой
сканди
навских
песен
о
Нифлунгах-Нибелунгах.
Гунны
бросили
его
связанным
в
змеиный
ров,
но
сестра
успела
положить
герою
арфу:
пальцами
ног
тот
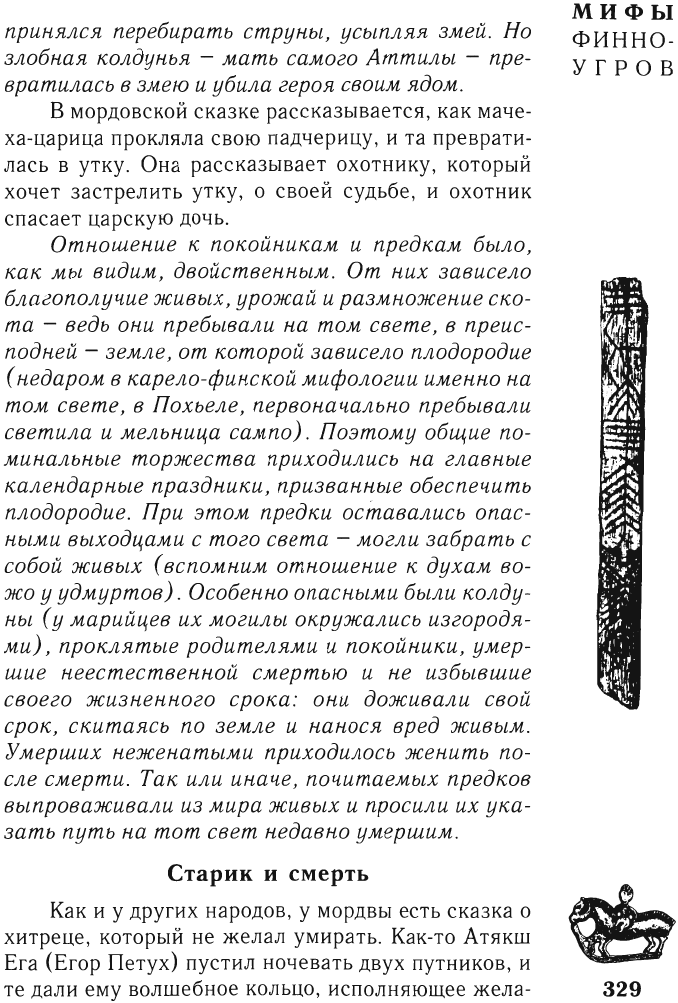
принялся nеребирать
струны,
усыпляя
змей.
Но
злобная
колдунья
-
мать
самого
Аттилы
-
nре
вратилась
в
змею
и
убила
героя
своим
ядом.
В
мордовской
сказке
рассказывается,
как
маче
ха-царица
прокляла
свою
падчерицу,
и
та
преврати
лась
в
утку.
Она
рассказывает
охотнику,
который
хочет
застрелить
утку,
о
своей
судьбе,
и
охотник
спасает
царскую
дочь.
Отношение
к
nокойникам
и
предкам
было,
как
мы
видим,
двойственным.
От
них
зависело
благополучие
живых,
урожай
и
размножение
ско
та
-
ведь
они
пребывали
на
том
свете,
в
nреис
подней
-
земле,
от
которой
зависело
плодородие
(недаром
в
карело-финской
мифологии
именно
на
том
свете,
в
Похьеле,
nервоначально
пребывали
светила
и
мельница
сампо)
.
Поэтому
общие
по
минальные
торжества
nриходились
на
главные
календарные
праздники,
призванные
обеспечить
плодородие.
При
этом
предки
оставались
опас
ными
выходцами
с
того
света
-
могли
забрать
с
собой
живых
(вспомним
отношение
к
духам
ВО
жо
у
удмуртов).
Особенно
опасными
были
колду
ны
(у
марийцев
их
могилы
окружались
изгородя
ми),
проклятые
родителями
и
nокойники,
умер
шие
неестественной
смертью
и
не
избывшие
своего
жизненного
срока:
они
доживали
свой
срок,
скитаясь
по
земле
и
нанося
вред
живым.
Умерших
неженатыми
приходилось
женить
по
сле
смерти.
Так
или
иначе,
почитаемых
предков
выпроваживали
из
мира
живых
и
просили
их
ука
зать
путь
на
тот
свет
недавно
умершим.
Старик
и
смерть
Как
и у
других
народов, у
мордвы
есть
сказка
о
хитреце,
который
не
желал
умирать.
Как-то
Атякш
Ега
(Егор
Петух)
пустил
ночевать
двух
путников,
и
те
дали
ему
волшебное
кольцо,
исполняющее
жела-
МИФЫ
финно
угров
329
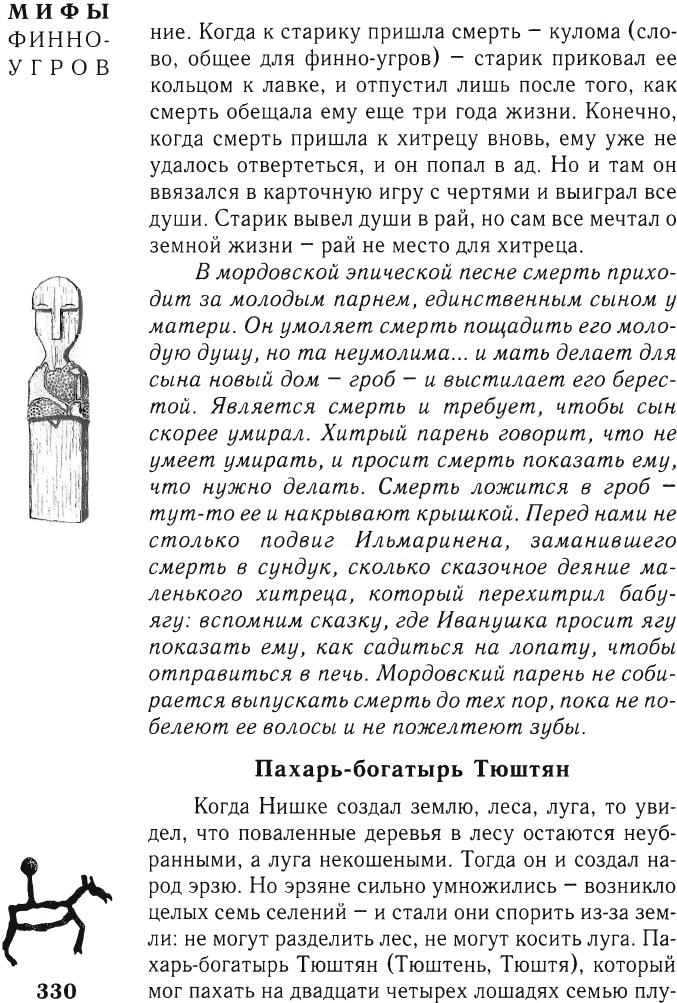
МИФЫ
ФИННО
У
Г
Р
О
В
330
ние.
Когда
к
старику
пришла
смерть
-
кулома
(сло
во,
общее
для
финно-угров)
-
старик
приковал
ее
кольцом
к
лавке,
и
отпустил
лишь
после
того,
как
смерть
обещала
ему
еще
три
года
жизни.
Конечно,
когда
смерть
пришла
к
хитрецу
вновь,
ему
уже
не
удалось
отвертеться,
и
он
попал
в
ад.
Но
и
там
он
ввязался
в
карточную
игру
с
чертями
и
выиграл
все
души.
Старик
вывел
души
в
рай,
но
сам
все
мечтал
о
земной
жизни
-
рай
не
место
для
хитреца.
В
мордовской
эпической
песне
смерть
прихо
дит
за
молодым
парнем,
единственным
сыном
у
матери.
Он
умоляет
смерть
пощадить
его
моло
дую
душу,
но
та
неумолима
...
и
мать
делает
для
сына
новый
дом
-
гроб
-
и
выстилает
его
берес
той.
Является
смерть
и
требует,
чтобы
сын
скорее
умирал.
Хитрый
парень
говорит,
что
не
умеет
умирать,
и
просит смерть
nоказать
ему,
что
нужно
делать.
Смерть
ложится
в
гроб
-
тут-то
ее
и
накрывают
крышкой.
Перед
нами
не
столько
подвиг
Ильмаринена,
заманившего
смерть
в
сундук,
сколько
сказочное
деяние
ма
ленького
хитреца,
который
перехитрил
бабу
ягу:
вспомним
сказку,
где
Иванушка
просит
ягу
nоказать
ему,
как
садиться
на
лопату,
чтобы
отправиться
в
печь.
Мордовский
парень
не
соби
рается
выпускать
смерть
до
тех
пор,
пока
не
по
белеют
ее
волосы
и
не
пожелтеют
зубы.
Пахарь-богатырь
Тюштян
Когда
Нишке
создал
землю,
леса,
луга,
то
уви
дел,
что
поваленные
деревья
в
лесу
остаются
неуб
ранными,
а
луга
некошеными.
Тогда
он
и создал
на
род
эрзю.
Но
эрзяне
сильно
умножились
-
возникло
целых
семь
селений
-
и
стали
они
спорить
из-за
зем
ли:
не
могут
разделить
лес,
не
могут
косить
луга.
Па
харь-богатырь
Тюштян
(Тюштень,
Тюштя),
который
мог
пахать
на
двадцати
четырех
лошадях
семью
плу-
