Мещеряков А.Н. (ред.) Политическая культура Древней Японии
Подождите немного. Документ загружается.

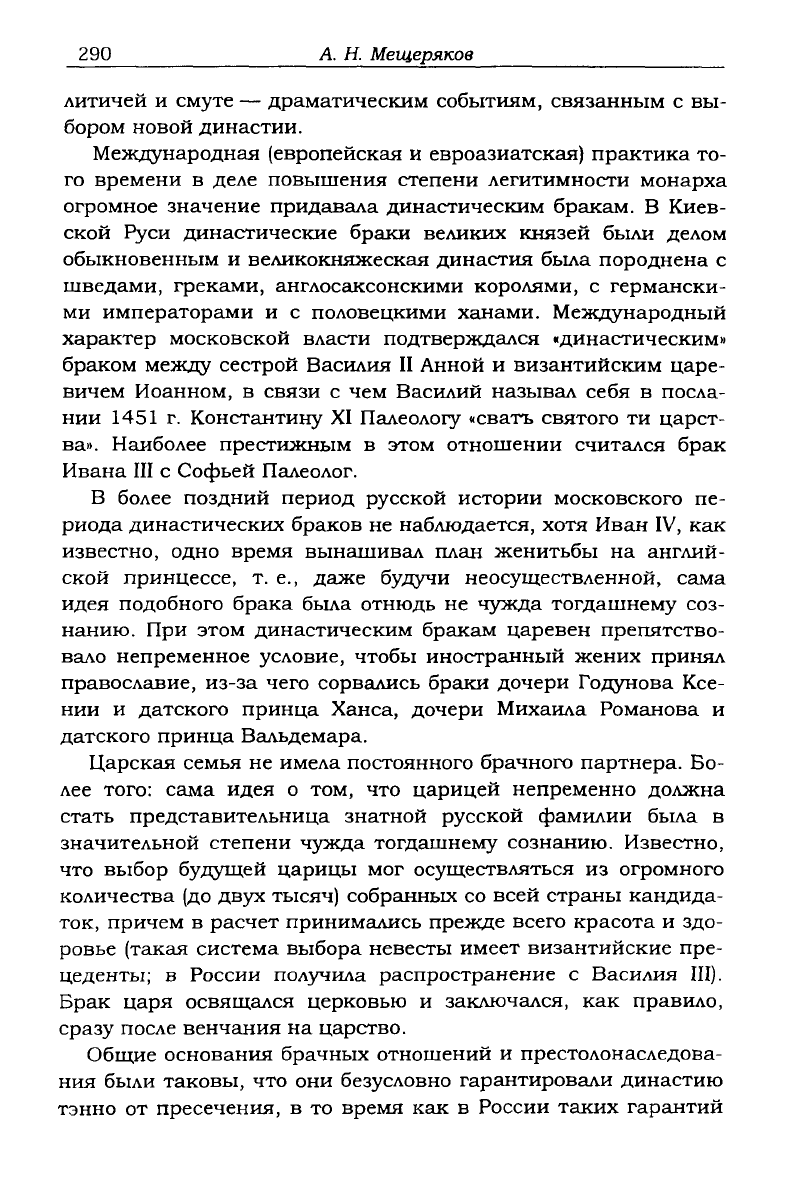
290 А. Н.
Мещеряков
литичей и
смуте
— драматическим событиям, связанным с вы-
бором новой династии.
Международная (европейская и евроазиатская) практика то-
го времени в
деле
повышения степени легитимности монарха
огромное значение придавала династическим бракам. В Киев-
ской
Руси династические браки великих князей были делом
обыкновенным
и великокняжеская династия была породнена с
шведами, греками, англосаксонскими королями, с германски-
ми
императорами и с половецкими ханами. Международный
характер московской власти подтверждался «династическим»
браком
между
сестрой Василия II Анной и византийским царе-
вичем Иоанном, в связи с чем Василий называл себя в посла-
нии
1451 г. Константину XI Палеологу
«сватъ
святого ти царст-
ва». Наиболее престижным в этом отношении считался брак
Ивана
III с Софьей Палеолог.
В более поздний период русской истории московского пе-
риода династических браков не наблюдается, хотя Иван IV, как
известно, одно время вынашивал план женитьбы на англий-
ской
принцессе, т. е.,
даже
будучи
неосуществленной, сама
идея подобного брака была отнюдь не
чужда
тогдашнему соз-
нанию.
При этом династическим бракам царевен препятство-
вало непременное условие, чтобы иностранный жених принял
православие, из-за чего сорвались браки дочери Годунова Ксе-
нии
и датского принца Ханса, дочери Михаила Романова и
датского принца Вальдемара.
Царская
семья не имела постоянного брачного партнера. Бо-
лее того: сама идея о том, что царицей непременно должна
стать представительница знатной русской фамилии была в
значительной степени
чужда
тогдашнему сознанию. Известно,
что выбор
будущей
царицы мог осуществляться из огромного
количества (до
двух
тысяч) собранных со всей страны кандида-
ток, причем в расчет принимались прежде всего красота и здо-
ровье (такая система выбора невесты имеет византийские пре-
цеденты; в России получила распространение с Василия III).
Брак
царя освящался церковью и заключался, как правило,
сразу после венчания на царство.
Общие основания брачных отношений и престолонаследова-
ния
были таковы, что они безусловно гарантировали династию
тэнно
от пресечения, в то время как в России таких гарантий
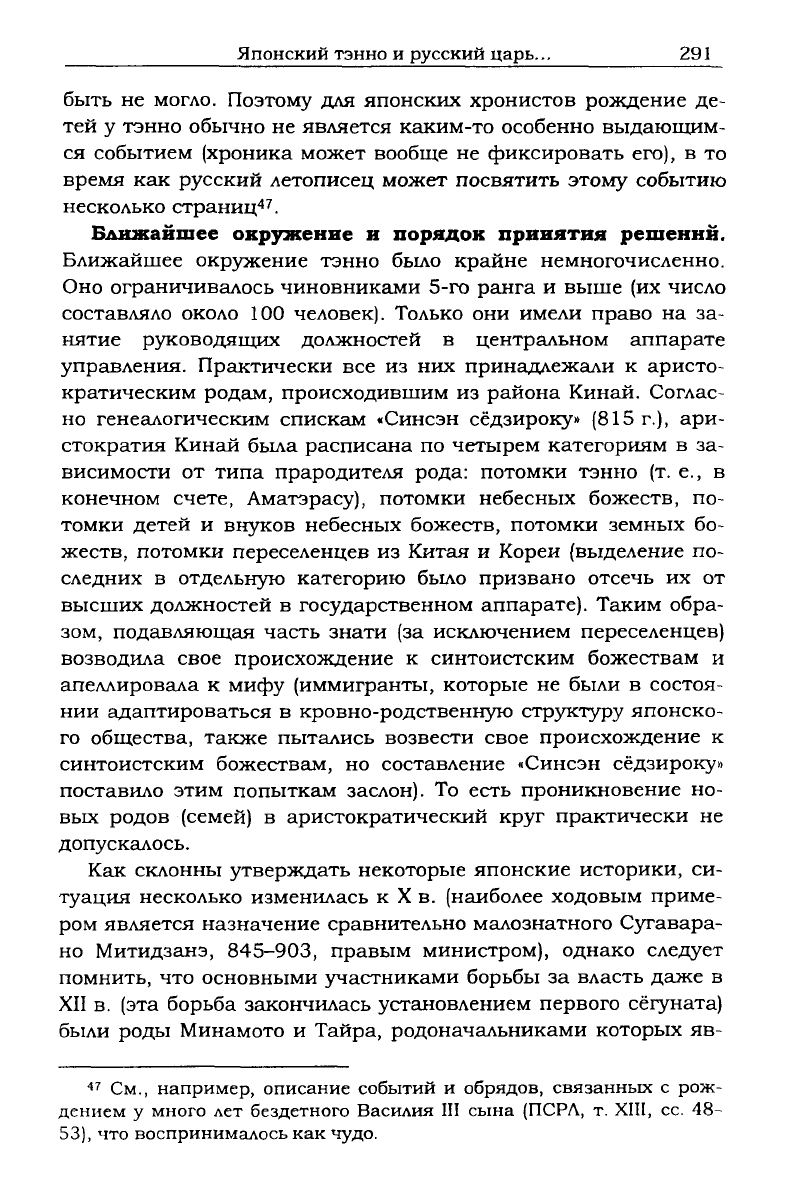
Японский
тэнно
и
русский царь...
291
быть
не
могло. Поэтому
для
японских хронистов рождение
де-
тей
у
тэнно обычно
не
является каким-то особенно выдающим-
ся
событием (хроника может вообще
не
фиксировать
его), в то
время
как
русский летописец может посвятить этому событию
несколько страниц
47
.
Ближайшее
окружение и порядок принятия решений.
Ближайшее окружение тэнно было крайне немногочисленно.
Оно
ограничивалось чиновниками
5-го
ранга
и
выше
(их
число
составляло около
100
человек). Только
они
имели право
на за-
нятие
руководящих должностей
в
центральном аппарате
управления. Практически
все из них
принадлежали
к
аристо-
кратическим родам, происходившим
из
района
Кинай.
Соглас-
но
генеалогическим спискам «Синсэн
сёдзироку»
(815 г.), ари-
стократия Кинай была расписана
по
четырем категориям
в за-
висимости
от
типа прародителя рода: потомки тэнно
(т. е., в
конечном
счете, Аматэрасу), потомки небесных божеств,
по-
томки детей
и
внуков небесных божеств, потомки земных
бо-
жеств, потомки переселенцев
из
Китая
и
Кореи (выделение
по-
следних
в
отдельную
категорию было призвано отсечь
их от
высших должностей
в
государственном аппарате). Таким обра-
зом,
подавляющая часть знати
(за
исключением переселенцев)
возводила свое происхождение
к
синтоистским божествам
и
апеллировала
к
мифу (иммигранты, которые
не
были
в
состоя-
нии
адаптироваться
в
кровно-родственную
структуру
японско-
го общества, также пытались возвести свое происхождение
к
синтоистским божествам,
но
составление «Синсэн
сёдзироку»
поставило этим попыткам заслон).
То
есть проникновение
но-
вых родов (семей)
в
аристократический круг практически
не
допускалось.
Как
склонны
утверждать
некоторые японские историки,
си-
туация несколько изменилась
к X в.
(наиболее ходовым приме-
ром является назначение сравнительно малознатного Сугавара-
но
Митидзанэ,
845-903,
правым министром), однако
следует
помнить,
что
основными участниками борьбы
за
власть
даже
в
XII
в. (эта
борьба закончилась установлением первого сёгуната)
были роды Минамото
и
Тайра, родоначальниками которых
яв-
47
См.,
например, описание событий
и
обрядов, связанных
с рож-
дением
у
много
лет
бездетного Василия
III
сына (ПСРЛ,
т.
XIII,
ее. 48-
53),
что
воспринималось
как
чудо.
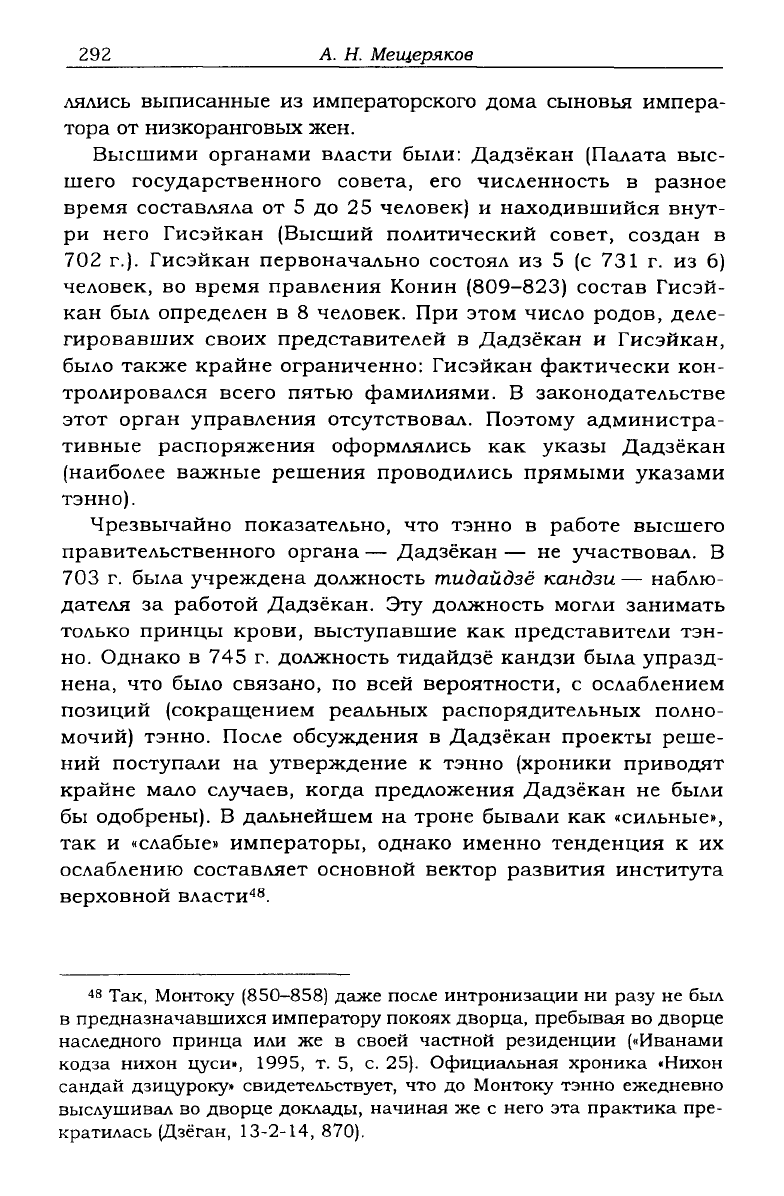
292 АН.
Мещеряков
лялись выписанные из императорского дома сыновья импера-
тора от низкоранговых жен.
Высшими органами власти были: Дадзёкан (Палата выс-
шего государственного совета, его численность в разное
время составляла от 5 до 25 человек) и находившийся внут-
ри
него Гисэйкан (Высший политический совет, создан в
702 г.). Гисэйкан первоначально состоял из 5 (с 731 г. из 6)
человек, во время правления
Конин
(809-823)
состав Гисэй-
кан
был определен в 8 человек. При этом число родов, деле-
гировавших своих представителей в Дадзёкан и Гисэйкан,
было также крайне ограниченно: Гисэйкан фактически кон-
тролировался всего пятью фамилиями. В законодательстве
этот орган управления отсутствовал. Поэтому администра-
тивные распоряжения оформлялись как указы Дадзёкан
(наиболее важные решения проводились прямыми указами
тэнно).
Чрезвычайно показательно, что тэнно в работе высшего
правительственного органа — Дадзёкан — не участвовал. В
703 г. была учреждена должность
тидайдзё
кандзи
— наблю-
дателя за работой Дадзёкан. Эту должность могли занимать
только принцы крови, выступавшие как представители тэн-
но.
Однако в 745 г. должность тидайдзё кандзи была упразд-
нена,
что было связано, по всей вероятности, с ослаблением
позиций
(сокращением реальных распорядительных полно-
мочий) тэнно. После обсуждения в Дадзёкан проекты реше-
ний
поступали на утверждение к тэнно (хроники приводят
крайне
мало случаев, когда предложения Дадзёкан не были
бы одобрены). В дальнейшем на троне бывали как «сильные»,
так
и
«слабые»
императоры, однако именно тенденция к их
ослаблению составляет основной вектор развития института
верховной власти
48
.
48
Так, Монтоку
(850-858)
даже
после интронизации ни разу не был
в
предназначавшихся императору покоях дворца, пребывая во дворце
наследного принца или же в своей частной резиденции («Иванами
кодза нихон цуси», 1995, т. 5, с. 25). Официальная хроника «Нихон
сандай
дзицуроку»
свидетельствует, что до Монтоку тэнно ежедневно
выслушивал во дворце доклады, начиная же с него эта практика пре-
кратилась (Дзёган,
13-2-14,
870).
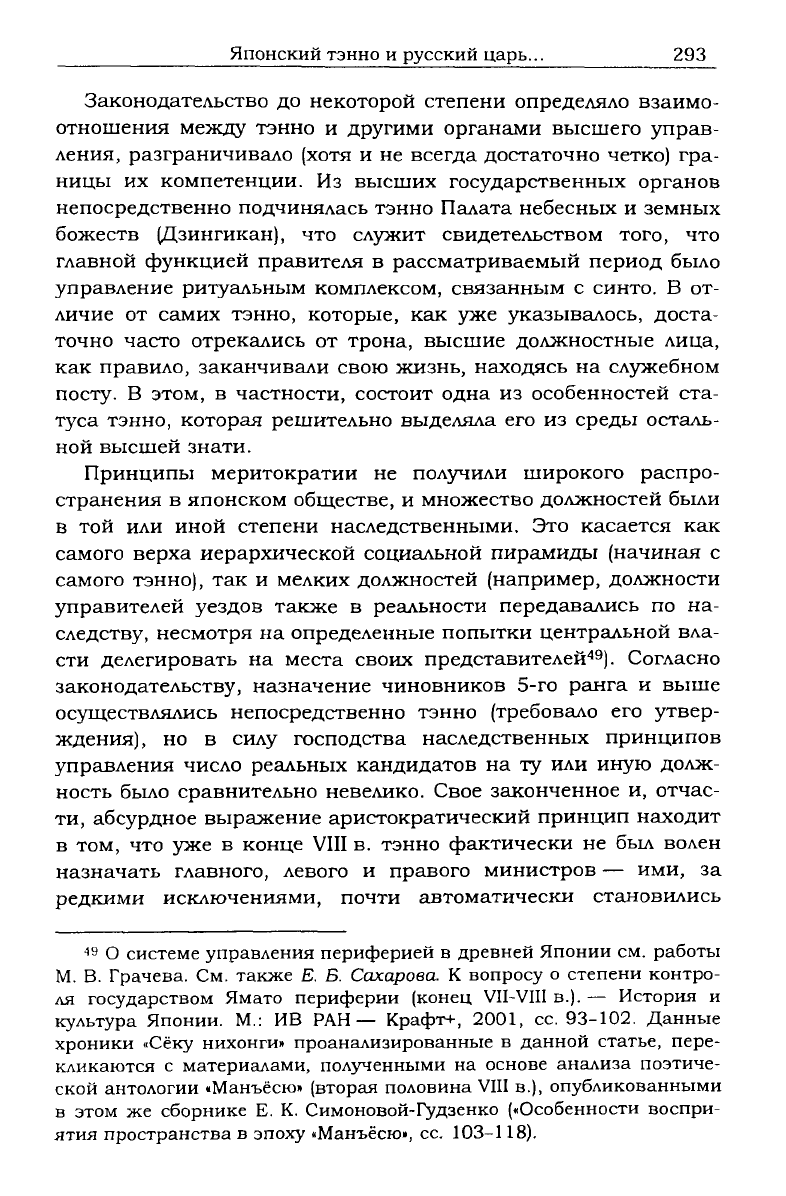
Японский
тэнно и русский царь... 293
Законодательство до некоторой степени определяло взаимо-
отношения
между
тэнно и другими органами высшего управ-
ления,
разграничивало (хотя и не
всегда
достаточно четко) гра-
ницы
их компетенции. Из высших государственных органов
непосредственно подчинялась тэнно Палата небесных и земных
божеств (Дзингикан), что
служит
свидетельством того, что
главной функцией правителя в рассматриваемый период было
управление ритуальным комплексом, связанным с синто. В от-
личие от самих тэнно, которые, как уже указывалось, доста-
точно часто отрекались от трона, высшие должностные лица,
как
правило, заканчивали свою жизнь, находясь на служебном
посту. В этом, в частности, состоит одна из особенностей ста-
туса
тэнно, которая решительно выделяла его из среды осталь-
ной
высшей знати.
Принципы
меритократии не получили широкого распро-
странения
в японском обществе, и множество должностей были
в
той или иной степени наследственными. Это касается как
самого
верха
иерархической социальной пирамиды (начиная с
самого
тэнно),
так и мелких должностей (например, должности
управителей
уездов
также в реальности передавались по на-
следству,
несмотря на определенные попытки центральной вла-
сти делегировать на места своих представителей
49
). Согласно
законодательству, назначение чиновников 5-го ранга и выше
осуществлялись непосредственно тэнно (требовало его утвер-
ждения),
но в силу господства наследственных принципов
управления число реальных кандидатов на ту или иную долж-
ность было сравнительно невелико. Свое законченное и, отчас-
ти,
абсурдное выражение аристократический принцип находит
в
том, что уже в конце VIII в. тэнно фактически не был волен
назначать главного, левого и правого министров — ими, за
редкими исключениями, почти автоматически становились
49
О системе управления периферией в древней Японии см. работы
М. В. Грачева. См. также Е. Б.
Сахарова.
К вопросу о степени контро-
ля
государством
Ямато периферии (конец
VII-VIII
в.). — История и
культура
Японии. М.: ИВ РАН—
Крафт+,
2001, ее.
93-102.
Данные
хроники
«Секу
нихонги» проанализированные в данной статье, пере-
кликаются с материалами, полученными на основе анализа поэтиче-
ской
антологии
«Манъёсю»
(вторая половина VIII в.), опубликованными
в этом же сборнике Е. К. Симоновой-Гудзенко («Особенности воспри-
ятия
пространства в эпоху
«Манъёсю»,
ее.
103-118).
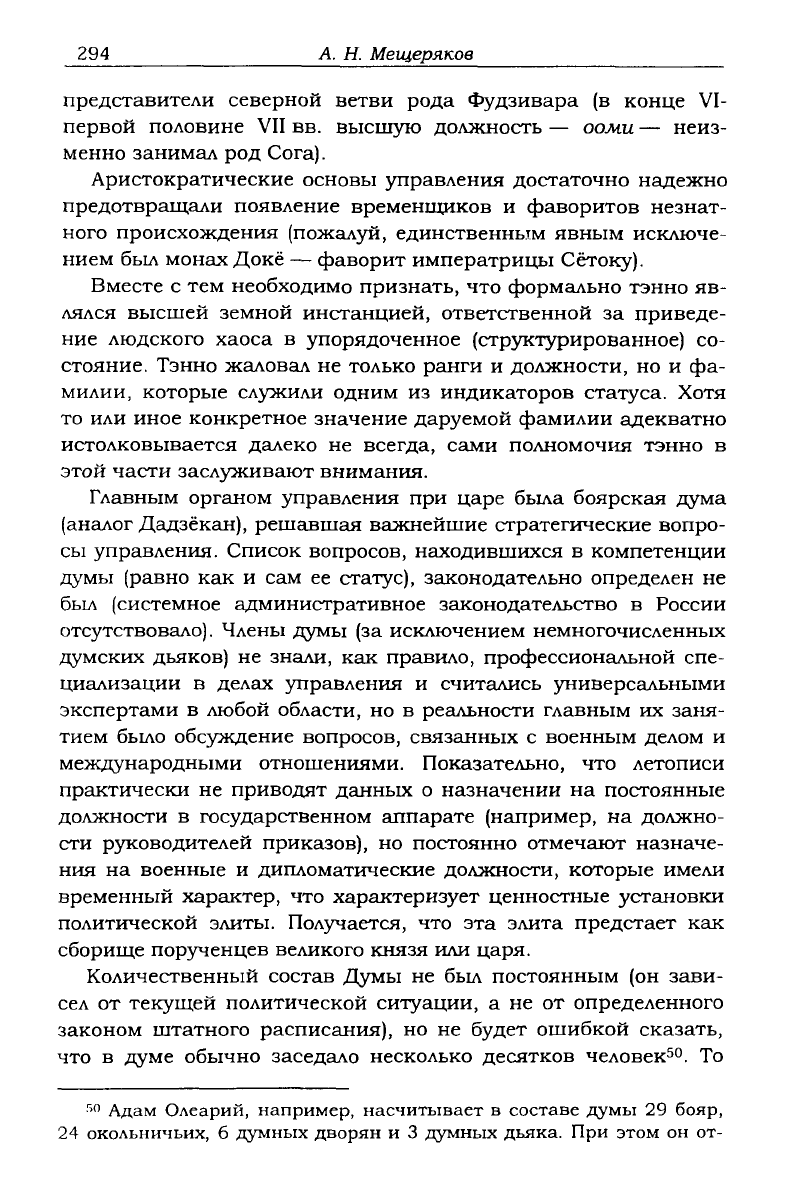
294 А. Н.
Мещеряков
представители северной ветви рода Фудзивара (в конце VI-
первой половине VII вв. высшую должность —
ооми
— неиз-
менно
занимал род Сога).
Аристократические основы управления достаточно надежно
предотвращали появление временщиков и фаворитов незнат-
ного происхождения (пожалуй, единственным явным исключе-
нием
был монах Докё — фаворит императрицы Сётоку).
Вместе с тем необходимо признать, что формально тэнно яв-
лялся
высшей земной инстанцией, ответственной за приведе-
ние
людского
хаоса
в упорядоченное (структурированное) со-
стояние.
Тэнно жаловал не только ранги и должности, но и фа-
милии,
которые служили одним из индикаторов
статуса.
Хотя
то или иное конкретное значение даруемой фамилии адекватно
истолковывается далеко не
всегда,
сами полномочия тэнно в
этой
части заслуживают внимания.
Главным органом управления при царе была боярская
дума
(аналог Дадзёкан), решавшая важнейшие стратегические вопро-
сы управления. Список вопросов, находившихся в компетенции
думы
(равно как и сам ее статус), законодательно определен не
был (системное административное законодательство в России
отсутствовало). Члены
думы
(за исключением немногочисленных
думских дьяков) не знали, как правило, профессиональной спе-
циализации
в
делах
управления и считались универсальными
экспертами в любой области, но в реальности главным их заня-
тием было обсуждение вопросов, связанных с военным делом и
международными отношениями. Показательно, что летописи
практически не приводят данных о назначении на постоянные
должности в государственном аппарате (например, на должно-
сти руководителей приказов), но постоянно отмечают назначе-
ния
на военные и дипломатические должности, которые имели
временный характер, что характеризует ценностные установки
политической элиты. Получается, что эта элита предстает как
сборище порученцев великого
князя
или царя.
Количественный состав Думы не был постоянным (он зави-
сел от текущей политической ситуации, а не от определенного
законом
штатного расписания), но не
будет
ошибкой сказать,
что в
думе
обычно заседало несколько десятков человек
50
. То
50
Адам
Олеарий, например, насчитывает в составе
думы
29 бояр,
24 окольничьих, 6 думных дворян и 3 думных дьяка. При этом он от-
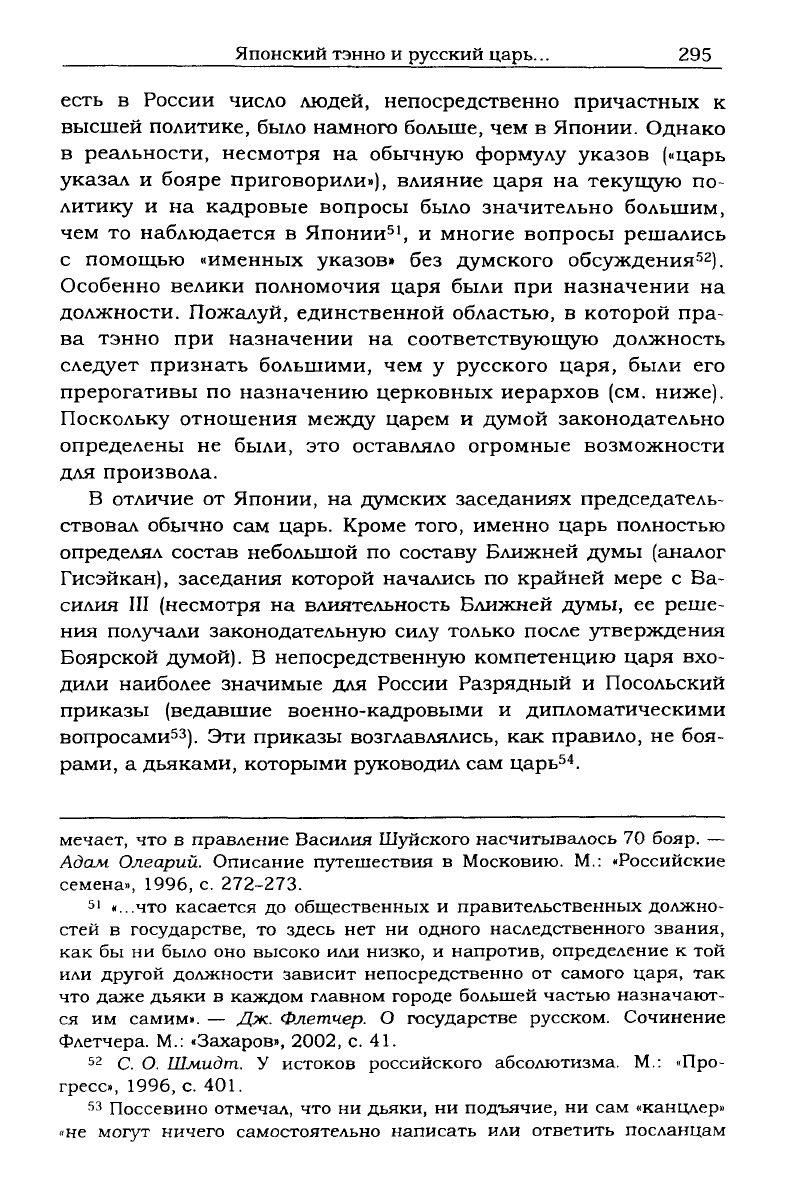
Японский
тэнно
и
русский царь...
295
есть
в
России число людей, непосредственно причастных
к
высшей политике, было намного больше,
чем в
Японии. Однако
в
реальности, несмотря
на
обычную формулу указов («царь
указал
и
бояре приговорили»), влияние царя
на
текущую
по-
литику
и на
кадровые вопросы было значительно большим,
чем
то
наблюдается
в
Японии
51
,
и
многие вопросы решались
с помощью «именных
указов»
без
думского обсуждения
52
).
Особенно велики полномочия царя были
при
назначении
на
должности. Пожалуй, единственной областью,
в
которой
пра-
ва тэнно
при
назначении
на
соответствующую
должность
следует
признать большими,
чем у
русского царя, были
его
прерогативы
по
назначению церковных иерархов
(см.
ниже).
Поскольку отношения
между
царем
и
думой законодательно
определены
не
были,
это
оставляло огромные возможности
для произвола.
В
отличие
от
Японии,
на
думских заседаниях председатель-
ствовал обычно
сам
царь. Кроме того, именно царь полностью
определял состав небольшой
по
составу Близкней
думы
(аналог
Гисэйкан),
заседания которой начались
по
крайней мере
с Ва-
силия
III
(несмотря
на
влиятельность Ближней думы,
ее
реше-
ния
получали законодательную силу только после утверждения
Боярской
думой).
В
непосредственную компетенцию царя
вхо-
дили наиболее значимые
для
России Разрядный
и
Посольский
приказы
(ведавшие военно-кадровыми
и
дипломатическими
вопросами
53
).
Эти
приказы возглавлялись,
как
правило,
не боя-
рами,
а
дьяками, которыми руководил
сам
царь
54
.
мечает, что в правление Василия Шуйского насчитывалось 70 бояр. —
Адам.
Олеарий.
Описание путешествия в Московию. М.: «Российские
семена», 1996, с. 272-273.
51
«...что
касается до общественных и правительственных должно-
стей в государстве, то здесь нет ни одного наследственного звания,
как
бы ни было оно высоко или низко, и напротив, определение к той
или
другой должности зависит непосредственно от самого царя, так
что даже дьяки в каждом главном городе большей частью назначают-
ся
им самим». — Дж.
Флетчер.
О государстве русском. Сочинение
Флетчера. М.:
«Захаров»,
2002,
с. 41.
52
С. О.
Шмидт.
У истоков российского абсолютизма. М.: «Про-
гресс», 1996, с. 401.
53
Поссевино отмечал, что ни дьяки, ни подъячие, ни сам «канцлер»
«не
могут
ничего самостоятельно написать или ответить посланцам
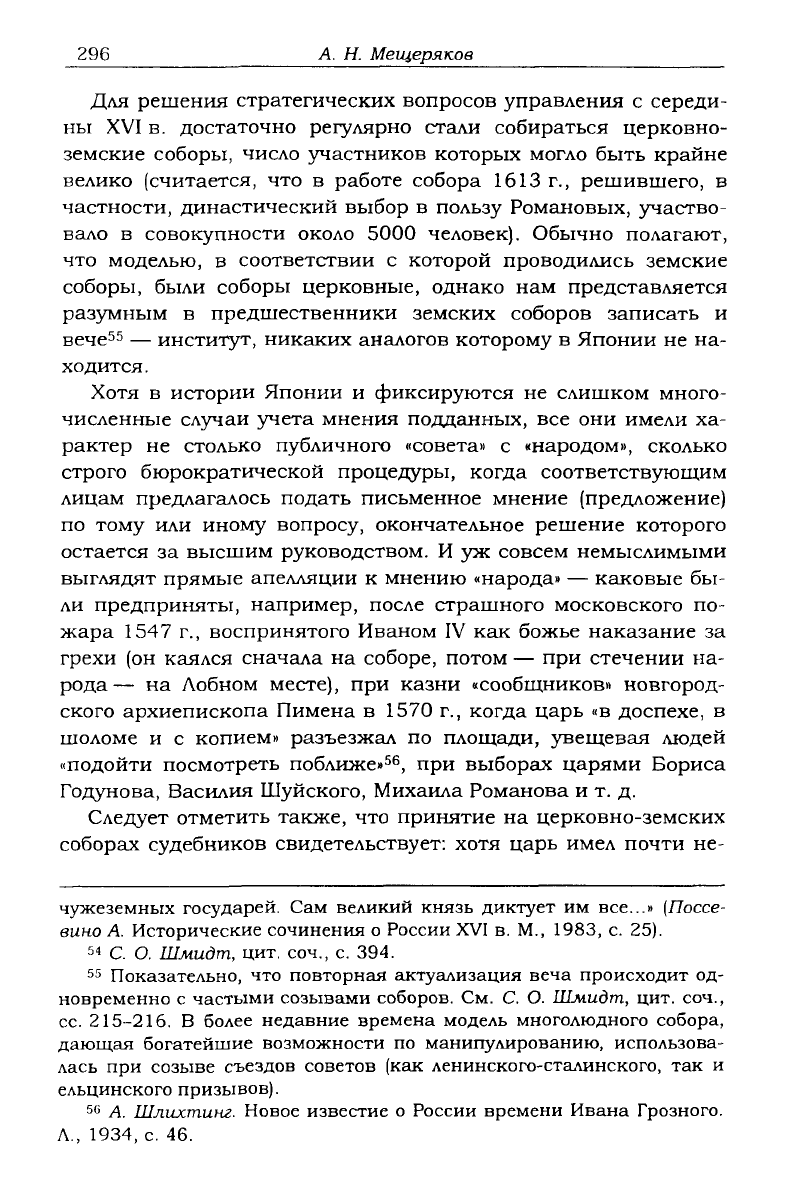
296 А. Н.
Мещеряков
Для решения стратегических вопросов управления
с
середи-
ны
XVI в.
достаточно регулярно стали собираться церковно-
земские соборы, число участников которых могло быть крайне
велико (считается,
что в
работе собора
1613 г.,
решившего,
в
частности, династический выбор
в
пользу Романовых, участво-
вало
в
совокупности около
5000
человек). Обычно полагают,
что моделью,
в
соответствии
с
которой проводились земские
соборы, были соборы церковные, однако
нам
представляется
разумным
в
предшественники земских соборов записать
и
вече
55
—
институт, никаких аналогов которому
в
Японии
не на-
ходится.
Хотя
в
истории Японии
и
фиксируются
не
слишком много-
численные случаи
учета
мнения подданных,
все они
имели
ха-
рактер
не
столько публичного
«совета» с
«народом», сколько
строго бюрократической процедуры, когда соответствующим
лицам предлагалось подать письменное мнение (предложение)
по
тому
или
иному вопросу, окончательное решение которого
остается
за
высшим руководством.
И уж
совсем немыслимыми
выглядят прямые апелляции
к
мнению
«народа» —
каковые
бы-
ли предприняты, например, после страшного московского
по-
жара
1547 г.,
воспринятого Иваном
IV как
божье наказание
за
грехи
(он
каялся сначала
на
соборе, потом
— при
стечении
на-
рода—
на
Лобном месте),
при
казни «сообщников» новгород-
ского архиепископа Пимена
в 1570 г.,
когда царь
«в
доспехе,
в
шоломе
и с
копием» разъезжал
по
площади, увещевая людей
«подойти посмотреть поближе»
56
,
при
выборах царями Бориса
Годунова, Василия Шуйского, Михаила Романова
и т. д.
Следует
отметить также,
что
принятие
на
церковно-земских
соборах судебников
свидетельствует:
хотя царь имел почти
не-
чужеземных государей. Сам великий князь диктует им
все...»
(Поссе-
вино
А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983, с. 25).
54
С. О.
Шмидт,
цит. соч.,
с. 394.
55
Показательно, что повторная актуализация веча происходит од-
новременно
с частыми созывами соборов. См. С. О.
Шмидт,
цит. соч.,
ее.
215-216.
В более недавние времена модель многолюдного собора,
дающая богатейшие возможности по манипулированию, использова-
лась при созыве съездов советов (как ленинского-сталинского, так и
ельцинского призывов).
56
А.
Шлихтинг.
Новое известие о России времени Ивана Грозного.
Л., 1934, с. 46.
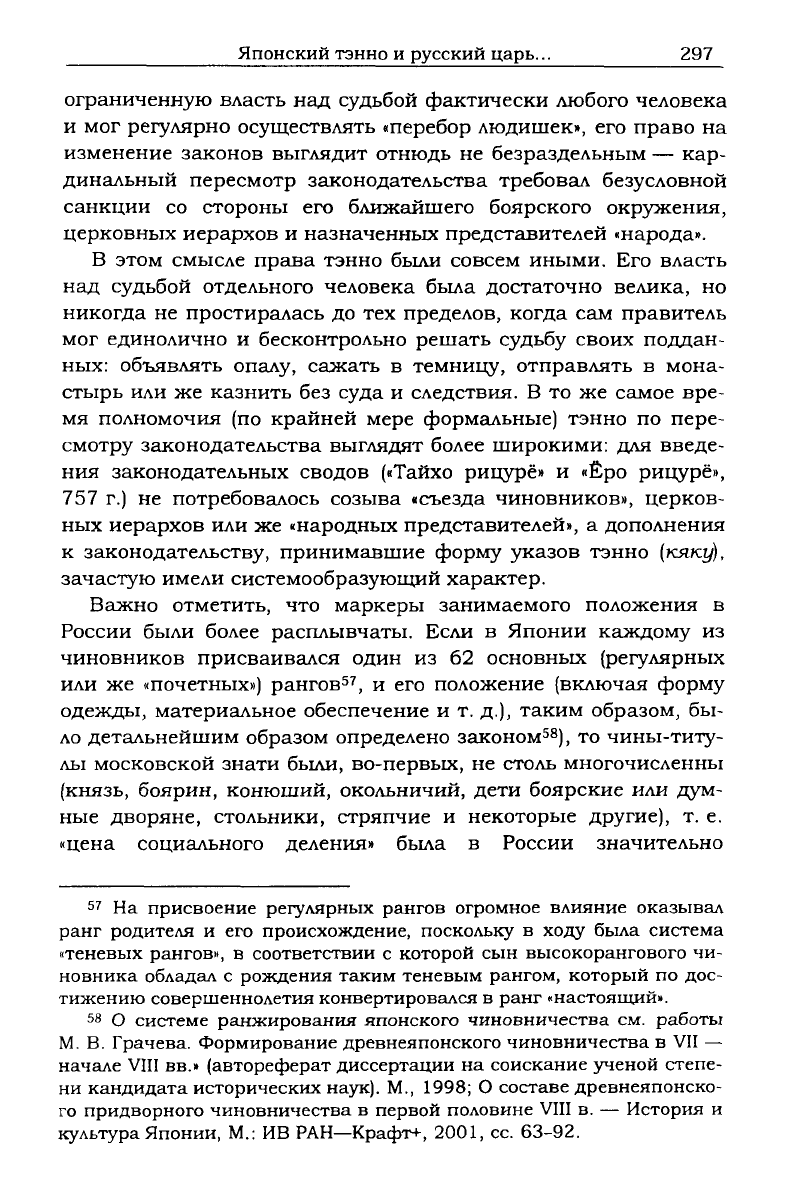
Японский
тэнно и русский царь... 297
ограниченную власть над судьбой фактически любого человека
и
мог регулярно осуществлять «перебор людишек», его право на
изменение
законов выглядит отнюдь не безраздельным — кар-
динальный
пересмотр законодательства требовал безусловной
санкции
со стороны его ближайшего боярского окружения,
церковных иерархов и назначенных представителей
«народа».
В этом смысле права тэнно были совсем иными. Его власть
над судьбой отдельного человека была достаточно велика, но
никогда не простиралась до тех пределов, когда сам правитель
мог единолично и бесконтрольно решать
судьбу
своих поддан-
ных: объявлять опалу, сажать в темницу, отправлять в мона-
стырь или же казнить без
суда
и следствия. В то же самое вре-
мя
полномочия (по крайней мере формальные) тэнно по пере-
смотру законодательства выглядят более широкими: для введе-
ния
законодательных сводов («Тайхо
рицурё»
и «Ёро рицурё»,
757 г.) не потребовалось созыва
«съезда
чиновников», церков-
ных иерархов или же «народных представителей», а дополнения
к
законодательству, принимавшие форму указов тэнно (кяку),
зачастую имели системообразующий характер.
Важно отметить, что маркеры занимаемого положения в
России
были более расплывчаты. Если в Японии каждому из
чиновников
присваивался один из 62 основных (регулярных
или
же
«почетных»)
рангов
57
, и его положение (включая форму
одежды, материальное обеспечение и т. д.), таким образом, бы-
ло детальнейшим образом определено законом
58
), то чины-титу-
лы московской знати были, во-первых, не столь многочисленны
(князь,
боярин, конюший, окольничий, дети боярские или дум-
ные
дворяне, стольники, стряпчие и некоторые другие), т. е.
«цена социального деления» была в России значительно
57
На присвоение регулярных рангов огромное влияние оказывал
ранг
родителя и его происхождение, поскольку в
ходу
была система
«теневых рангов», в соответствии с которой сын высокорангового чи-
новника
обладал с рождения таким теневым рангом, который по дос-
тижению
совершеннолетия конвертировался в ранг «настоящий».
58
О системе ранжирования японского чиновничества см. работы
М.
В. Грачева. Формирование древнеяпонского чиновничества в VII —
начале
VIII вв.» (автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни
кандидата исторических наук). М., 1998; О составе древнеяпонско-
го придворного чиновничества в первой половине VIII в. — История и
культура Японии, М.: ИВ
РАН—Крафт+,
2001, ее. 63-92.
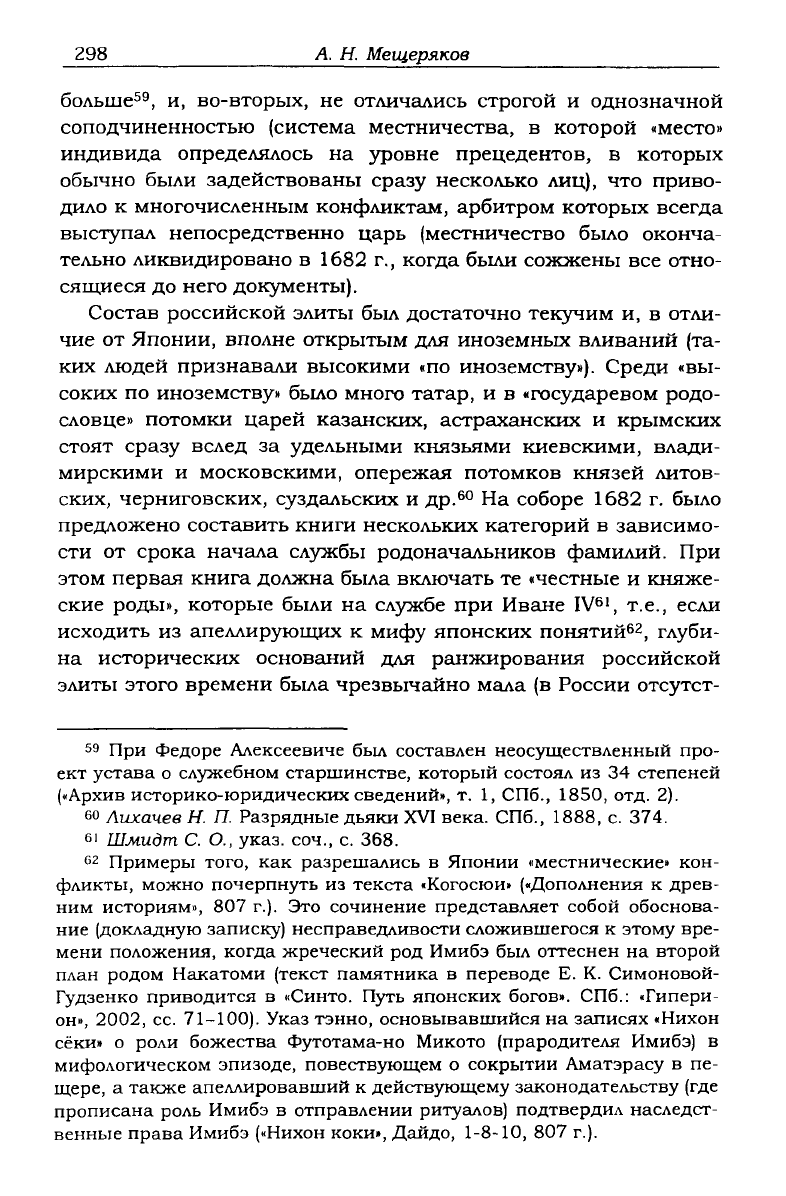
298 А. Н.
Мещеряков
больше
59
,
и,
во-вторых,
не
отличались строгой
и
однозначной
соподчиненностью (система местничества,
в
которой
«место»
индивида определялось
на
уровне прецедентов,
в
которых
обычно были задействованы сразу несколько
лиц), что
приво-
дило
к
многочисленным конфликтам, арбитром которых всегда
выступал непосредственно царь (местничество было оконча-
тельно ликвидировано
в 1682 г.,
когда были сожжены
все
отно-
сящиеся
до
него документы).
Состав российской элиты
был
достаточно текучим
и, в
отли-
чие
от
Японии, вполне открытым
для
иноземных вливаний
(та-
ких людей признавали высокими
«по
иноземству»). Среди
«вы-
соких
по
иноземству» было много татар,
и в
«государевом родо-
словце» потомки царей казанских, астраханских
и
крымских
стоят сразу вслед
за
удельными князьями киевскими, влади-
мирскими
и
московскими, опережая потомков князей литов-
ских, черниговских, суздальских
и
др.
60
На
соборе
1682 г.
было
предложено составить книги нескольких категорий
в
зависимо-
сти
от
срока начала службы родоначальников фамилий.
При
этом первая книга должна была включать
те
«честные
и
княже-
ские
роды», которые были
на
службе
при
Иване
IV
61
, т.е.,
если
исходить
из
апеллирующих
к
мифу японских понятий
62
, глуби-
на
исторических оснований
для
ранжирования российской
элиты этого времени была чрезвычайно мала
(в
России отсутст-
59
При
Федоре Алексеевиче
был
составлен неосуществленный
про-
ект
устава
о
служебном старшинстве, который состоял
из 34
степеней
(«Архив
историко-юридических сведений»,
т. 1,
СПб.,
1850,
отд. 2).
60
Лихачев
Н. П.
Разрядные дьяки
XVI
века. СПб.,
1888,
с. 374.
61
Шмидт
С. О.,
указ.
соч.,
с. 368.
62
Примеры того, как разрешались в Японии «местнические» кон-
фликты,
можно почерпнуть из текста «Когосюи» («Дополнения к древ-
ним
историям», 807 г.). Это сочинение представляет собой обоснова-
ние
(докладную записку) несправедливости сложившегося к этому вре-
мени
положения, когда жреческий род
Имибэ
был оттеснен на второй
план
родом Накатоми (текст памятника в переводе Е. К. Симоновой-
Гудзенко приводится в «Синто. Путь японских богов». СПб.: «Гипери-
он»,
2002,
ее.
71-100).
Указ
тэнно,
основывавшийся на записях «Нихон
секи» о роли божества Футотама-но Микото (прародителя Имибэ) в
мифологическом
эпизоде, повествующем о сокрытии Аматэрасу в пе-
щере,
а также апеллировавший к действующему законодательству (где
прописана
роль
Имибэ
в отправлении ритуалов) подтвердил наследст-
венные
права
Имибэ
(«Нихон коки», Дайдо,
1-8-10,
807 г.).
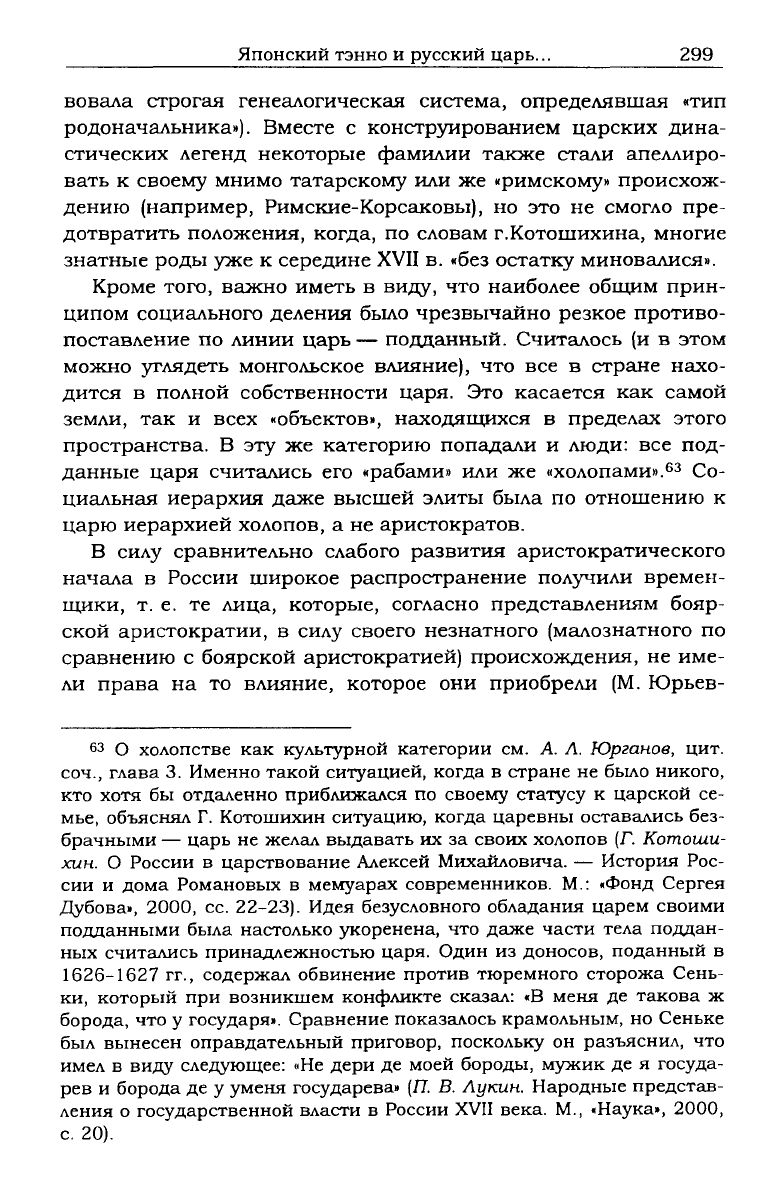
Японский
тэнно и русский царь... 299
вовала строгая генеалогическая система, определявшая «тип
родоначальника»). Вместе с конструированием царских дина-
стических легенд некоторые фамилии также стали апеллиро-
вать к своему мнимо татарскому или же «римскому» происхож-
дению (например, Римские-Корсаковы), но это не смогло пре-
дотвратить положения, когда, по словам г.Котошихина, многие
знатные роды уже к середине
XVII
в.
«без
остатку миновалися».
Кроме
того, важно иметь в виду, что наиболее общим
прин-
ципом
социального деления было чрезвычайно резкое противо-
поставление по линии царь — подданный. Считалось (и в этом
можно углядеть монгольское влияние), что все в стране нахо-
дится в полной собственности царя. Это касается как самой
земли, так и всех «объектов», находящихся в пределах этого
пространства. В эту же категорию попадали и люди: все под-
данные царя считались его
«рабами»
или же «холопами».
63
Со-
циальная
иерархия даже высшей элиты была по отношению к
царю иерархией холопов, а не аристократов.
В силу сравнительно слабого развития аристократического
начала в России широкое распространение получили времен-
щики,
т. е. те лица, которые, согласно представлениям бояр-
ской
аристократии, в силу своего незнатного (малознатного по
сравнению с боярской аристократией) происхождения, не име-
ли права на то влияние, которое они приобрели (М. Юрьев-
63
О холопстве как культурной категории см. А. Л.
Юрганов,
цит.
соч., глава 3. Именно такой ситуацией, когда в стране не было никого,
кто хотя бы отдаленно приближался по своему
статусу
к царской се-
мье, объяснял Г. Котошихин ситуацию, когда царевны оставались без-
брачными — царь не желал выдавать их за своих холопов (Г.
Котоши-
хин. О России в царствование Алексей Михайловича. — История Рос-
сии
и дома Романовых в мемуарах современников. М.: «Фонд Сергея
Дубова»,
2000,
ее. 22-23). Идея безусловного обладания царем своими
подданными была настолько укоренена, что
даже
части тела поддан-
ных считались принадлежностью царя. Один из доносов, поданный в
1626-1627
гг., содержал обвинение против тюремного сторожа Сень-
ки,
который при возникшем конфликте сказал: «В меня де такова ж
борода, что у
государя».
Сравнение показалось крамольным, но Сеньке
был вынесен оправдательный приговор, поскольку он разъяснил, что
имел в виду следующее: «Не дери де моей бороды, мужик де я
госуда-
рев и борода де у уменя
государева»
(Я. В. Лукин. Народные представ-
ления
о государственной власти в России
XVII
века. М., «Наука»,
2000,
с. 20).
