Лотман Ю.М., Живов В.М., Аверинцев С.С., Панченко А.М. и др. Из истории русской культуры. Том IV (XVIII - начало XIX века)
Подождите немного. Документ загружается.

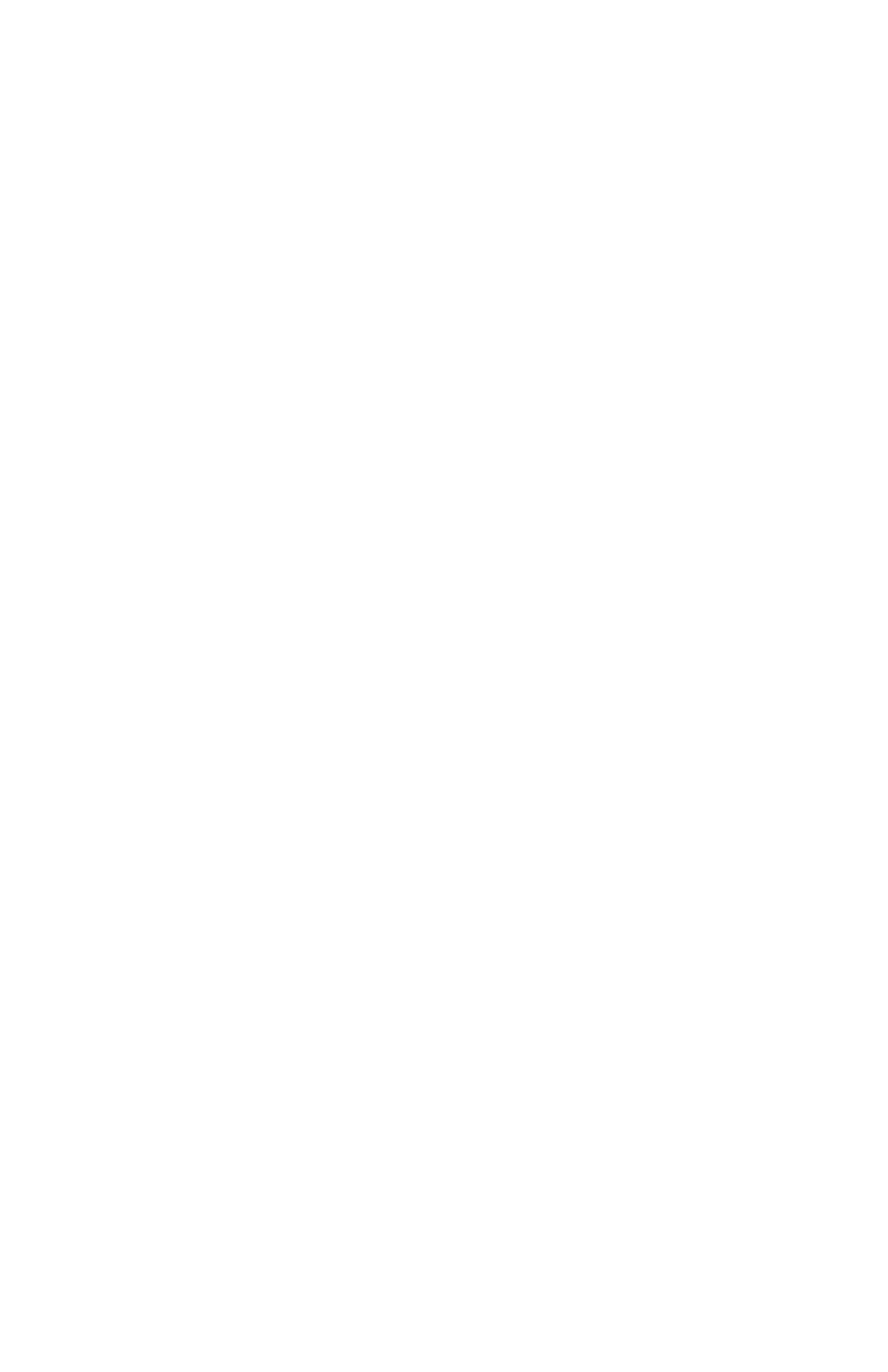
ориентированность на язык
6
.
6
Частным, хотя и выразительным примером этого принципа явилась судьба такой замкнутой и
искусственной семиотической системы, как ордена, в которой, казалось бы, установление стройного и
единообразного порядка не вызывало трудностей. Тем не менее, в XVIII в. в системе орденов и
награждений ими отмечались постоянные изменения и отсутствие единообразия. Павел решил
положить этому конец, утвердив 5 апреля 1797 г. «Установление об орденах» и создав в 1798 г. единый
Капитул российского кавалерского ордена. Но уже в том же году император коренным образом
нарушил и то и другое, введя Мальтийский орден.
6
Термин «язык» употребляется нами в его семиотическом значении как «всякая упорядоченная
знаковая система». Для обозначения общесловарного понятия «язык» (например, в сочетаниях типа
«русский язык») употребляется принятый в семиотической литературе термин «естественный язык». В
равной мере под поня-
439
То или иное явление считается социально/существующим, если ему отводится
определенное место в системе какого-либо языка. Только в условиях культуры, ориен-
тированной на язык, возможно появление текстов типа ироикомических поэм, весь, смысл
которых — в выявлении некоторой нормы средствами текстов, эту норму нарушающих. С
этим же можно сопоставить интерес к лингвистическим аномалиям (речь петиметров в
сатирах, диалектная речь в комедиях Лукина и проч.).
Осознанный интерес к языку, выделение его как некоторой самостоятельной культурной
ценности подразумевает соположение в сознании воспринимающего или в контексте
культуры текстов на разных языках. Такое положение специфично для барокко, и именно
барочные тексты дали толчок сознательной языковой ориентированности культуры.
Достаточно вспомнить такой, например, текст, как портрет Софьи Алексеевны (1680-е
гг.)
7
, чтобы наглядно представить себе, как в пределах одного и того же полотна могут
совмещаться разные типы условности (реалистический портрет соединен с условно-цар-
ской позой, как титул, единый для всех монархов данной страны, соединяется с именем
собственным, обозначающим данного монарха, составляя переменный элемент
константной формулы; обрамление портрета — фигура двуглавого орла, дающая совсем
иную меру условности рисунка и политического символизма, чем — условная сама по
себе — поза на портрете; на крыльях орла — шесть медальонов с аллегорическими
фигурами, которые, с точки зрения степени условности, отличаются от герба иконической
изобразительностью, а от фигуры Софьи — отсутствием портретности; наконец, в текст
тием «текст» мы подразумеваем любое сообщение, выраженное средствами какой-либо знаковой
системы. В этом смысле картина, статуя, балет, отдельный обряд, мундир, украшенный орденами,
парад — будут текстами на различных семиотических языках.
7
Гос. Русский музей в Ленинграде. Ср.: Портрет петровского времени 1973, 116—117.
440
картины включены надписи, переносящие нас в принципиально иную систему семиозиса).
Аналогичный эффект порождался соединением статуи и надписи, стихотворного текста и
фейерверка и проч.
5.2. Однако уже самый факт восприятия барочного текста как не урегулированного
единообразным способом свидетельствовал, что эпоха барокко уходила в прошлое.
Тексты барокко начали восприниматься не как реализация языка барокко, а как
нарушения, негативно утверждающие некий новый язык, который отменит их пестроту и
неупорядоченность. Таким языком стала система правил классицизма. С точки зрения
классицизма, язык — это механизм, который трансформирует неупорядоченные тексты (в
этот разряд попадает и самая жизнь) в тексты упорядоченные. Поскольку при таком
подходе самый акт творчества мыслился как преображение мира неправильного в мир
правильный, т. е. наделялся активным признаком деятельности с отчетливыми чертами
утопизма, выработка языка возводилась в ранг высшего разряда творчества: написать
идеальные правила для поэтического творчества значило неизмеримо большее, чем
написать поэтический текст, сочинить законы (пусть даже «мечтательного» государства)
— означало осчастливить человечество.
Однако в силу отмеченного выше сложного соотношения между «грамматиками» языков

культуры и ее текстами, прокламированные правила не употреблялись для порождения
текстов искусства (хотя к ним и обращались при суждениях об уже созданных текстах), а
реальные тексты строились не как реализация правила, а по аналогии с другими текстами,
закрепленными традицией. «Следование образцу» порождает реальный текст, а «сле-
дование правилам» — того идеального двойника, на фоне которого он оценивается.
Антиномия между языком и текстом — одно из основных структурных противоречий
культуры XVIII века.
441
6. При столь высокой значимости антиномии языка и текста, естественно, большое
значение -приобретали ценностные характеристики высокого и низкого. Именно с их
помощью культурное двуязычие приобретало характер единства, позволяющий видеть
в культуре XVIII века не механическую сумму контрастов, а органическое целое, и
культурный полиглотизм эпохи складывался не как сумма, а как иерархия языков. Но
и каждый язык культуры, кроме места в общей иерархии, имел внутреннюю структуру
— свой мир норм и текстов, свое «высокое» и «низкое». Так, например, когда
устойчивая для русской национальной культуры схема двуязычия перестроилась в
лингвистической сфере в XVIII в. в связи с заменой славянско-русского двуязычия
русско-французским, произошли качественные сдвиги внутри самой системы. В
средневековой русской культуре церковнославянский язык мог быть только высоким и
книжным, а низкая сфера устного общения могла обслуживаться лишь русским
языком (из того, что устная речь могла быть только русской, ни логически, ни
исторически не вытекало невозможности проникновения русского языка в
определенные области книжности). В русской культуре XVIII в. сложилась иная
ситуация: после реформы Ломоносова в пределах письменного русского языка
сложились высокий и низкий стили (не говоря уж о том, что письменный язык в
целом, по отношению к устному, выступал как высокий), однако и французский язык
русского дворянства второй половины столетия мог выступать в двух разновидностях:
нормированном письменном языке высокой культуры и устном «диалекте российских
пари-жанцев». В «Переписке Моды» Н. Страхова содержится сатирическое письмо
«От иностранных учителей к Моде», в котором читаем: «...Абясюись ми ушить ла
грамер [...] адинака рассудить сам, как мошна вздумить на колова и паверить сто ми
мошим ушить ла грамер ни знай сам кромь балдаить». Обученный такими учителями
«коспод-ска дитка тольк сто балдаить и балдаить» (Переписка
442
Моды 1791, 161—162). В результате оказались возможными разнообразные
комбинации: высокого русского книжного языка с низким французским просторечием,
высокого французского языка книжной культуры с разговорной русской речью.
Реально складывались и более сложные парадигмы, например, такие, в которых клетка
высокого языка культуры допускала в себе и русский и французский, закрепляя за
каждым из них определенные идеолого-жанровые пространства и, следовательно,
сводя их функционально к стилям одного языка
8
. В то же время и в клетку «низких
ценностей» могли допускаться одновременно и русская, и французская бытовая речь.
В этом случае возникала тенденция не к функционально-стилистической
разграниченности, а к смешению — возникал «модный словарь щегольского наречия»
(Новиков), «смесь языков — французского с нижегородским» (Грибоедов).
7. Оппозиция «свое — чужое», которая реализуется в русской культуре XVIII в. как
противопоставление «Россия — Запад», наряду с антиномией «высокое — низкое»
является одной из основных конструктивных
8
Приведем любопытный пример из Л. Н. Толстого («Детство»): «На Никитском бульваре было
довольно народа, т. е. хорошо одетых господ и барынь. Я заметил, что Валахина на Никитском
бульваре шла тише и стала говорить по-французски; когда же мы перешли площадь и взошли на

Тверской, она стала грассировать и называть свою дочь не „Машенька", как она ее называла на
Пречистенском, не Marie, как она называла на Никитском, а „Марии"» (Толстой I, 193). Пример
интересен не только как показатель одновременного перемещения в социально отмеченных
пространствах и по иерархии языков, но и тем, что сначала «правильная» форма письменной
французской речи противопоставляется устной русской (одновременно, французская речь — речь
взрослых, а русская — «Машенька» — детская), но затем небрежно-устный вариант французской
речи противопоставляется письменному языку как еще более высокая ценность. То, что Толстой
переходит в этом случае на русскую графику, которая здесь адекватна фонетической транс-
крипции, закрепляет сознательность такого противопоставления для автора.
443
черт ее как целого. При этом данная оппозиция входит как существенный компонент во
внутреннюю структуру русской культуры XVIII в. Если мы дальше будем говорить о
проникновении в нее текстов извне, то основой и фоном для такого проникновения
является присущая ей и ею созданная внутренняя концепция Запада и его цивилизации.
7.1. Секуляризация общественных идеалов, ставшая характерной чертой послепетровской
культуры, и замена сакральных ценностей идеалом «регулярности» имела одно
существенное следствие: поскольку идеал этот был заемным по природе и рассматривался
как конечная цель земной деятельности правительства в России, образец также должен
был получить пространственно-земное закрепление. Идеал был вынесен в «чужое»,
европейское пространство, которое стало рассматриваться не как реальная политико-
географическая зона, а в качестве идеального эталона «правильной» жизни. Это
порождало устойчивую тенденцию оценивать русскую реальность с этой идеальной
внешней точки зрения. С другой стороны, почти в течение всего XVIII в. путешествия на
Запад были не только свободными, но и поощрялись. Русские люди часто и подолгу
бывали за границей. Несоответствие реальной западной жизни утопическому идеалу
«правильности», мифу русского XVIII в. о Западе, воспринималось одними как личное
оскорбление, другими как общественная трагедия. Напомним характерный эпизод: Петр I
во время Великого посольства прибыл в Голландию учиться кораблестроению. В
Амстердаме Ост-Индская компания специально заложила фрегат «Апостолы Петр и
Павел» для того, чтобы царь смог лично участвовать во всех стадиях его строительства. И
все.же Петр оставался глубоко разочарованным. Дело в том, что в ходе строительства он
обнаружил, что голландцы строят свои корабли, руководствуясь навыками, а не теорией.
Разнообразные строительные навыки, вероятно, можно было получить и в
444
России, но навыки, даже если они приводили к практически хорошим результатам,
мыслились как нечто низшее, царь требовал от «иностранных учителей» «ушить ла
грамер» корабельного дела. Вот как он сам рассказал об этом в предисловии к «Морскому
регламенту»: «На Ост-Индской верфи, вдав себя с прочими волонтерами в научение
корабельной архитектуры, государь в краткое время совершился в том, что подобало
доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на
воду спустил.
Потом просил той верфи баса Яна Поля, дабы учил его препорции корабельной, который
ему чрез четыре дня показал. Но понеже в Голландии нет на сие мастерство совершенства
геометрическим образом, но точию некоторые принципии, прочее ж с долговременной
практики, о чем и вышереченный бас сказал, и что всего на чертеже показать не умеет,
тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого
конца не достиг».
Далее сообщается, что Петр был «гораздо невесел ради вышеписанной причины» и
утешился, лишь узнав, что «в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие, и
что кратким временем научиться мочно» (Богословский II, 272—273).
С этим связано отношение к Западу не как к определенной политико-географической
реальности, а как к утверждаемому или ниспровергаемому идеалу. Страстность такого
утверждения или отвержения определялась тем, что фактически речь шла не о реальном

Западе, а о некоторой ценностной характеристике внутри русской культуры (всякая
культура моделирует свою высшую ценностную ступень как ей внеположенную; так, план
готического храма моделирует взгляд на него извне — сверху, взгляд Бога).
7.2. Такое отношение, собственно говоря, к реальному географическому понятию, как к
понятию идеально-
445
му, было перенесением в новые условия традиционного соотношения Русь-Византия. С
этой традицией связана отчетливая сакрализация того понятия, которое создавалось в
культуре XVIII столетия именно как противовес средневеко-во-сакральным ценностям.
Одновременно нельзя не подчеркнуть, что именно возможность такой параллели позво-
ляла осмыслить новый идеал на языке старой культуры: ведь в древнерусской традиции
понятие запада как стороны света имело совершенно определенную характеристику: на
западе помещается ад, в «Хождении Богородицы по мукам» архангел Михаил ее
спрашивает: «Куды хощеши, благодатная, [...] на восток или на запад, или в рай, на десно,
или на лево, идеже суть великия муки» (Памятники старинной русской литературы 1862,
122). Новая культура сознательно противопоставляет себя старой, и в результате этого
плюс и минус поменялись местами — при сохранении самой системы оппозиций.
Естественно, что в перспективе традиционного мировоззрения эта новая культура могла
восприниматься как сатанинская.
8. Глубокая антиномичность русской культуры XVIII века была одним из факторов,
обусловивших ускоренный темп ее развития. Внутреннее напряжение между отдельными
семиотическими языками культуры, напряжение между культурой России как целым и ее
европейским контекстом были предпосылками стремительности темпа развития — одной
из основных черт интересующего нас аспекта русской культуры XVIII в.
Литература
Барсков Я. Л. Проекты военных реформ цесаревича Павла // Русский исторический журнал. Пг.,
1917. № 3.
Белинский В. Г. I—XIII. Полное собрание сочинений. М., 1953—1959.
Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952.
Богословский М. М. I—V. Петр I. В пяти томах. М.; Л., 1940—1948.
Буживский. Проповеди Гавриила Бужинского (1717—1727). Историко-литературный материал из
эпохи преобразований. Юрьев, 1901.
Гоголь Н. В. I—XIV. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1937—1952.
Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века // Вопросы поэтики. Л., 1927. Вып. X.
Гуковский Г. А. За изучение восемнадцатого века // Литературное наследство. М., 1933. Т. 9/10.
Екатерина И. Соч.: В двенадцати томах. СПб., 1901—1907.
Заозерский А. И. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. Пг., 1917.
Мирский Д. О некоторых вопросах изучения русской литературы XVIII века // Литературное
наследство. М., 1933. Т. 9/10.
Семнадцатый век I—IV. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым: В четырех
книгах. М., 1868—1869.
Павленко Н. И. Идеи абсолютизма в законодательстве XVIII в. // Абсолютизм в России (XVII—
XVIII вв.). М., 1964.
Переписка Моды. Переписка Моды, содержащая письма без-„ руких мод, размышления
неодушевленных нарядов, разговоры бессловесных чепцов, чувствования мебелей, карет,
записных книжек, пуговиц старозаветных манек, кунташей, шлафоров, телогрей и пр.
Нравственное и критическое со-
447
чинение, в коем с истиной стороны открыты нравы, образы жизни и разные смешные и важные
сцены модного века. М., 1791.
Портрет петровского времени. Портрет петровского времени. Каталог выставки. Л., 1973.
ПСРЛ. Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862. Вып. III.
Пушкин А. С. I—XVI. Полное собрание сочинений. Л., 1937—1959.
Растопчин Ф. В. Сочинения. СПб, 1853.
Толстой Л. Н. I—XXII. Собрание сочинений: В двадцати двух томах. М., 1978—1985.

Щедрин Н. I—VII. Избранные сочинения: В семи томах. М., 1939.
Geyer D. Peter und St. Petersburg // JahrUcher fUr Geschichte Ostemepas. Wiesbaden, 1962. B. 10. H. 2.
В. М. Живов, Б. А. Успенский
МЕТАМОРФОЗЫ АНТИЧНОГО ЯЗЫЧЕСТВА
В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
XVII—XVIII ВЕКА
Рецепция античной мифологии была неодинаковой на разных этапах истории русской
культуры. Более того, характер этой рецепции может выступать как семиотически
важный показатель культурной ориентации, присущей тому или иному периоду; в
рамках же одного периода отношение к античной мифологии нередко оказывается тем
моментом, в котором кристаллизуется конфликт антагонистических идеологий. Чтобы
понять специфику русской рецепции античной культуры (мифологии), необходимо в
самых общих чертах охарактеризовать те культурные традиции, из которых Россия
заимствовала сведения об античности.
1. Античное язычество может рассматриваться по-разному: или как форма культуры,
или как народная религия, родственная верованиям других индо-европей-ских —
варварских — народов. Для какой-то части греческого и римского населения
язычество, вероятно, оставалось такой «первобытной» религией вплоть до того вре-
мени, когда оно было окончательно вытеснено христианством. Вместе с тем
несомненно, что к началу христианской эпохи язычество для широкой культурной
элиты было уже не столько верой, сколько способом культурного мышления, набором
привычных образов и ассоциаций, необходимых для выражения философских и
эстетических переживаний. В поздней античности вырабатываются различные
способы интерпретации мифологии, при которых она теряет функции религиозного
языка и стано-
450
вится вместе с тем языком культуры. Известны три направления, по которым пошла здесь
античная мысль: интерпретация эв.гемерическая, астрологическая и морально-
аллегорическая. Язычество стало культурой — можно думать, что именно этим
определяется характер рецепции языческой мифологии при формировании позднейшей
европейской цивилизации (ср.: Seznec 1961, 4 ел.).
Эта рецепция была обусловлена целым рядом моментов. Она связана так или иначе с
распространением в III в. христианства в культурной элите, т. е. в той части общества, в
которой мифология потеряла религиозное значение, продолжая оставаться языком
культуры. В результате античная мифология перестает осознаваться как нечто целиком
враждебное и чуждое.
Отсюда, в частности, достаточно рано возникает стремление легитимировать этот
культурный язык в рамках христианской традиции, т. е. дать античной мифологии
христианскую интерпретацию. Уже Иустин в своих Апологиях говорит о том, что эллины
не были полностью лишены света истины, хотя и воспринимали ее в искаженном виде. По
его словам, Гомер и Платон заимствовали у Моисея, и демоны сообщали поэтам истины
откровения, облекая их в баснословие и тем самым подрывая в них веру. Например, миф о
Персее оказывается искажением пророчества Исайи (VII, 14) о Деве, которая при-имет во
чреве и родит Сына (см. Иустин I Апология, XXII, XIV — PG, VI, стлб. 361, 408—409;
Danielow, 1961, 45—49)
1
. У Климента Александрийского это приводит к

451
полному и последовательному смешению христианских и языческих элементов — на
античную мифологию распространяется типологический (прообразовательный) метод
библейской экзегетики (см. о нем: Lampe, Woollcombe 1957; Hanson 1959; Lubak 1959), так
что греческие мифы оказываются таким же предызображением (тбткх;) христианской
истории, как и повествования Ветхого Завета. Например, Одиссей, прикованный к мачте с
замкнутыми ушами, когда он проплывает мимо сирен, так же предызображает Христа на
кресте, отвергнувшегося от мира, как Его предызображает Моисей, когда Аарон и Ор
поддерживают ему руки (см. Климент Александрийский-, Cohortatio ad Gen-tes, XII— PG,
8, стлб. 240 А; ср. Rahner 1942; о возникающих в этой связи традициях и об их отражении
в европейской живописи ср.: Schapiro, 1973). Подобное же смешение христианских и
языческих элементов отразилось и в раннехристианском искусстве — например, на
фреске Виале Мадзцони, где пришествие Христа представлено в виде триумфального
въезда в город Геркулеса (см. Саг-copino 1956, 192; ср. об этой проблеме: Панофски, 1962,
19—20). Ж. Даниелу (Danielou 1961, 73) показал, что в основе подобных сопоставлений
лежит аллегорическая интерпретация античной мифологии, принятая у поздних
платоников (например, Максима Тирского; о соотношении платонических и
патристических методов интерпретации см.: Coulter 1976, 28). Это существенно для нас,
поскольку демонстрирует зависимость рецепции языческих
[«Те, которые преподают вымыслы поэтов, не представляют учащимся юношам никаких
доказательств, но, по нашему мнению, все это было рассказано для обмана и развращения рода
человеческого, действием злых демонов. Они, услышав предсказания пророков о том, что придет
Христос и что люди нечестивые мучимы будут огнем, стали убеждать, что многие назывались
сыновьями Зевса, и думали, что добьются этим, чтобы люди сказания о Христе принимали за
чудесные сказки, подобные тем, которые сообщали поэты... А когда услышали от другого пророка,
Исайи, что Христос родится от Девы и Сам Собою вознесется на небо, то же самое сказали о Пер-
сее»] (I Апология, LIV — PG, VI, стлб. 408—409).
452
элементов в христианской культуре от трансформации самих этих элементов из атрибутов
религии в атрибуты культуры.
Такое освоение мифологии укладывается в рамки сознательной миссионерской практики
церкви, которая всегда стремилась, так сказать, воцерковить языческие традиции,
приспособиться к старым формам, придав им новое содержание. Подобно тому, как
христианские церкви ставились на месте языческих капищ, как христианские праздники
были приурочены к языческому календарю (ср. Болотов 1892); как языческие обряды и
представления могли осваиваться христианским культом (ср. Ап-rich 1894; Prtimm 1935;
Rahner 1957), — так и языческая мифология могла сознательно перерабатываться в
элементы христианской церковной культуры. Это — общая тенденция христианской
церкви в ее миссионерской работе, сложившаяся еще во времена раннего христианства и
продолжавшаяся затем по мере возникновения аналогичных ситуаций (ср. о подобном
процессе в древней Руси: Us-penskij 1978; Успенский 1982).
Рецепция античной культуры определенным образом связана и с характером образования.
В согласии с традицией образование — как в Византии, так и на Западе — было

ориентировано на чтение и комментирование классических авторов. Соответственно,
вместе с образованием неизбежно усваивалась и античная мифология в качестве
необходимого элемента красноречия. Первоначально это обусловливает призывы к
христианам вообще отказаться от нечестивой школы или, по крайней мере, от препода-
вания в ней (Тертуллиан, отчасти Августин — см. Буасье 1892, 134—147), позднее — к
призывам очистить образование от языческих суеверий (Григорий Великий — см. PL, 77,
стлб. 1171; Sporl 1935; Гуревич, 1981, 35—36). Школьная традиция, однако, оказывается
сильней, и античная мифология прочно занимает место одного из глав-
453
ных риторических украшений
2
. В IX в. Седулий Скот, описывая церковь, совершенно
спокойно говорит о том, как Феб озаряет хранилище святых мощей, и уже, видимо, не
чувствует при этом никакой гетерогенности сопо-лагаемых элементов (см. Traube 1886,
207)
3
. И это направление рецепции античной мифологии очевидным образом
2
В процессе борьбы с традициями античного образования делается ряд попыток создать замену
классическим текстам (Гомера, Вергилия, Горация), изучение которых было неотъемлемой частью
школьной программы. С начала IV в. появляется целый ряд сочинений, представляющих собой
пересказ библейских книг в форме героического эпоса (Ювенк, Аполлинарий и т. д. — см. Ebert
I,
144 ел.; Буасье, 1892, 137 ел.). Однако эти попытки сочетать христианское содержание с
классической формой неизбежно приводят к появлению в христианском культурном контексте
штампов античного культурного мышления (типа наименования Бога «summus tonans»), т. е. к
смешению христианских и языческих элементов. Уже на этом примере видно, что в данной борьбе
победа остается за античными традициями: пуристические установки относятся исключительно к
содержанию, но для нового (христианского) содержания не находится новой формы.
3
Вот эти стихи Седулия Скота:
De quadam Ecclesia
Наес domus est domini vitreis oculata fenestris,
Quam Phebus lustrat radiis et crino sereno.
Nam quintus decimus Mail sacrata kalendis
Albicat in specie, picto micat ipsa decore.
Haec in honore nitet Petri Paulique coruscans, Virginis et Mariae hanc sacrum nomen honestat Aedum lucifluam sparse ceu (lore
refertam. Sanctorum relliquusque chorus haec tecta sacravit.
[Об одной церкви
Просвещено жилище сие зрением окон стеклянных,
Феб озаряет его сиянием чистых лучей.
Вправду, день пятнадцатый мая священной календой
Строй убеляет его, искрится самой красотой.
Павла в честь и Петра храм, сверкая, мерцает,
Имя святое Девы Марии сей храм украшает и светом
Пестро и пышно его заливает, святые,
В сонме своем пребывая, освящают это жилище.]
Аналогичные случаи смешения христианского и языческого имеются у Седулия и в других стихах (см.
Traube 1886, 169, 221, 222 и т. д.). Об аналогичных примерах у других поэтов см., например, Raby 1957, 184
ел.
454
обусловлено ее функционированием как культурного языка, а не как религиозной
системы.
Наряду с восприятием язычества как культуры, определившим его положительную
рецепцию, постоянно могло актуализироваться (отчасти это видно из уже при-
веденных примеров) и восприятие античной мифологии в религиозных терминах (как
язычества), что, естественно, обусловливало отрицательное к ней отношение. Таким
образом, всегда оказывается возможным двоякое восприятие мифологического имени:
в одном случае оно выступает как аллегория, в другом — как имя в своем прямом и
непосредственном значении (т. е. как имя собственное). Религиозная актуализация
мифологии может возникать в разных культурных контекстах и совсем не обязательно
сводится к клерикальной реакции. Парадоксальным образом, в то время как церковь
может смотреть на античную мифологию как на элемент культуры, культура в оп-

ределенные моменты своего развития может отвергать мифологию как проявление
язычества.
Так, в частности, обстоит дело с классицизмом, что определенным образом связано с
моралистической и нор-мализаторской установкой этого культурного движения
4
.
4
О том отношении к античному язычеству, на фоне которого в начале XVII в. развивается
классицистическое движение, в какой-то мере может сжидетельствовать судебный процесс над
Теофилем де Вио. Поэту ставилось в вину, что он, хуля в своей поэзии языческих богов, в
действительности кощунствует против истинного Бога: «Lui avons demonstre qu'ensuitte de ses
fondementz il tesmoigne partout son livre un mepris de Dieux contre leguel soubz couleur d'une Usance
poetique et soubz un nombre pluriel de dieux il vomit des blasphemes execrables et prefere ces
brutallitezalagloyreduparadys» [«Ему было показано, что в силу своих убеждений он проявляет во всей
своей книге презрение к Богу, против которого, под видом поэтической вольности, прикрываясь
множественным числом богов, он изрыгает гнусные кощунства и предпочитает это скотство райскому
блаженству»] (Lachevre I, 378). Парижский парламент мог иметь в виду стихи, в которых Теофиль
говорит о жестокости, несправедливости или коварстве богов, противопоставляя им благосклонность
возлюбленной, ср., например:
455
Les hommes et les Dieux menassent ma fortune;
Mais, en leur cruaute. Pour mon soulas tout ce que j" importune
Ce n'est que ta heaute
[«Люди и боги угрожают моему счастью, но, несмотря на их жестокость, единственное, что к моему
утешению удручает меня — это твоя красота»]
(Viau I, 192) или
Аи lieu de penser a nos Dieux J'adorois, vous voyant, Г image de Diane, Et m'estimois heureux de devenir profane
En me consacrant a vos yeux.
[«Вместо того чтобы думать о наших богах, я поклоняюсь, видя вас, образу Дианы, и мне кажется счастьем
сделаться язычником, посвятив себя вашим глазам»]
(там же, I, 214)
Хотя Теофиль и говорит здесь о богах во множественном числе, т. е. о богах языческих, в контексте общей
антиклерикальной позиции либертинистов эти протесты могут восприниматься как протесты против Бога
вообще.
Отметим, что для Теофиля в принципе характерен протест против мифологических образов в поэзии. Этот
протест явно связан у него с борьбой против условностей школьной поэтики и ученого стихотворства (ср.
Floeck 1979, 282—295). Так, в «Fragments d'une his-toire comique», в которой он, в частности, осуждает
Ронсара как педанта, он говорит: «II faut escrire a la moderne; Demothene et Virgille n'ont point escrit en nostre
temps, et nous ne scaurions escrire en leur siecle; leur livres, quand ils les firent, estoient nouveaux, et nous en
faisons tous les joure de vieux. L'in vocation des Muses & I'exemple de ces payens est profane pour nous et
ridicule» [«Нужно писать по-новому. Демосфен и Вергилий не писали в наше время, и мы бы не знали, как
писать в их эпоху; их творения, когда они создавались, были новыми, а мы постоянно делаем из них старые.
Призывание муз по примеру этих язычников для нас нечестиво и смешно»] (Viau 11, 12). Подобные
протесты встречаются у него и в других произведениях (см. Viau 1, 217; Viau И, 194). Можно думать, что
для либертинистов подобный протест составлял единое целое с их антиклерикальной позицией: и то и
другое было борьбой с ограничениями традиционной культуры. Напротив, для противников либертинажа
мифологические образы включались в традиционную культуру и — посредством аллегорической
интерпретации — прямо связывались с моральной догмой: если Диана обозначала целомудрие, то
ниспровержение Дианы было равносильно призыву к разврату. Как видим, и в том и в другом случае
античная мифология становилась показателем религиозно-культурной ориентации.
456
Классицизм имеет особое значение для нашей темы, поскольку эпоха становления
классицизма вплотную примыкает к тому времени, когда в России происходит ин-
тенсивное и непосредственное усвоение европейских идей. Классицизм выдвигает
положение о недопустимости смешения христианских и языческих элементов. Мотиви-
рующими факторами были здесь, несомненно, общие классицистические принципы
правдоподобия и благопристойности, однако актуальными оказывались и собственно
религиозные аргументы.
С полной отчетливостью интересующий нас классицистический тезис был высказан в
полемике Геза де Бальзака с Геинзиусом, поводом для которой послужила драма
Геинзиуса «Ирод детоубийца». Бальзак, в частности, упрекает Геинзиуса за то, что Ирод
говорит у него о Ахероне, Стиксе, Бахусе, о керах, что наряду с ангелом в прологе у него

появляется Тизифона, причем Бальзака шокирует не то, что «наполовину иудеем и
наполовину язычником» оказывается Ирод, но что таковым оказывается «христианский
поэт». «При появлении этого света [христианского учения], — пишет Бальзак, —
скрылись все призраки язычества, и не следует возвращать их обратно». Смешение
«извращает всю нашу веру», причем «когда от него не страдает благочестие, тогда
наносится ущерб благопристойности (bienseance)» (Balzac 1658, 112— 118)
5
. Характерно,
что Геинзиус, отвечая Бальзаку, ссы-
5
Приведем лишь отдельные, наиболее красноречивые высказывания Бальзака. Он пишет: «Je ne m'estonne
pas qu'Herodes paroisse demy Joif, & demy Payen: Je m'estonnerois seulement, si un Poete Chrestien parassoit tel.
Je me persuaderois aueque peine qu'un homme constant pust estre de deux Partis, & porter les couleurs de divers
Maistres. Cette Nouveaute", 4 dire vray, me semble un peu dure, & je ne puis m'imaginer, sans gesner mon
imagination, que dans un Poeme, ou un Ange ouvre le Theatre, & fait le prologue, Tisiphone se vi-enne monstrer,
accompagnee de ses autres soeurs, & avec le terriblle equipage que luy a donne le Paganisme. Je vous demande si
cette Partie a de proportion aueque son Tout, & si ce Bras est de cette Teste. Je vous prie de me dire si les Anges &
les Furies peuvent compatir ensemble; si nous pouvons accordes deux Religions na-turellement ennemies; si nous
devons faire comme cet Empereur, qui mettoit dans un mesme Oratoire Orphee & Abraham, Apollon & Jesus-
Christ; si en fin il nous
457
est permis d'imiter celuy que nous blasmons, & de profaner un Lieu saint, par une marque d'Idolatrie» [«Я не
удивляюсь тому, что Ирод оказывается наполовину иудеем, наполовину язычником. Я удивляюсь
единственно тому, что таковым оказывается христианский поэт. Я с трудом могу поверить, что
твердый в своих убеждениях человек может принадлежать сразу двум партиям и носить цвета разных
господ. Такое новшество кажется мне, говоря по чести, несколько чрезмерным, и я не могу представить
себе, не насилуя своего воображения, чтобы в поэме, в которой ангел открывает представление и
произносит пролог, затем появилась бы Тисифона в сопровождении своих сестер и в том ужасающем
виде, который придало ей язычество. Я ставлю перед вами вопрос, согласна ли эта часть со своим
целым и подходит ли эта рука к этой голове? Я прошу вас сказать мне; могут ли совмещаться в одном
целом ангелы и фурии, можем ли мы согласить Две религии, враждебные по природе; неужели мы
должны поступать как тот император, который поместил в одно святилище Орфея и Авраама,
Аполлона и Иисуса Христа; неужели, наконец, нам позволительно подражать тому, что мы осуждаем, и
осквернять святыню клеймом идолопоклонства»} (Balzac 16S8, 114— 115). Далее говорится: «La
Matiere dont il s'agit, est tout nostre & toute Chrestienne. II me semblle que les fausses Divinites n'y ont point
de part, & n'y peuvent entrer que par viollence. Le grand Pan est mort par la naissance du Fils de Dien, ou
plustost par eel lie de sa Doctrine; il ne faut pas le ressusciter. Au leuer de cette lumiere tous les Fantosmes du
Paganisme s'en sont enfuis, il ne les faut pas faire revenir» [«Предмет, о котором идет речь, полностью наш
и полностью христианский. Мне представляется, что ложные божества здесь совершенно неуместны и
могут быть введены в подобное повествование лишь насильственно. Великий Пан умер, так как ро-
дился Сын Божий или, точнее, родилось Его учение; нет смысла воскрешать его (Пана). Когда новый
свет озарил нас, рассеялись все темные видения язычества, и не нужно возвращать их вновь»] (Там же,
115). Эти рассуждения Бальзак завершает следующим выводом: «Cette Bigazzure, Monsieur, n'est pas
receuable. Elle trauestit toute nostre Religion: Elle choque les moins dellicats, & scandalise les plus indeuots.
Quand la Piete en cela ne souffriroit rien, la Bien seance у feroit offence; & si n'est commetre vn grand crime,
c'est au moins porter hors de temps vne masquarade» [«Эта пестрота, сударь, неприемлема. Она
выворачивает наизнанку всю нашу веру. Она шокирует даже наименее чувствительных и приводит в
смятение даже не слишком благочестивых. Если при этом не пострадает благочестие, будет нанесен
ущерб благопристойности, и если здесь нет большого преступления, то по крайней мере маскарад
переходит здесь отведенные ему пределы»] (Там же, 117). В плане актуализации религиозного
значения мифологии очень знаменательно, что Бальзак в ряде случаев ссылается на Тер-туллиана и
цитирует его (см., например, там же, 118, 120—121), т. е. выбирает в качестве образца для себя одного
из самых ригористических церковных писателей (подробнее о полемике Бальзака с Геинзиусом см.
Youssef 1972, 117—164).
458
лается на два рода примеров, о которых мы говорили выше: на упоминания
античных богов в патристической
Надо думать все же, что — каковы бы ни были формы выражения — в протестах Бальзака религиозные
моменты подчинены моментам эстетическим. В этой связи существенно, что у Бальзака, так же как у
Теофиля де Вио, протест против мифологии ассоциируется с протестом против школьной поэтики. В
то время как Ге-инзиус утверждает, что мифологические имена должны пониматься аллегорически, и
указывает на традицию такого понимания (Heinsius 1636, 27 ел.; о традиции аллегорической

интерпретации мифологии см. Seznec 1961, 84—121), Бальзак, не отрицая в принципе возможности
аллегорического понимания, говорит, что она неприемлема в текстах, не рассчитанных специально на
ученую аудиторию: «Je ne nie pas, Monsieur, qu'on ne puisse interpreter les Fables, & qu'il ne se trouue des
verites cachees sous les fictions poetiques. Crayons pour I'amour du Chancelier Bacon; que toutes les Folies
des Anciens sont sages, & tous leurs Songes mysterieux. Auouons a Monsieur Heinsius que les Furies peuuent
signifier les passions qui trauaillent les meschans, & les remors qui accompagnent les crimes. Mais, Monsieur,
dans les Tragedies nous jugeons de leur apparence, & non pas de leur secret; de ce qu'elles declarent, & non
pas de ce qu'elles signifient. Nous les considerons comme la Poesie les pare, & non pas comme la Morale les
deshabille; dans le sens litteral, & non pas dans le sens mystique. Celuy-cy exerce la subtilite du Grammairien;
Celuy-la borne I'intellligence du Spectateur. L'vn est de la Scene, 1'autre de I'Eschole. Le Peuple regarde des
Furies, & les Doctes deuiennent des Passions. Or est-il que ces Spectacles estoient pour le Peuple...» [«Я не
отрицаю, сударь, что нельзя истолковывать мифы и что в поэтических вымыслах нельзя найти скрытые
истины. Поверим из любви к канцлеру Бэкону, что все безумства древних были мудрыми, а все их
видения — содержащими тайну. Пусть будет прав господин Геинзиус, что фурии могут обозначать
страсти, которые терзают злодеев, и угрызения совести, которые следуют за преступлением. Однако
же, сударь, в трагедиях мы оцениваем то, что они наглядно нам представляют, а не их скрытый смысл;
то, что они объявляют во всеуслышание, а не то, что они означают. Мы рассматриваем их так, как
поэзия нам их являет, а не так, как этика обнажает их существо; в буквальном смысле, а не в смысле
мистическом. Этот последний озадачивает изощренность грамматистов, первый же ограничивается
разумением зрителя. Один принадлежит сцене, другой — школе. Люди видят фурий, тогда как ученые
созерцают страсти. Однако же эти зрелища предназначены для людей...»] (Balzac 1658, 130). Итак,
Бальзак противопоставляет здесь ученость и естественность, искусство (основывающееся на естест-
венности) и науку (основывающуюся на учености), и именно в этот контекст прециозной эстетики
попадает и протест против мифологических образов как против ученого, искусственного, непригодного
для изящной литературы.
459
литературе (в частности, у того же Климента Александрийского) и на смешение
христианских и языческих элементов в средневековой латинской поэзии (например, у
Пруденция) (Heinsius 1636)
6
. Классицизм, однако, не при-
6
Для характеристики возражений Геинзиуса приведем лишь •один пример, оправдываясь от обвинения в
кощунственном внесении мифологических имен в христианский контекст, он пишет: «Neq; hie vllam animi a
cultu aut religione Christiana alieni nos suspicionem vel agnoscimus vel culpam, cum in linguis quoque aliis,
Hebraea, Syra, ac Chaldaea, imo & in Sacris idem vsitatem fit. Exemplo fit Gehinnom, sive vallis Hinnom, & in ea
Thophet nobilis, de quibus paulo post agemus, magis execranda sane, quam vel Acheron, vel Styx, vel Taenarus,
atque alia ejusdem generis. Quorum usu, si om-nius ex sententia Balsaci, quam nonnihil post priores literas mutauit,
abstinendum, quid Prudentio, quo nemo acrius paganos oppugnauit, quod scripsisse turn me memini, quid aliis
futurum, qui promiscue his vtuntur? Et an non in eo passim talia? Ecce statim in principio Psychomachiae quod
poema dramatis, ut mox dice-mus, Christiani vicem tenet,
Софога commaculans, animas in Tartara mergis. Et,
Decide prostibulum, Manes pete, claudere Auerno,
Habes Tartara, Auernum, Manes» [«Нет, мы не признаем никакой вины или подозрения в том, что
оказываемся чуждыми христианской вере или благочестию, в то время как во многих других языках —
еврейском, сирийском, халдейском, даже и в священных — находим подобное же употребление. Примером
может служить Ге-хинном, или долина Хинном, и в ней благородный Тофет (о них мы скажем несколько
позднее), которая в действительности более заслуживает проклятий, нежели Ахерон, или Стикс, или
Тенарус, равно как и другие этого же рода. Если от употребления таковых следует, по мнению Бальзака
(которое он изменил после первых книг), воздерживаться, то как же быть тогда с Пруденцием, яростнее
которого никто не выступал против язычников, но который, как мне помнится, такое употребление
допускал, что же делать с другими авторами, которые употребляли их (мифологические имена) без разбора.
Разве мы не повсюду такое встречаем? Сразу же приходит на ум Психомахия [поэма Пруденция], которая,
как мы вскоре поясним, является драматической поэмой; в ней подобные имена чередуются с
христианскими.
Осквернив тело, сразу же топишь души в Тартаре. И
Повали проститутку, отправляйся к Манам, запрись в Аверне.
Вот и имеешь и Тартар, и Авернум, и Манов»] (Heinsius 1636, 7, 8). Оправдывая свою практику, Геинзиус
постоянно ссылается на Иеронима (там же, 61, 80, 81, 82—85 и т. д.), на Григория Нис-
460
нимал апелляций к прошлому, и доктрина о недопустимости смешения христианского и
языческого становится одним из постулатов классицизма, повторяемых самыми разными
авторами (например, Сорелем — см. Sorel 1646, II, кн. XIII, 20; см. подробнее: Bray 1966,
