Левит С.Я. (гл. ред.) Культурология. XX век. Энциклопедия. Том 2
Подождите немного. Документ загружается.


201
Фуко, анализируя условия возможности типов знания (“археологии знания”) в ситуации истор. некумулятивности познания, после-
довательно рассматривает специфич. формы функционирования “языков” науки (отношения “слов” и “вещей”, т.е. имен и денота-
тов) в трех последовательно сменяющих друг друга познават. моделях-эпистемах (Возрождение, классич. рационализм, современ-
ность). Фуко стремился выявить комбинаторные закономерности, определяющие ситуации смены эпистем, к-рые вывели его на не-
обходимость анализа отношений “власть-знание”, трактуемых как универсальная модель любых социальных отношений (“генеало-
гия власти”).
Лакан, развивая “теорию бессознательного” Фрейда, стремился найти аналогию между структурами бессознательного и структура-
ми языка (исправляя нарушения языка, мы исцеляем психику больного). Структурируя бессознательное как язык. Лакан отводил
ему главенствующую роль в человеч. психике как “символическому”, к-рое безусловно подчиняет себе и “реальное” (область сти-
мулов, воздействий хаотич. внешней среды), и “воображаемое” (область концептов, иллюзорных представлений о внешнем мире),
по аналогии с языком, где означающее главенствует над означаемым. Однако гл. задача Лакана — найти через метафорич. и мето-
нимич. структуры языка структуры бессознательного — неразрешима: оказалось невозможным адекватно моделировать психич.
процессы, пользуясь только грамматикой и синтаксисом языка.
В сферу исследования Р. Барта попали прежде всего лит. тексты, с к-рыми он проделывал аналитич. операции, сходные с теми, что
применял к культурным порядкам традиц. об-в Леви-Стросс (выделение устойчивых элементов текста, обнаружение за стилистич. и
лексич. многообразием глубинного “письма” (историко-типол. понятие, сходное с “эпистемой” у Фуко), комбинаторные перекоди-
ровки текста). Барт усматривал в “письме”, равно как и в устойчивых элементах др. совр. культурных порядков (журналистики, по-
лит, лексикона, моды, этикета и т.д.), универсальную “социологику”, диктующую опр. стереотипную реакцию на окружение, обос-
новывая возможность построения лингвистич. средствами метаязыка, способного описать всю совр. культурную ситуацию. Сход-
ные мотивы можно проследить в работах Деррида 60-х гг. (“грамматология” и “деконструкция” — деструкция-реконструкция текста
как универсальные приемы освоения текста), смыкающиеся с отд. положениями филос. герменевтики, а также в прозе и эссеистике
Эко, к-рый в лит. практике реализовал принципы конструкции и реконструкции текста, предложенные Бартом и Деррида.
60-е гг. можно считать периодом расцвета С.; во Франции это совпало с подъемом леворадикального молодежного движения и пре-
обладанием радикалистских тенденций в культуре (лит. модернизм, “новая волна” в киноискусстве, кружок “новых философов”).
Это движение горячо приветствовало С. как идеологию радикальной критики современности. Однако в своем развитии уже к концу
десятилетия С., несмотря на значит. успехи в работе с конкр. группами культурных текстов, оказался перед проблемой неразреши-
мости своей гл. задачи — познания объективно-научным путем глубинных структур человеч. психики. В то же время увлечение аб-
страктным “моделированием структур из текстов” привело С. к дегуманизации, редукции за рамки познания всего субъективно-
человеческого, присущим любому культурному порядку идиографич. черт. Это совпало по времени с усилением антисциентистских
и постпозитивистских идей в философии науки, кризисом леворадикальных умонастроений во Франции (в связи с событиями лета
1968). Все это привело к постепенному кризису С. и превращению его в 70-80-е гг. в постструктурализм, в фокусе внимания к-рого
оказалась прежде всего не структура, а контекст, анализ культурных текстов с т.зр. конкр., уникальной ситуации их создания и ис-
пользования (к постструктурализму пришли и сами представители С. — поздний Барт и основанный им кружок “телькелистов”,
Деррида).
Кризис С. как направления продемонстрировал опасность экстраполяции конкретно-научного метода на весь спектр антрополог,
проблематики в условиях нерешенное™ вопроса об универсальных единицах и критериях анализа. Однако высокая эвристич-
ность применения структурного анализа и методов структурного моделирования к локальным проблемам символич. организации
культуры несомненна, как несомненно и огромное влияние, оказанное С. на развитие проблематики, связанной с семантич. и семио-
тич. аспектами культуры, систематизацией культурных текстов, анализом генетич. процессов в культуре. Именно С. способствовал
выделению культурной семантики в самостоят. область наук о культуре, оказал значит, влияние на совр. культурно-антропол. ис-
следования, герменевтику, психоанализ.
Лит.: Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969; Грецкий М.Н. Франц. структурализм. М., 1971; Автономова Н.С. Филос. про-
блемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977; Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994;
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985; Он же. Первобытное мышление: Миф и ритуал. М., 1994; Барт Р. Избр. рабо-
ты: Семиотика. Поэтика. М., 1994; Он же. S/Z. [Анализ рассказа “Сарразин” О. де Бальзака] М., 1994; Лакан Ж. Функция и поле речи
и языка в психоанализе. М., 1995; Levi-Strauss Cl. Mythologiques. V. 1-4. P., 1964-71; Derrida J. De la grammatolo-gie. P., 1967; Idem.
The Deconstruction. N.Y., 1975; Clarke S. The Foundations of Structuralism: a Critique of Levi-Strauss and the Structuralist Movement.
Brighton; N.Y., 1981; Structuralism and Sinse: from Levi-Strauss to Derrida. Oxf. etc., 1981; Deconstruction and Criticism. L.; Henley, 1979;
Deconstruction and Theology. N.Y., 1982.
А. Г. Шейкин
СТЮАРД (Steward) Джулиан Хейнс (1902-1972) -амер. антрополог, этнолог. Ученик Крёбера и Лоуи. Несмотря на обособленность
позиции, к-рую он занимал по отношению ко всем школам амер. антропологии, и стремление выработать абсолютно самостоят,
подход в исследовании культуры, испытал значит, влияние идей Крёбера и Л. Уайта. Внес существ, вклад в развитие амер. этно-
графии — изданный им энциклопедич. семитомный справочник по культуре индейцев Юж. Америки (1946-59) до сих пор не утра-
тил своего значения.
В историю науки С. вошел прежде всего как теоретик, сформулировавший концепции многолинейной эволюции культуры, уровня
социокультурной интеграции, культурного типа, а также как автор экологич. подхода в изучении конкр. культур.

202
С. проанализировал все существовавшие концепции культурно-истор. процесса и определил три осн. типа: концепция однолинейной
эволюции (эволюционизм 19 в.), последователи к-рой выделяли стадии поступательного развития культур; концепция общей (уни-
версальной) эволюции Л. Уайта, Г. Чайлда, к-рая позволяла вскрывать общие закономерности эволюции культуры; концепция мно-
голинейной эволюции С., действие к-рой автор ограничивает рамками отд. регионов, истор. повторяемостью и процессами парал-
лельного развития.
Продолжая линию анализа культурных изменений, С. критически осмыслил классификации культур по культурным ареалам, куль-
турным моделям, системам ценностей и т.д. и противопоставил им классификацию культур по культурным типам.
Культурный тип характеризовался совокупностью нек-рых избранных, функционально взаимосвязанных черт, к-рые присутствуют
в двух или более культурах, но не обязательно во всех. Этим культурный тип отличался от культурного ареала, поскольку в описа-
нии последнего учитываются все элементы культуры. В 1955 С. несколько изменил свой подход и определил культурный тип как
совокупность черт, образующих ядро культуры, возникающих как следствие адаптации к среде и характеризующих одинаковый
уровень интеграции. На этом этапе анализа С. сделал серьезную попытку выявить истор. типы связей, к-рые дают возможность
классифицировать и сравнивать культуры.
Рассматривая особенности конкр. культуры как следствие адаптации человеч. сооб-ва к окружающей среде, С., опираясь на тради-
ции амер. антропологии, в частности концепцию культуры Л. Уайта, формулирует метод культурной экологии, к-рая находит свое
развитие в антропологии вт. пол. 20 в.
Соч.: Theory of Culture Change. The Methodology of multilinear Evolution. Urbana, 1955.
Лит.: Harris M. The Rise of Anthropological Theory; a History of Theories of Culture. N.Y., 1968; Process and Pattern in Culture. Essays in
Honor Pf. Julian H. Steward. Chi., 1964.
Л.А. Мостова
СУБКУЛЬТУРА — особая сфера культуры, суверенное целостное образование внутри господствующей культуры, отличающееся
собств. ценностным строем, обычаями, нормами. Культура любой эпохи обладает относит, цельностью, но сама по себе она неодно-
родна. Внутри конкр. культуры городская среда отличается от деревенской, офиц. — от народной, аристократич. — от демократич.,
христианская — от языческой, взрослая — от детской. Об-ву грозит опасность разбиться на группы и атомы. Любая культурная
эпоха предстает нам в виде сложного спектра культурных тенденций, стилей, традиций и манифестаций человеч. духа.
Даже в античной культуре, к-рая нем. поэту Гёльдерлину казалась целостной и монолитной, Ницше разглядел противостояние
аполлонического и дионисийского первоначал, представляющих собой не плод мифотворч. фантазии, а “два действит. средоточия
единого бытия” (В. Шмаков), порождающих и восхождение и спады потока жизни.
В культурной эпохе сосуществуют разные тенденции и образования, эзотерич. и профанное, элитарное и массовое, офиц. и народ-
ное, языч. и христианское. Так, в ср.-век. миросозерцании и жизненном строе новое духовное, т.е. христ., начало сосуществовало со
старым, языческим.
В эпоху Возрождения необозримый мир смеховых форм карнавального творчества противостоял офиц. и серьезной культуре ср.-
вековья. Народная культура представала в предельном многообразии субкультурных феноменов, обладающих единым стилем и
составляющих нечто относительно целостное — народно-смехо-вую, карнавальную культуру.
Культуры различных эпох демонстрируют сложный спектр субкультурных феноменов. Отдельные отсеки культуры как бы отгоро-
жены от магистрального пути духовного творчества. В самом деле, какое отношение имеют карнавальная атмосфера мистерий,
“праздники дураков”, уличные шествия к прославлению турнирных победителей, посвящению в рыцари, королевским ритуалам или
священнодействию? В сложном игровом социокультурном аспекте эти компоненты, как показывает Бахтин, взаимодействуют. Но
офиц. серьезная культура определяет собой как бы главенствующее содержание эпохи. Она отделена от площадной культуры смеха.
И за пределами эпохи Возрождения эта оппозиция официальной и народной культуры не исчезает. Культурное творчество при всей
своей динамике вовсе не приводит к тому, что народная культура вдруг оказывается более значимой или определяющей доминантой
эпохи. В этом смысле можно провести различие между понятиями “контркультура” и “субкультура”. Через них можно разглядеть
механизмы социокультурной динамики.
Нек-рые образования культуры отражают социальные или демографич. особенности ее развития. Внутри разл. обществ, групп рож-
даются специфич. культурные феномены. Они закрепляются в особых чертах поведения людей, сознания, языка. По отношению к
субкультурным явлениям возникла характеристика особой ментальности как специфич. настроенности опр.групп.
Субкультурные образования культуры в изв. мере автономны, закрыты и не претендуют на то, чтобы заместить собою господ-
ствующую культуру, вытеснить ее как данность. Можно говорить об особом кодексе правил и моральных норм внутри этноса. Цы-
гане, напр., не считают зазорным воровать у “чужих”. Однако такой поступок, совершенный внутри табора, оценивается как престу-
пление. Здесь не практикуется также строго правовая жизнь. Судьбу человека, к-рый нарушил заветы, решают старейшины, руково-
дствуясь традициями и собственным разумением. Непочтит. отношение к старому человеку не будет воспринято на Кавказе как
добродетель.

203
Среди заключенных, говорящих на особом жаргоне, также складываются своеобразные стандарты поведения, типичные только для
данной среды.
Подобного рода феномены мы называем С.: это обозначение фиксирует герметичность данного явления. Цыгане вовсе не претен-
дуют на всеобщность их жизненных и практич. установок. Напротив, они заинтересованы в том, чтобы сохранить лишь собств. за-
коны в противовес господствующим в культуре, к-рую они воспринимают как “чужую”. То же самое можно сказать и о криминаль-
ном мире. Смеховая карнавальная культура остается субкультурным образованием и вовсе не стремится превратиться в официоз. С.
призвана держать социокультурные признаки в опр. изоляции от “иного” культурного слоя.
В совр. мире примером С. можно считать религ. секты. Эти культовые объединения нередко называют авторитарными. Во главе
сект обычно стоят харизматич. лидеры, к-рые мнят себя пророками или даже божествами. Во многих сектах царят единомыслие,
строжайшая дисциплина. Дух свободного общества здесь зачастую утрачен. Однако, несмотря на жесткие меры, к-рые применяются
к адептам “новых религий”, прокурорские заключения и угрозы, многолетняя работа с культовыми объединениями не дала ощути-
мых результатов. Напротив, она нередко вызывает эффект бумеранга. Сторонники эксцентричных верований предстают жертвами,
мучениками, страдальцами.
Субкультурные тенденции в об-ве во многом вызваны к жизни стремлением офиц. культуры заполнить собой все поры социального
организма. Партийная идеология автоматически рождала диссидентство. Тотальный рационализм не может не вызвать ответную
аналогичную реакцию. Так, фундаментализм служит источником модернизма.
С. обладают стойкостью и в то же время не оказывают воздействия на генеральный ствол культуры, они рождаются, живут и устра-
няются, а ведущий строй культуры при этом сохраняется. Мангейм осмыслил эту проблему в традиц. рамках философии жизни.
Культурные циклы уподоблены нем. социологом жизненным, биологическим. Решение сводилось к тому, что С. обусловлены раз-
личиями поколений.
Проблема С. рассматривается в культурологии в рамках концепции социализации. Предполагается, что приобщение к культурным
стандартам, вхождение в мир господствующей культуры, адаптация к ней — процесс сложный и противоречивый, насыщенный
психол. и иными трудностями. Это и порождает особые жизненные устремления молодежи, к-рая из духовного фонда присваивает
себе то, что отвечает ее жизненному порыву, ценностным исканиям.
Так, по мнению многих культурологов, рождаются опр. культурные циклы, обусловленные, в общем, сменой поколений. Юношест-
во воплощает в себе новую истор. реальность, творит собственную С., к-рая, хотя и не вызывает немедленных ощутимых изменений
в магистральном пути культуры, вместе с тем влияет на многообразные срезы культуры, моду, стиль жизни, поведение и в целом на
стиль культурной эпохи.
Лит.: Шмаков В.А. Основы пневматологии. Кн. 1-2. М, 1922; Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. М., 1980;
Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1988; Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.,
1990; Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса. М., 1993; Он же. Иллюстрированная история нравов: Галант-
ный век. М., 1994; Он же. Иллюстрированная эпоха нравов: Буржуазный век. М., 1994; Петров Д.В. Молодежные субкультуры. Са-
ратов, 1996.
П. С. Гуревич
СУБЭКУМЕНА — устойчивая коалиция культур, связанных единой вселенской религиозно-филос. традицией. Сегодня это зап.
христ. мир, мир ислама, индуистско-буддийский мир Юж. Азии (Индия и индианизированные культуры) и конфуцианско-
буддийский мир Д. Востока (Китай и синизированные культуры). Понятие С. — попытка углубить проблему истор. образований,
стоящих посредине между “нац.” (этническим) и “интернац.” (вселенским), напр. Европа. Т.о., теория С. примыкает к теориям
“культурных кругов” Шпенглера и “цивилизаций” Тойнби; она противостоит концепции этносов Л.Н. Гумилева, перенося акцент с
этнич. (племенного) на вселенское (в его исторически конкр. воплощении суперэтнической культуры, созданной мировой религией).
Аналогия С., в концепции Гумилева, — “суперэтнос”, рыхлое и недолговечное единство, созданное избыточной энергией этноса
(пример — Рим. империя до христианства). Теория С. подчеркивает противоположное: культурные миры, созданные вселенскими
религиями и религиозно-филос. традициями, устойчивее, чем отд. народы. Первонач. евр. ядро учеников Христа и апостолов рас-
творилось в массе христиан; потом исчезли и эллины, и римляне, а Запад, обновленный христианством, распространил свое влияние
на весь земной шар. Буддизм, возникший в Индии, проиграл спор с индуизмом и был вытеснен со своей родины, но захватил другие
народы и стал одной из основ единства Д. Востока.
Понятие С. не совпадает и с “культурным кругом”. Общность культурного круга иррациональна и основана скорее на привычках,
обычаях, чем на идеях и символах. Византия и халифат включены Шпенглером в один культурный круг, несмотря на различия меж-
ду христианством и исламом. Культурный круг подобен биол. организму и живет примерно тысячу лет, проходя неизбежный путь
от юности к зрелости и старости. С. основана не на инерции обычаев, а на захваченности вселенским кругом идей и не ограничена
никакими биол. законами. Она возникает из кризиса древних империй и несет в себе способность преодолевать другие кризисы.
Можно определить С. как цивилизацию, основанную на вселенском духе, объединившем народы и племена в пространстве импе-
рии, а затем вокруг имперского ядра. Это выделяет С. из массы “цивилизаций”, в понимании Тойнби, многие из к-рых имеют до-
имперский характер.
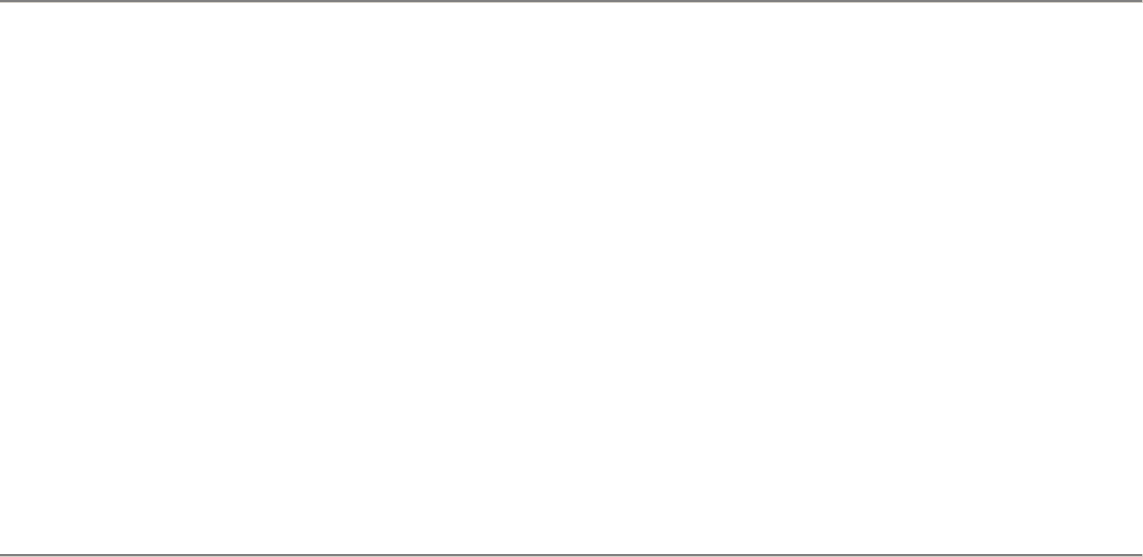
204
Нек-рые черты, из к-рых складывается облик С., характерны для пары С. в противоположность другой паре. Особенно тесно связа-
ны два мира, на к-рые с древности распадалось Средиземноморье. Оно может быть названо бисубэкуменой (биэкуменой). В рим.
период это одна большая цивилизация с одной, эллин. филос. традицией, одним, рим. правом, и (к 4 в.) одной, иудейской по проис-
хождению, религией. Однако с течением времени лат. переработка евангельского импульса все дальше уходила от византийской и
дело кончилось разрывом.
Возникновение ислама создало новый вопрос: можно ли считать С. византийский культурный мир? Для 6-7 вв. это несомненно. Од-
нако тогда из решающих черт С. следует исключить устойчивость. Византия не справилась с натиском ислама не только на поле
битвы, но и духовно. Большинство христиан Египта и Сирии принадлежало к неправославным исповеданиям и предпочло арабов
(на первых порах отличавшихся терпимостью) православной нетерпимости. В Индии и Китае культура поглощала завоевателей, на
Бл. Востоке религия завоевателей захватила большинство побежденных. Можно выйти из логич. противоречия, назвав Византию
несостоявшимся субэкуменальным узлом (наподобие ламаистского Тибета с обращенной в ламаизм Монголией). Однако этому со-
противляются рус. попытки возродить православный мир (“Москва — Третий Рим”). Т.о., визант. вопрос рождает рус. вопрос: явля-
ется ли Россия (или рус. Евразия) С.?
Теория С. отвергает противопоставление Запада Востоку. Запад — конкр. мир, Европа и континенты, освоенные европейцами, и
Восток представляют три С.
Теория С. позволяет понять причины силы и слабости Запада. Основы его были заложены в новом древнем мире, возникшем в Сев.
Средиземноморье на периферии старого древнего мира, около 2,5 тыс. лет тому назад. Попадая в поле одной цивилизации, племена
легко ассимилировались. Попадая в общее поле, они оказывались под перекрестным огнем разных потоков символов и тяготели не к
ассимиляции, а к формированию новых цивилизаций. Сев. Средиземноморье стало миром, свободным от архаич. перевеса традиции
над логикой, со всеми возможностями и опасностями, к-рые несла в себе логика; миром демократич. полисов, между к-рыми уста-
новились отношения диалога. “Сравнит. жизнеописания” Плутарха — книга, охотно читавшаяся и греками, и римлянами. Ничего
подобного нельзя себе представить в традиц. Китае или в Индии до Акбара. Политически Средиземноморье было объединено Ри-
мом; но духовно оно осталось двуединым, диалогичным.
Этот диалогизм возродился в Европе Нового времени. Путь к нему был достаточно сложным. Из феодального хаоса, к-рый оплаки-
вал Данте, родилась свобода городов (где зародилось Новое время) и примерно с 16 в. система наций-гос-в, связанных общей куль-
турой, постоянно перекликавшихся друг с другом и учившихся друг у друга. Именно в этой перекличке причина динамизма Запада.
Города-республики Италии и Германии, пришли в упадок, но движение продолжалось в Англии, Голландии, Франции и захватило
весь мир.
Однако мировая научная цивилизация развязала силы, с к-рыми не может справиться. В потоке информации потерялось главное —
чувство целого, смысл жизни, “ценностей незыблемая скала” (Мандельштам), присутствие вечности во времени. Природа, превра-
щенная в раба, взбунтовалась. Экологич. кризис требует переоценки ценностей, самоограничения деятельности, восстановления
культуры созерцания, сохранившейся в наши дни только к Востоку от Суэца. Эта задача может быть решена в диалоге С., в диалоге
всех самобытных импульсов к вселенскому единству.
Лит.: см. Диалог.
Г. С. Померанц
СУРЬО, СУРИО (Souriau) Поль -франц. философ, эстетик. Закончив Эколь Нормаль, в 1881 защитил дис. “Теория вымысла”
(“Theorie de 1'invention”). Преподавал в разных учебных заведениях Франции. Автор нескольких исследований по пограничным
проблемам философии, эстетики, психологии. Филос. становление С. происходило под влиянием позитивизма, что отразилось и в
его эстетич. взглядах. В центре внимания философа находилась проблема прекрасного, в решении к-рой он применял функциональ-
ный подход: совпадение прекрасного и полезного признается им основанием для обнаружения в объекте “рац. красоты”. Уделяя
пристальное внимание изучению “рационально-архитектонич. формы”, С. на четверть века предвосхитил идеи функционализма и
производств. эстетики; интересовала его и субъективная сторона процесса восприятия индивидом внешнего мира. Он специально
исследует особенности слухового и зрительного восприятия произведения искусства, занимая позицию, близкую теории вчувство-
вания (“растворение меня в вещи”). Характерным для научных интересов С. является обращение к таким нетрадиц. для эстетики
того времени проблемам, как эстетика движения, эстетика света, внушение в искусстве и т.п. В своем понимании не только эстети-
ческого, но и социального значения воздействия произведения искусства на реципиента С. опередил совр. ему научную мысль:
должное внимание этой проблеме ученые стали уделять по существу только с сер. 20 в.
Соч.: L'Esthetique du mouvement. P., 1889; La Suggestion dans 1'art. P., 1893; L'lmagination de 1'artiste. P., 1901; La Beaute rationelle. P.,
1904; Les Conditions du bonheur. P., 1908; L'Esthetique de la Lumiere. P., 1913); L'Enramement au courage. P., 1926.
Лит.: Маца И. Бурж. эстетич. теории начала XX века во Франции // О совр. бурж. эстетике. М., 1965; Лекции по истории эстетики: В
4 т. Т. 3. Ч. 2. Л., 1977; Huis-man D., PatrixG. L'Esthetique industrielle. P., 1961.
К. З. Акопян

205
СУРЬО, СУРИО (Souriau) Этьен (1892 - 1979) -франц. философ, эстетик, обществ, деятель. Сын П. Сурьо. Образование получил в
Эколь Нормаль. Ученик Л. Брюнсвика. С сер. 20-х гг. преподавал в ун-тах Франции (Лион, Париж). В 1925 защищает дис. и вскоре
приобретает значит, авторитет в научных кругах страны. В 1953-62 — зав. кафедрой эстетики и науки об искусстве в Сорбонне. Ди-
ректор Эстетич. ин-та, гл. ред. журнала “Revue d'Esthetique”, президент Франц. эстетич. об-ва и Междунар. комитета эстетич. иссле-
дований, член Академии моральных и полит, наук Франции (1958).
Выступая с позиций филос. “рац. идеализма” и учрежденной им самим “реальной эстетики”, носящих позитивистский характер, в
своих филос. и эстетич. трудах С. обращается к масштабным и фундаментальным проблемам и пытается наметить магистральные
пути развития философии и эстетики (“Будущее эстетики”, “Будущее философии”). При создании собств. философско-эстетич. кон-
цепции широко использовал оригинальные и своеобразно интерпретируемые понятия: напр., инстаурация, обозначающее центр., в
концепции С., идею возникновения, непрерывного становления, оформления разнообр. феноменов и материального, и идеального
происхождения.
В этом перманентном процессе становления действительность предстает как совокупность ряда способов существования, в каждом
из к-рых важнейшую роль играет форма. Но оформление реальности, по С., вовсе не означает наступления некоего статичного со-
стояния, т.к. процесс оформления неостановим и бесконечен. Ведя постоянный поиск оснований, способных объединить всю духов-
ную сферу в целом и протекающие в ней многочисленные разнородные процессы, С. приходит к идее создания “философии фило-
софий”, к-рая должна была бы интегрировать всевозможные философемы, “растворенные” не только в теор. трудах профессиональ-
ных философов, но и в “нетехнических философиях” — в худож. произведениях, науч. соч., разнообр. процессах, протекающих в
реальной жизни, искусстве, действиях и поступках людей и т.п. В поздних работах С. усиливается стремление к культурологич. ос-
мыслению и обобщению разнообр. реальности, окружающей нас, и разноаспектной деятельности человека, к созданию внутренне
упорядоченной и гармоничной научно-худож. “плеромы” — идеального образования, объемлющего всю совокупность высших про-
явлений человеч.духа.
Соч.: L'Avenir de I'Esthetique. P., 1929; L'lnstauration philosophique. P., 1939; Les differents modes d'existence. P., 1943; Les categories
esthetiques. P., 1956; La Couronne d'herbes. P., 1975; L'Avenir de la philosophie. P., 1982; Эстетические ценности и деятельность // Фи-
лос. и социологич. мысль. Киев, 1992, № 4.
Лит.: Предвечный Г.П. Франц. бурж. эстетика. Р.-н/ Д., 1967; Гайжутис А.Л. Э. Сурьо о предмете эстетики и худож. творчества //
ВФ. 1983. № 11; Акопян К.3. Филос. инстаурация Э. Сурио // Филос. и социол. мысль. Киев. 1992. № 4; Vitry-Maubrey L. De la pensee
cosmologique d'E. Souriau. P., 1974.
К.3. Акопян
СЮРРЕАЛИЗМ (франц. “сверх-реализм”, “над-реализм”) — направление в лит-ре и искусстве, возникшее во Франции благодаря
деятельности группы писателей и художников под руководством поэта Андре Бретона (1896-1966). Первым сюрреалистическим
произведением считают опубликованные в 1919 “Магнитные поля” А. Бретона и Ф. Супо, а сюрреалистическое движение как тако-
вое начинает функционировать с 1924. Термины “С.”, “сюрреалистический” впервые появляются в 1917 в программе Ж. Кокто к
“сюрреалистическому балету” “Парад” Э. Сати и почти одновременно в предисловии и подзаголовке “сюрреалистической драмы” Г.
Аполлинера “Груди Тиресия, сюрреалистическая драма в двух актах и с прологом” (1918), причем, как утверждал поэт и драматург
П. Альбер-Биро, он сам подсказал это слово Аполлинеру. В 1924 поэт И. Голль пытался организовать авангардистскую школу во-
круг выпущенного им единственного номера журнала “Сюрреализм”.
Зародившись в атмосфере разочарования, характерного для франц. об-ва после Первой мир. войны, С. принимает форму всеобъем-
лющего протеста против культурных, социальных и полит, ценностей. В сюрреалистской борьбе за “освобождение” эстетич. и этич.
начала слиты воедино. Сюрреалистский канон формулируется в тройственном лозунге: “Любовь, красота, бунт”. “Переделать мир”,
как говорил Маркс, “изменить жизнь”, как говорил Рембо: для нас эти два приказа сливаются в один”, — провозглашал Бретон
(1935).
С т. зр. философии для С. характерен антирационализм и субъективизм, в своей теории он опирается на труды Беркли, Канта, Ниц-
ше, Бергсона и др., и особенно на Гегеля, воспринятого в 20-е гг. через призму толкования Кроче. Сюрреалисты проявляли также
большой интерес к алхимии и оккультным наукам. Решающее влияние на С. оказал психоанализ Фрейда, к-рый парадоксальным
образом соединяется с творчеством де Сада, рассматриваемого сюрреалистами как предтеча фрейдизма. Используя концепты, темы
и примеры из фрейдовского психоанализа, сюрреалисты создают свой поэтико-терапевтический или анти-терапевтический метод,
своего рода “альтернативный психоанализ”. В “Манифесте Сюрреализма” Бретон дает каноническое определение С.: “Чистый пси-
хический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или любым другим способом, реальное функциониро-
вание мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетич. или нравств. соображе-
ний... Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность опр. ассоциативных форм, к-рыми до него пренебрегали, на вере во
всемогущество грез, в бескорыстную игру мысли. Он стремится бесповоротно разрушить все иные психич. механизмы и занять их
место при решении гл. проблем жизни”.
Гл. средством выражения С. Бретон провозглашает “автоматическое письмо”, термин, восходящий к понятию “автоматизм” в пси-
хиатрии (П. Жанэ, Г. де Клерамбо, Р.деФюрсак), в парапсихологии и спиритизме (Т. Флурнуа, Ф. Мейер, У. Джеймс) и аналогичный
методу “свободных ассоциации” Юнга и Фрейда. Первое поэтическое произведение автоматического письма, “Магнитные поля”,
согласно свидетельству Бретона и Супо, было рез-том непосредственного записывания ассоциации, “мыслей” со скоростью, с к-рой
они приходили им в голову. Теория автоматического письма Бретона постулирует ритмическую эквивалентность мысли и слова,
206
устного или письменного, а значит, “вне слов мысли не существует”, т.е. речь идет об “абсолютном номинализме” (Арагон). Авто-
матическое “мысле-говорение”, “мысле-письмо” Бретона — это не овеществление или деградация мысли-субстанции при ее верба-
лизации, но “разговаривание-мысли”, или “оформленная-мысль”, что, с одной стороны, позволяет избежать условной банальности
обычного лит. дискурса, а с др., придает декларируемой Бретоном спонтанности и произвольности организованный характер. Тео-
рия автоматического письма декларирует особый статус поэта, к-рый сводится к статусу нейтрально-постороннего “регистрирую-
щего аппарата”. Реализуя идею Рембо “Я — это другое”, субъект автоматического письма оказывается частью мира, к-рый через
него проходит, он “растворяется” в объекте: он един и рассеян, пассивен и активен одновременно. “Язык исчезает как инструмент,
но это потому, что он становится субъектом” (М. Бланшо).
Эстетика С. идет от Лотреамона: “прекрасный..., как случайная встреча швейной машины и зонта на анатомическом столе”, т.е. кра-
сота заключается в самом принципе коллажа, позволяющего сопоставлять рядом логически несвязуемые между собой образы. “Кра-
сота будет конвульсивной, или ей не быть” — ключевая формулировка эстетики С., данная Бретоном в конце его романа “Надя”
(1928) и продолженная в виде антитез в романе “Безумная любовь” (1937): “Конвульсивная красота.будет эротической-сокрытой,
взрывающейся-неподвижной, магической-случайной, или ей не быть”. Конвульсивная красота, сформулированная как оксюморон,
не умопостижима, ее осмысление эквивалентно вовлеченности в ее ритм, в чем Бретон следует за Гегелем, у к-рого абсолютное зна-
ние и опыт становятся синонимами. Приписывая красоте то, что Фрейд говорил о либидозной энергии, Бретон выводит эстетику за
пределы худож. творчества в сферу незнакового телесного. Эстетич. воздействие сюрреалистич. красоты может быть однородно
эротическому наслаждению или, наоборот, повергать в неосознаваемое и чисто физическое беспокойство и замешательство. С. Дали
пародийно продолжает идею телесности красоты в полемической фразе: “Красота будет съедобной, или ей не быть”,и говорит также
об “устрашающей красоте” (1933). Красота, к-рая “будет” “или ей не быть”, — это красота, к-рая еще не имеет места, она не реаль-
на, но возможна, и только в единственном своем “конвульсивном” качестве, оказывающемся аналогичным некоему фантому, неот-
ступно ее сопровождающему.
Для С. характерны примитивистские тенденции. Увидеть мир незамутненным, чистым разумом, глазами ребенка, душевнобольного,
дикаря — идеал сюрреалистич. наблюдения: “Глаз существует в первозданно-диком виде” (Бретон). Сюрреалисты проявляли боль-
шой интерес к примитивному искусству: многие из них коллекционировали “первобытные объекты”, созданные коренными жите-
лями Америки, Индонезии, Океании (не утратив окончательно интереса и к столь любимому кубистами негритянскому искусству), в
чем они немало способствовали развитию научной антропологии 30-50-х гг. (особенно М. Лейрис и Б, Пере). Само искусство рас-
сматривается как мифологическое, особый статус субъекта естественно влечет за собой идею коллективного творчества, формули-
ровка к-рого заимствуется у Лотреамона: “Поэзия делается всеми. Не одним человеком”. Процесс “автоматического” творчества,
особенно в технике коллажа, близок “интеллектуальному бриколажу” Леви-Стросса, к-рый и не скрывает сюрреалистического про-
исхождения своего термина. Наряду с широким использованием и пародированием мифов уже существующих (кельтских, индей-
ских и пр.) и в т.ч. лит. и худож. (библейские мифы, Вильгельм Телль, Эдип и пр.), для С. характерно стремление к созданию собств.
мифов, особо обостряющееся в 30-е гг., когда создание “нового мифа” (разумеется, в социальном смысле) расценивается Бретоном
как средство борьбы с мифом фашистским.
Один из способов создания сюрреалистами “новой мифологии” — мифологизация мотивов и отд. образов, заимствованных из со-
временности, научных или худож. произведений “предшественников” и “предтеч”: манекены, яичница, костыли, выдвижные ящики,
шляпа-цилиндр, артишок, курительная трубка и пр.; Ницше, Муссолини, Рембо, Фрейд, Троцкий и др.; мотивы или отд. образы из де
Сада, Лотреамона, Рембо, Жарри, Аполлинера, а также Фрейда, Лакана и др. Другой способ мифотворчества — развертывание и
реализация метафоры, т.е. имитация мифа вне мифол. сознания.
Юмор, ирония, смеховое начало характерны не только для практики, но и для теории С., квинтэссенция к-рой заключена в концеп-
ции “черного юмора” Бретона, позаимствовавшего термин у Ж.-К. Гюисманса. “Черный юмор” позволяет отомстить враждебности
мира, делая вид, что встает на его сторону, или перенося свою тоску на безличные механизмы, чтобы парадоксальным образом на-
слаждаться юмором в самом сердце драмы. Анархически отрицая всякую ценность (вслед за Жарри, призывавшим “разрушать даже
руины”), “черный юмор” находится за пределами бахтинского карнавального осмеяния, в к-ром противопоставлены профанное и
сакральное, он приближается к понятию абсурда.
В основе сюрреалистич. творчества и деятельности лежит игровое начало. Игра, “отвлеченная от любого материального интереса и
полезности”, пробивающая брешь в банальности, игра, противопоставленная труду (в марксистском смысле этого слова, как отчуж-
дающей деятельности), оказывается для С., вслед за Ницше и Малларме, выражением жизненной позиции и ценностей, абсолютной
свободы и средством постижения сущности бытия.
Изобретатель разл. игр, Бретон создает свою теорию игры только в 50-е гг. под влиянием переведенной в 1951 книги Хейзинги
“Homo Ludens”: для Бретона игра привлекательна не сама по себе, но как единств, способ, продуцирующий магическое начало, в к-
ром одновременно проявляется случайность, произвольность. Будучи источником удовольствия и способом исследования мира, иг-
ра выявляет “объективную случайность”, одно из ключевых понятий С., заимствованное, по утверждению Бретона, у Энгельса. Ж.
Батай выбирает иной — разрушительный и завораживающий — вид игр, целиком пребывающий в сфере сакрального: его интере-
суют “запрещенные игры”, “жестокие игры” (игры со смертью, с эросом), порывающие со смыслом, знанием и приводящие в со-
стояние опьянения, экстаза.
Одним из излюбленных приемов С. была демонстрация многовалентности знака, смысл к-рого может быть даже тождествен его
противоположности, как, напр., в произведении М. Дюшана “Женообразный фиговый листок” (1950). Вместе с тем знаковость сюр-
реалистического образа нередко сополагается с его незнаковой, телесной природой: “Слова занимаются любовью” (Бретон). Абсо-
лютный бунт против знаковой системы и знаковости окружающей культуры выражается в жестокости и насилии над знаком, к-рые
переносятся из тематики сюрреалистических произведений и деяний. Это насилие может выражаться в садистском “извращении”
знака, как, напр., это делал М. Дюшан, предлагавший использовать картину Рембрандта в качестве гладильной доски.
207
В сфере сюрреалистической словесности наибольшего расцвета достигла поэзия (П. Элюар, Л. Арагон, Ж. Превер, А. Арто, Р. Шар,
Р. Деснос, Ф. Супо, Г. Лука, О. Пас, В. Незвал, М. Ристич, Т. Деми, Ф.Гарсиа Лорка и др.). Роман (Ф. Супо, Л. Арагон, Ж. Грак и
др.), к-рый первоначально был отвергнут Бретоном как “лживый” жанр, в измененном виде был канонизирован в его же романе
“Надя”, как “книга, открытая настежь” для “истинной” реальности. Сюрреалисты вводят также новые жанры экспериментального
характера: “записи сновидений”, “автоматические тексты”, к-рые близки стихотворениям в прозе. Особое место занимает пародиро-
вание разл. устойчивых жанров “коллективного знания” — пословиц (Б. Пере, П. Элюар), глоссариев (М. Лейрис, Р. Деснос). Впол-
не рациональной самоканонизации служат многочисл. манифесты, коллективные листовки, словари (А. Бретон, П. Элюар, Ж. Пьер)
и антологии, созданные сюрреалистами.
В 1913 М. Дюшан, представивший на худож. выставке велосипедное колесо в качестве произведения искусства, положил начало
жанру ready-made (1915), активно практикуемому в С. “Готовый объект”, а вслед за ним т.н. “сюрреалистический объект”, к-рый
может быть и “готовым”, и “составленным из готовых частей”, получают в сюрреализме множество толкований, они рассматрива-
ются как магическая по природе своей “находка”, как иррациональный “объект, увиденный во сне” (Бретон), “основанный на фан-
тазмах и представлениях, к-рые могут быть провоцированы реализацией бессознательных актов” (Дали).
Наибольшего расцвета, наряду с поэзией, С. достигает в живописи (П. Клее, В. Лам, Л. Кэррингтон, Ж. Миро, Г. Белмер, К. Труй, Д.
Таннинг, М.В. Сванберг, Ж. Зима, Р. Пенроуз, Ф. Кало, Р. Варо, Р. Тамайо, А. Горки, Л. Фини, П. Дельво и др.). Отрицая идею под-
ражания, Бретон в 1924 создает теорию сюрреалистической живописи, в к-рой центральное место занимает понятие “чисто внутрен-
ней модели” (“Сюрреализм и живопись”, 1924, 1928, 1945, 1965) — аналог автоматического письма в пластических искусствах. Жи-
вописцы-сюрреалисты использовали всевозможные приемы, разработанные до них как классическим, так и авангардистским искус-
ством: от подробного копирования реальности, доходящего до фотографической точности, до изображения фантастических реалий
и абстракций, изобретали множество игровых “автоматических” техник в живописи: коллаж, фроттаж (М. Эрнст), фюмаж (В. Паа-
лен), дриппинг (Д. Поллок), спонтанная декалькомания (О. Домингес), граттаж (Э. Франчес), алхимаж (Л. Новак), фруассаж (Л. Но-
вак) и пр. Самый известный сюрреалистический прием — т.н. “паранойя-критический метод” С. Дали, замышлявший его как “ак-
тивную” противоположность “пассивному” автоматическому письму: “Спонтанный метод иррационального познания, основанный
на критической и систематической объективизации бредовых ассоциаций и интерпретаций”.
Фотография оказывается сюрреалистическим искусством par excellence благодаря гибкости своих изобразительных возможностей,
обогащенных изобретением новых приемов. Ман Рей изобретает в нач. 20-х гг. метод фотографирования “без объектива”, расклады-
вая на фотобумаге самые обыкновенные предметы, к-рые после проявления обретали фантастический вид, несмотря на узнавае-
мость их контуров. Фотография воспринимается С. как искусство, концентрирующее в себе присущую С. непосредственность. Бре-
тон говорил, что “автоматическое письмо... это настоящая фотография мысли”, Дали называл процесс воплощения паранойя-
критического метода “фотографией вручную”. Фотография может становиться у С. частью коллажа — живописного, скульптурного
или текстового (напр., использование фотографий Ж.А. Буаффара в романах А. Бретона).
Для развития кинематографа 20 в. исключительно продуктивна традиция сюрреалистического кино, что выразилось в творчестве Ж.
Кокто, А. Мишо, Ж. Ренуара, Л. Малля, Р. Поланского, И. Бергмана, А. Хичкока, Э. Дювивье, Ж. Годара и др.
Несмотря на декларируемое Бретоном неприятие театра, многие сюрреалисты писали и ставили драмы (Бретон, Супо, Пере, Арагон,
Ж. Унье, Ж. Неве, Р. Деснос, А. Арто, Р. Витрак, Ж. Грак, Д. Мансур, Ж. Шеаде, Р. Ивчик, Р. Бенайун, Л. Кэррингтон и др.), пред-
восхищая во многом “театр абсурда” 50-х гг. Сюрреалисты не создали своего театра, однако сюрреалисты-диссиденты Р. Витрак и
А. Арто предприняли в 1926-29 попытку организации собственного театра, к-рый назывался “Театр Альфред-Жарри”). Эта реализо-
ванная, пусть и ненадолго, попытка существенно повлияла на Арто, создавшего в 30-е гг. теорию “театра жестокости”, изложенную
в сборнике “Театр и его двойник” (1938), в к-ром Арто открыл новые горизонты для театра 20 в.: для жанра хэппенинга вообще и, в
частности, Д. Бэка с его “Living Theatre”, для театра Е. Гротовского, Э. Барба, П. Брука, А. Мнушкиной и пр.
Проявив исключительную плодовитость в различных искусствах и став и для искусства, и для массовой культуры 20 в. (особенно в
сфере рекламы) богатейшей традицией, С. оказал также значительное влияние на развитие гуманитарной мысли (Ж. Батай, А. Арто),
на структуралистский психоанализ (Ж. Лакан), различные направления, связанные с психоанализом (Г. Розолато), антипсихоанализ
(Ж. Делёз и Ф. Гаттари), структурализм и постструктурализм, феноменологию воображения (Г. Башляр и Ж. Дюран), философское
творчество (Р. Кайуа, Ж. Полан и др.).
В России и СССР С. как такового не было. Отдельные черты сходства и типологические аналогии с ним можно обнаружить в твор-
честве В. Хлебникова, обериутов, имажинистов, П. Филонова, Д. Вертова, А. Родченко, фильмах А. Тарковского и пр.
Лит.: Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., 1972; Антология франц. сюрреализма: 20 годы. М., 1994; Вирмо А., Вирмо О. Мэтры мирового
сюрреализма. СПб., 1996; Nadeau М. Histoire du surrealisme. 2 v. P., 1945; Balakian A. Surrealism: the Road of the Absolute. N.Y., 1959;
N.Y., 1970; Kyrou A. Le Surrealisme au cinema. P., 1963; 1985; Passeron R. Histoire de la peinture surrealiste. P., 1968; Caws M.-A. The
Poetry of Dada and Surrealism. Princeton, 1970; Bonnet М. Andre Breton. Naissance de 1'aventure surrealiste. P., 1975; Biro A., Passeron R.
Dictionnaire general du surrealisme et de ses environs. P., 1982; Chenieux-Gendron J. Le Surrealisme et le roman, 1922-1950. Lausanne,
1983; Idem. Le Surrealisme. P., 1984.
Т-У

208
ТАЙЛОР (Тэйлор, Тейлор) (Tyior) Эдуард Барнетт (1832-1917)
ТАКСОНОМИЯ КУЛЬТУРНАЯ
ТАНАТОЛОГИЯ
ТАРТУСКО-МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН (Teilhard de Chardin) Мари Жозеф Пьер
ТЕЛЕСНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
ТЕННИС (Tonnies) Фердинанд (1855-1936)
ТЕНЬ
ТЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕОРИЯ СРЕДЫ
ТЕПЛОВ Николай Васильевич (1870-1905)
ТЕХНОСФЕРА
ТИЛЛИХ (Tillich) Пауль (1886-1965)
ТОДОРОВ (Todorov) Цветан (р. 1939
ТОЙНБИ (Toynbee) Арнольд Джозеф (1889-1975)
ТОТАЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА
ТОФФЛЕР (Toffler) Олвин (р. 1928)
ТРАДИЦИИ
ТРАНСАВАНГАРД
ТРАНСКУЛЬТУРАЦИИ ИНВЕРСИЯ
ТРЁЛЬЧ (Troeltsch) Эрнст (1865-1923)
ТРУБЕЦКОЙ Евгений Николаевич (1863-1920)
ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич (1890-1938)
ТРУБЕЦКОЙ Сергей Николаевич (1862-1905)
ТЫНЯНОВ Юрий Николаевич (1894-1943)
УАЙТ (White) Лесли Элвин (1900-1975)
УИЛЬЯМС (Williams) Реймонд (Генри) (1921-1988)
УИССЛЕР (Wissler) Кларк (1870-1947)
УНАМУНО (Unamuno) Мигель де (1864-1936
УНИВЕРСАЛИИ КУЛЬТУРЫ
УНИВЕРСАЛИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
УОРНЕР (Warner) Уильям Ллойд (1898-1970)
УХТОМСКИЙ Алексей Алексеевич (1875-1942)
ТАЙЛОР (Тэйлор, Тейлор) (Tyior) Эдуард Барнетт (1832-1917) — англ. этнограф, исследователь первобытной культуры, один из
основоположников и крупнейший представитель эволюционистского направления в этнологии. Во время путешествия на Кубу
(1855-57) под влиянием страстного любителя древностей и мецената, банкира Г. Кристи, Т. проникся интересом к археологии и эт-
нографии. Он самостоятельно изучил этногр. лит-ру и овладел древними языками (лат., др.-греч., ивритом). Уже в 1861 появилась
его первая научная работа, а спустя четыре года книга “Исследования в области древней истории человечества”, в к-рой достаточно
четкое выражение нашли осн. идеи эволюционизма. В 1871 был опубликован гл. труд его жизни — “Первобытная культура”. В том
же году он был избран членом Королевского об-ва. В 1881 вышла его последняя книга “Антропология (Введение в изучение челове-
ка и цивилизации”). Через два года он занял свою первую офиц. должность — стал хранителем Этногр. музея при Оксфорд. ун-те. В

209
1884 был назначен лектором по антропологии Оксфорд, ун-та, в 1886 — доцентом Абердин, унта. Многолетняя работа Т. по подго-
товке этнографов увенчалась созданием в Оксфорд, ун-те кафедры антропологии, первым профессором к-рой он стал в 1896. При-
знанным главой англ. школы эволюционизма в этнологии он оставался до 1907, когда душевное заболевание вынудило его отойти
от науки. Кроме книг Т. написал более 250 статей.
Стремление осмыслить и систематизировать огромное количество данных о жизни народов, к-рые в то время было принято имено-
вать дикими, варварскими или просто отсталыми, привело к возникновению разл. рода эволюционистских концепций. С возникно-
вением эволюционизма этнография впервые стала наукой. Она стала включать в себя не только эмпирию, но и теорию. Для одних
этнографов осн. субъектом эволюции была культура, для других — об-во. Т. принадлежал к первым. Гл. свою задачу Т. видел в том,
чтобы вскрыть закономерности развития культуры вообще. Эту эволюцию он понимал как естественно-истор. процесс, происходя-
щий по объективным законам. Не будучи атеистом, он исходил из того, что в изучаемой им области действуют естеств. и только
естеств. причины. Ему представлялось несомненным, что на основе изучения данных археологии и исследования жизни совр. отста-
лых народов можно реконструировать осн. этапы развития человеч. культуры. Эволюция человечества шла от дикости через варвар-
ство к цивилизации. Она представляла собой постулат, развитие, что не исключало возможности временного регресса. В качестве
важнейшего средства реконструкции прошлого у Т. выступало открытие повторяющегося в явлениях культуры во времени и про-
странстве. Этот прием в дальнейшем получил название типологич. сравнения и стал важнейшим моментом сравнительно-истор.
метода. Др. средство проникновения в прошлое — широко используемый Т. метод пережитков. И хотя о пережитках в культуре
писали и до Т., само это понятие вошло в науку только с появлением его трудов.
Культура, согласно Т., развивается в силу действующих в ней естеств. причин; она распадается на несколько областей, каждая из к-
рых развивается самостоятельно. Существуют несколько независимых эволюц. рядов. Т. не отрицал существования материальной
культуры, но считал ее производной от духовной культуры. Его определение культуры есть определение духовной культуры. Из
всех явлений культуры гл. внимание он уделил религии. Вся его “Первобытная культура” по существу посвящена возникновению и
эволюции религии. Исходной формой религии, “минимумом религии” он считал веру в духовные существа, к-рую он назвал “перво-
бытным анимизмом”. Она возникла в рез-те попытки дикарей объяснить явления сна и смерти. Они верили в существование в каж-
дом человеке особой субстанции — души, к-рая может временно или навсегда покидать свою телесную оболочку. В последующем
из понятия души развились представления о духах, олицетворяющих силы природы, животных и растений. Дальнейшая эволюция
анимизма подготовила появление политеизма, к-рый в последующем трансформировался в монотеизм. Для своего времени концеп-
ция Т. была огромным шагом вперед. По существу это была первая подлинно научная теория происхождения и развития религии,
базировавшаяся на огромном этногр. материале. Хотя ныне она в целом устарела, многое в ней осталось непреходящим.
Неверно считать, что после стремит, взлета в “Первобытной культуре” Т. в основном занимался разработкой деталей и популяриза-
цией. После появления работы Л.Г. Моргана “Древнее об-во” (1877) Т. обращается к исследованию обществ, институтов, т.е. по су-
ществу, следуя за Морганом, переносит центр внимания с культуры на об-во. Заинтересовавшись открытыми Морганом классифи-
кационными системами родства и используя выдвинутую последователем Моргана англ. этнографом Л. Файсоном идею дуальной
организации, Т. делает существ, шаг вперед в разработке проблем рода и экзогамии. В статьях “О методе исследования развития
институтов: применительно к законам брака и происхождения” (1889) и “Матриархальная семейная система” (1896) он пришел к
выводу, что первонач., исходной формой экзогамии является подразделение людей на две взаимнобрачущиеся половины. В дуаль-
но-родовой организации он увидел исток классификационной системы родства турано-ганованского типа и нашел объяснение била-
терального (двустороннего) кросс-кузенного брака. В отличие от Л. Файсона он считал, что дуально-родовая организация возникла
не в рез-те разделения первонач. человеч. коллектива на две половины, а, наоборот, из соединения двух ранее совершенно самосто-
ят, человеч. групп. И как показали дальнейшие исследования, в частности англ. этнографа У.Х. Риверса, он был ближе к истине, чем
Л. Файсон.
Соч.: Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization. L., 1865; Primitive Culture. V. 1-2. L., 1871;
Anthropology. L., 1881; The Matriarchal Family System // The Nineteenth Century. Vol. 40. L., 1896; О методе исследования развития
учреждений в применении к законам о браке и происхождении // Этногр. обозрение. М., 1890. № 2; Доисторический быт человече-
ства и начало цивилизации. М., 1868; Антропология. СПб., 1909; Первобытная культура. М., 1939; 1989.
Лит.: Никольский В.К. Место Эдуарда Тэйлора в исследовании первобытной культуры // Э. Тэйлор. Первобытная культура. М.,
1939; Marett R.R. Tyior. L., 1936.
Ю. И. Семенов
ТАКСОНОМИЯ КУЛЬТУРНАЯ - система классификаций повторяющихся культурных черт, характеризующих конкр. культуру
как уникальную модель или комплекс элементов; лежит в основе типологии культуры. Стремление понять причины сходства и раз-
личия культур привели многих исследователей к созданию концепции “универсальной культурн. модели”. Мёрдок развил поло-
жение, что все культуры строятся по одному осн. плану универсальной культурной модели и пришел к выводу, что всеобщие черты
культуры — это сходство классификаций, к-рые представляют собой категории элементов истории культуры и поведения. Так, по-
ведение человека при сватовстве, получении образования, заботе о больных по многим аспектам отличаются в разных об-вах. Одна-
ко везде они группируются в три категории: брак, образование, медицина. То общее, что имеют культуры, что дает возможность
проводить сравнит, анализ, — это постоянная система классификаций.
Существенные изменения в методол. базу Т.к. в сер. 20 в. внес Стюард. Он критически проанализировал существующие системы
классификации и признал их несостоятельными по целому ряду позиций. Релятивистские концепции, базирующиеся на теории
культурных ареалов, носили статистич. характер, в соответствии с к-рым классификация придавала равное значение всем описы-

210
ваемым культурным элементам. Этот подход привел исследователей к созданию множества разно-обр. классификационных схем
для одних и тех же этногр. данных. Так, Уисслер подразделил всю территорию Юж. Америки на пять культурных ареалов, Стоут —
на одиннадцать, Купер, Беннет и Берд — на три, Стюард — на четыре, Мёрдок — на двадцать четыре и т.д. Ни один из этих ученых
не ставил перед собой задачу выявить общность структур или черт развития, характерных не только для Юж. Америки, но и для
других культурных регионов.
Типология, опирающаяся на ценностный подход, также как паттерны культуры (Бенедикт), нац. характер (Мид) и другие концеп-
ции, исходят прежде всего из общности гл. черт культуры (ценностей, нац. характеров и т.д.), игнорируя кросскультурные сюжеты.
Таксономич. схема более широкого значения должна включать не только описание общего ядра культуры, но и анализ культурных
параллелей во времени и пространстве. Такой типологич. подход, основывающийся на концепции мультилинейной эволюции, Стю-
ард определил как концепцию “культурного типа”. Критикуя классификации культур по культурным ареалам за описательность и
случайность выбранных культурных элементов, Стюард относил к ним и концепцию культурного типа, предложенную Н. Данилев-
ским. По определению Стюарда, “культурный тип” характеризуется совокупностью нек-рых избранных функционально взаимосвя-
занных черт, к-рые присутствуют в двух или более культурах, но не обязательно во всех. Этим культурный тип отличается от куль-
турного ареала, т.к. в последнем учитываются все элементы культуры. Стюард назвал культурным типом совокупность черт, обра-
зующих ядро культуры, возникающих как следствие адаптации к среде обитания и характеризующих одинаковый уровень социо-
культурной интеграции. Примерами такого “культурного типа” могут служить: вост. деспотия Виттфогеля (1938, 1940), к-рая как
тип об-ва строится на основе устойчивой взаимосвязи между социокультурной структурой и ирригационной экономикой; народное
сооб-во (сельская община) Редфилда (1941, 1947), гл. черты к-рого свойственны многим, если не большинству неурбанистических
об-в; феод. об-во, характерное некогда для Европы и для Японии, демонстрирующее сходство и параллелизм развития социополит.
и экон. структур (Пристонская конференция 1951) и т.д.
Особый интерес исследователей во вт. пол. 20 в. привлек очевидный параллелизм развития цивилизаций Старого и Нового Света.
Эти параллели бесспорны и включают, с одной стороны, самостоятельность развития, с другой — внушит, список одинаковых базо-
вых характеристик: культурные растения и одомашненный скот, ирригация, крупные города и селения, обработка металла, обществ,
классы, гос-ва и империи, священство, письменность, календари и математика. Интересно, что именно при изучении цивилизации
Нового Света были выработаны такие функциональные типологич. термины, как “формативный”, “процветающий”, или “классиче-
ский” и “империя” или “коалиция” и т.д.
Стюард предположил, что, поскольку интерес исследователей все больше и больше концентрируется на выявлении функциональ-
ных взаимосвязей характерных культурных черт и процессов, неизбежно сформируется Т.к., учитывающая и адаптационную специ-
фику культур, параллелизм культурного развития и т.д., однако и к концу 20 в. система классификации культур как первый, подго-
товит, уровень для создания развитой типологии во многом сохраняет свою неопределенность и остается невозделанным полем для
культурологов.
Лит.: Wittfogel К.A. Die Theorie der orientalischen Gesellschaft // Zeitschrift fur Socialforschung. 1938. Jg. 7. №1,2; Childe V.G. Social
Evolution. N.Y., 1951; Redfield R. The Folk Culture of Yucatan. Chi., 1941; Steward J.H. Theory of Culture Change. Urbana, 1955; Wissler
C. The American Indian. N.Y., etc., 1938; Bennett W., Bird J. Andean Culture History. N.Y., 1960.
Л.А. Мостова
ТАНАТОЛОГИЯ — филос. опыт описания феномена смерти. Статус специфич. проблемы смерть получает с 18 в., в соч. Радищева
(О человеке, его смертности и бессмертии; Избр. филос. произведения) и кн. М. Щербатова (Разговор о смертном часе; Разговор о
бессмертии души). Смерть осознается лишенной собственного онтологического содержания, это квазиобъектный фантом, сущест-
венный в бытии, но бытийной сущностью не обладающий. Объект Т. суть реальность его описания (как в утопии или в чистой ма-
тематике), а не описываемая реальность. В 18 в. был задан двойной аспект смерти: есть смерть изображающая (реальность смертно-
го и смертью структурированного мира) и смерть изображенная (в образе: символе, эмблеме). В естественных агрегатах натуры
жизнь и смерть взаимно изображают друг друга. Чувство заброшенности в бытии и в истории для просыпающегося личностного
самосознания позапрошлого века компенсируется идеями метемпсихоза и палингенеза. Жизнь, изображаемая смертью, явлена мыс-
лителям Просвещения в феномене человека как Божьей твари: бессмертная душа, оплотненная (означенная, изображенная) смерт-
ным телом. Поэтому тело (изображающая смерть) может быть понято у Радищева как часть натурального ландшафта. Любопытство
к смерти мотивировалось и масонской концепцией необратимого во времени поступка. Любовь к ближнему оказалась сублиматом
страха смерти, а созерцание тленных футляров существования принудило к идеям нравств. самосовершенствования. Первая смерть
изображенной смерти состоялась на Руси в форме юродства: юрод презрел свое тело и тем “выпал” из сплошь детерминированного
смертью состава смертного мира. В 19 в. смерть рассматривается как угроза мирового Ничто; активно обсуждается “смерть вторая”
и Судьба как школа смерти. В худож. лит-ре запрет на исследование судьбы и смерти снял Пушкин: жизнь и смерть образуют в его
порядке бытия единство. Романтич. Танатос у Тютчева осложнен темами смертельной любви поэта-небожителя и эротич. суицида.
В Гоголе рус. культура 19 в. почти исчерпала возможности позитивного осмысления смерти в пределах эмпирии. У Достоевского
смерть предстает трансцендентной загадкой и насмешкой над человеком. В его картине мира линии Эроса и Танатоса прочерчены
во взаимно сопряженных объемах: это мировые оси бытия, острия к-рых смыкаются в метаистории — в соборе лиц ангельского
жития. Внутри истории смерть неодолима, а попытки прижизненного подражания Христу могут оказаться смертоносными для
ближнего; таков кн. Мышкин в “Идиоте” — герой трагич. вины и источник гибели для других. Л. Толстой создал философию
смертной телесности и религию смерти; им был издан своего рода учебник смерти (О смерти. Мысли разных писателей; О значении
религии жизни и религии смерти). Альтернативой страху смерти Вл. Соловьев считал катарсис, который ждет Я на пути сочувст-
венного внимания к ближнему (Философия смерти). Если для Л. Шестова смерть есть прямое издевательство над здравым смыслом
