Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества
Подождите немного. Документ загружается.


Очевидно, в демократии и гуманизме и кроется разгадка «греческого чуда». И если еще принять
во внимание, что у греческого искусства было богатое художественное прошлое — крито-микен-
15
екая культура,— можно будет сказать, что если это и чудо, то чудо объяснимое. Такое же, как
вечно возобновляющееся чудо прекрасного полного сил детства. Греки были «нормальными
детьми», а взрослый видит в ребенке свою незамутненную «истинную сущность» и стремится к
тому, чтобы воспроизводить ее «на высшей ступени». Так и человечество, проходя по сложным
лабиринтам истории, снова и снова обращает взор к своему детству, напоминая себе, чем оно было
и чем должно и может стать на высшей ступени.
Но говорить о «примитивности» этого искусства не приходится
— это была далеко не примитивная эпоха, обладающая уже очень высокой, развитой культурой. В
VII—VI веках процветала знаменитая греческая лирика. Лесбосская поэтесса Сафо слагала гимны
страстной, повелительной любви, Архилох писал насмешливые «ямбы» и басни, радостям юности
и печалям надвигающейся старости посвящал лирические миниатюры Анакреонт, тот самый
Анакреонт, чья поэзия вдохновляла молодого Пушкина. Философия переживала не менее
блестящую эру: малоазийские философы — Фалес, Анаксимандр, Аниксимен — были первыми
античными мыслителями, искавшими единое материальное первоначало всего сущего.
Анаксимандр первым высказал догадку о бесконечности вселенной и о множестве миров. А в
конце VI века Гераклит Эфес-ский положил начало диалектической философии.
Эта эпоха была знаменательной в жизни человечества. Духовные горизонты необычайно
раздвинулись, человек как бы почувствовал себя стоящим лицом к лицу с мирозданием и захотел
постичь его гармонию, тайну его целостности. Подробности еще ускользали, представления о
конкретном «механизме» вселенной были самые фантастические, но пафос целого, сознание
всеобщей взаимосвязи — вот что составляло силу философии, поэзии и искусства Древней
Греции.
Это была сила обобщения — не абстрактного, не сухого, а поэтического, наполненного свежим,
страстным чувством жизни.
В стиле греческого классического искусства слиты жизнеподо-бие и мера или, иначе говоря,
живая чувственная непосредственность и рациональная конструктивность. Каждое из этих качеств
в отдельности не представляет ничего загадочного, весь секрет в их слиянии,
взаимопроникновении, которое осталось недоступным для всех многочисленных позднейших
подражателей. Оно во всем
— в архитектуре, в живописи и в пластике. Оно, видимо, коренится в мироощущении античного
демократического полиса.
Высшей точки подъема Греция достигла в середине V века до н. э. — после победы над
могущественной персидской державой. Афинам принадлежала роль главного культурного центра,
кото-
16
рую они сохранили надолго. Общественный строй Афин в V веке — образец греческой
демократии, демократии для избранных.

Наряду с рабским трудом был распространен свободный труд ремесленников и земледельцев;
граждане классической Греции отнюдь не были бездельниками: они сами трудились в своих
мастерских, исполняли и государственные работы, за которые получали жалование.
Значительное место принадлежало художественным профессиям (скульпторы, золотых дел
мастера, живописцы, чеканщики и т. д.). Само изобразительное искусство считалось одним из
видов ремесла, однако художники пользовались почетом — не в качестве служителей богов (как в
Египте), а как искусные мастера своего дела. Знаменитый ваятель Фидий, которого называли
«калос де-миургос» (прекрасный ремесленник), был близким другом Перик-ла, вождя афинской
демократии.
Греческая культура создавалась людьми, не свободными от труда. Они были свободны только от
изнурительного труда, который перекладывался на плечи рабов. Труд у афинян еще не считался
унизительным занятием, как позже у римлян.
Афинское общество отличалось демократической простотой вкусов и нравов. Перикл говорил:
«Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности». А еще ранее реформатор
Солон так определил жизненный принцип эллинов: «ничего лишнего».
Греки ценили разумность, равновесие, меру. Они гордились своим демократическим строем,
построенным на началах равной активности, равной ответственности каждого гражданина за
общее дело. Вместе с тем они считали, что разумное общественное устройство должно находиться
в согласии с природой человека и не подавлять естественных человеческих стремлений. Они
ценили и силу страстей, и чувственные радости бытия; дуализм духа и тела был им незнаком, его
не знало и классическое искусство.
Когда сейчас мы произносим слова «античное искусство», нам прежде всего представляется
музейный зал, уставленный статуями. Но тогда все выглядело иначе. Хотя у греков и были
специальные здания для хранения картин (пинакотеки), в подавляющей массе произведения
искусства вели не музейный образ жизни. Статуи стояли или в храмах, или на открытом воздухе,
озаренные солнцем,— на площадях, на палестрах, на берегу моря; возле них происходили
шествия, праздники, спортивные игры. Скульптура расцвечивалась. Мир искусства был живым,
светлым миром, как бы бельэтажем человеческого мира, подобным ему, но более совершенным.
Как в греческой мифологии рядом со смертными людьми живут похожие на них, но более
совершенные олимпийские боже-
2 Зак. 1795
17
ства, так и в действительности граждане Эллады постоянно соприкасались с обществом богов и
героев, изваянных из мрамора.
Они не падали перед ними ниц, но радостно восхищались их необычной жизненностью и
красотой. «Она живая», «как будто дышит», «вот-вот заговорит», «кажется, что кровь
переливается в ее мраморном теле» — таков неизменный мотив, который звучит в
многочисленных греческих эпиграммах, посвященных произведениям искусства.
Плутарх говорит, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Это, наверно,
преувеличение, но, во всяком случае, статуй было очень много. Однако до нас дошло ничтожное
количество греческих подлинников.

Скульптура уцелела только в обломках и фрагментах. Большинство знаменитых статуй известно
нам по римским копиям, которые исполнялись во множестве, но далеко не передавали красоты
оригиналов. Римские копиисты их огрубляли и засушивали — то были только бледные перепевы
греческих шедевров. Проходишь мимо скульптур почти равнодушно — и вдруг останавливаешься
перед какой-нибудь головой с отбитым носом, с попорченным глазом: это греческий подлинник!
И поразительной силой жизни вдруг повеет от этой полуразбитой головы. Сам мрамор иной, чем в
римских статуях,— не белый, а желтоватый, сквозистый, светоносный. Так нежны тающие
переходы светотени, так благородна мягкая лепка лица, что невольно вспоминаются и уже не
кажутся наивными восторги греческих эпиграммистов. Действительно, эти скульптуры дышат,
действительно они живые.
Выше уже говорилось о том, что греческому искусству присущи жизнеподобие и мера. Эту меру
греческие художники постигали, изучая человеческое тело. В его конструкции, в его движениях
греки открывали и ритм, и закономерность пропорций, и равновесие, возникающие в
бесчисленных вариациях, свободно, без насилия над природой. Для греков человек был
олицетворением всего сущего, прообразом всего созданного и создаваемого. Человеческий облик,
возведенный к прекрасной норме, был не только преобладающей, но почти единственной темой
искусства.
Язык тела был и языком души. Иногда думают, что греческое искусство чуждалось психологии
или не доросло до нее. Это не совсем так. Действительно, оно не знало того всепроникающего
анализа характеров, того культа индивидуального, который возникает в искусстве нового времени.
Не случайно портрет в Греции был развит чрезвычайно слабо. Но греки владели искусством
передачи типовой психологии, они передавали богатую гамму душевных движений на основе
очень обобщенных человеческих типов. Отвлекаясь от оттенков личных характеров, эллинскле
художники вовсе не пренебрегали оттенками переживаний и умели выражать
18
сложный мир чувств. Ведь они были современниками и согражданами Платона, Софокла,
Еврипида.
Но все же выразительность заключалась не столько в лице, сколько в движениях тела. Каждый
чисто пластический мотив мыслился греческими художниками как аналог духовной жизни. Тело и
психика осознавались в их нераздельности.
«В классической форме искусства человеческое тело в его формах уже больше не признается
только чувственным существованием, а признается лишь существованием и природным обликом
духа». (Гегель)
Действительно, тела греческих статуй необычайно одухотворены. Роден сказал об одной из них:
«Этот юношеский торс без головы радостнее улыбается свету и весне, чем могли бы это сделать
глаза и губы».
Лица греческих статуй приведены к немногим вариациям общего типа, но он обладает высокой
духовной емкостью. В греческом типе лица торжествует принцип «человеческого» в его
идеальном варианте.
Однако в нем нет места чему-то, с современной точки зрения очень важному: красоте
неправильного, торжеству духа над телесным несовершенством, обаянию неповторимо
индивидуального. Этого древние греки дать не могли: для этого первоначальный наивный монизм
духа и тела должен был нарушиться и эстетическое сознание должно было пройти стадию их

разъединения, дуализма,— что произошло гораздо позже. Но все же и греческое искусство
постепенно подготовляло внутри себя этот новый этап.
В IV веке до н. э. политическое могущество Афин пошатнулось, подорванное длительной войной
со Спартой. Усилились и внутренние противоречия полиса: он больше не был таким стройным,
процветающим организмом, как в V столетии.
Дух сплоченной гражданственности и коллективизма ослабевает, личные эмоции обособляются,
тревожнее ощущается неустойчивость бытия. Духовная стойкость и бодрая энергия, которыми
дышит искусство зрелой классики, постепенно уступает место более драматическому, смятенному
«пафосу» Скопаса или мученически-созерцательному, с оттенком меланхолии, «этосу» Пракси-
теля.
Искусство, как чуткая мембрана, откликалось на изменения атмосферы.
Скопас был художником бури, страстным, огненным; движения его фигур порывисты и уже почти
утрачивают равновесие, его сцены битвы с амазонками передают «упоение в бою», хмельной пыл
сражения. Невольно думается: должно быть, нешуточными были и оргии греков, так безумно и
бурно выглядит его Менада в пляске.
19
Римский поэт Катулл воспел опьяняющий ужас оргий:
Там рокочет гулко бубен,
Там кимвалы звонко звенят.
Там менад, плющом увитых, ц
Хороводы топчут траву.
Восклицают там менады,
В исступленной пляске кружась:
«Там безумствуют богини,
вдохновенно-буйная рать!
Нам туда помчаться надо!,
Нас туда желанья зовут» и т. д.
То, что заранее бросало тени на светлый строй греческого мироощущения,— то наступило в конце
IV века: разложение и гибель демократий.
Этому положили начало захват всей Греции Македонией и завоевательные походы Александра
Македонского, основавшего огромную монархию от Дуная до Инда.
Александр еще в юности вкусил плоды самой высокой греческой культуры: его воспитателем был
Аристотель, а «придворным» художником — последний великий скульптор поздней классики
Лисипп. Все это не помешало Александру объявить себя богом и потребовать, чтобы ему и в
Греции воздавали божеские почести. Непривыкшие к восточным обычаям, греки, посмеиваясь,
говорили: «Ну, если Александр хочет быть богом — пусть будет»,— и официально признали его
сыном Зевса.

«Ориентализация», которую стал насаждать Александр, была, однако, делом более серьезным, чем
прихоть завоевателя. Она была симптомом поворота к рабовладельческой монархии. Наступила
эпоха эллинизма — объединения, под эгидой монархического строя, эллинской и восточной
культур.
Эллинистическая Александрия дала миру великого Архимеда, геометра Эвклида; Аристарх
Самосский, «Коперник древнего мира», за восемнадцать столетий до Коперника доказывал
вращение Земли вокруг Солнца. Эллинистическая наука и философия впитали многое из наследия
Древнего Востока. Но пластические искусства более всего сохранили греческий облик.
Ведь именно эпохе эллинизма принадлежат прославленные статуи, которые представляются нам
олицетворением античности, высшим синтезом того, что создала античная пластика — Ника
Самофракийская и Афродита Милосская.
Афродита Милосская возвышенна и спокойна. Многим памятникам эллинистической эпохи было
свойственно другое — динамический пафос; в этом они продолжали традиции Скопаса, однако
по-иному — более эффектно, импозантно. Крылатая Ника Самофракийская — воплощение
радостного пафоса, утро эллинистического мира, она была создана в конце IV столетия. Когда-то
она
20
стояла, трубя в рог, на утесе на берегу моря, открытая ветру и брызгам морской пены. Сейчас она
встречает посетителей Лувра на площадке широкой лестницы.
Обезглавленная, без рук, с поломанными крыльями, она и здесь царит над окружающим
пространством и, кажется, наполняет его шумом прибоя и ветра, сверканием солнца, синевой неба.
§ 3. ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В УЧЕНИЯХ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ
ФИЛОСОФОВ
Краткий экскурс в психологию творчества античного мира был бы неполным без более детального
анализа эволюции психологического словаря.
Древнегреческий канон человека не оставался неизменным на разных стадиях развития античной
цивилизации. Хотя общие черты древнегреческой культуры — ее телесность, статуарность,
ориентация на космос, а не на историю — в основном сохраняются, усложнения взаимоотношений
индивида и социума вносит в них существенные коррективы.
Одни из показателей этого — эволюция психологического словаря, отражающая постепенную
дифференциацию и автономиза-цию сознания и мотивационной сферы человека, становление
«внутреннего» регулятивного механизма, отличного от «внешнего» поведения _.
Древнегреческие слова «сома», «псюхе», «тюмос» и «фюсис» переводятся как «тело», «душа»,
«дух» (чувство) и «природа». Но перевод условен. Древнегреческие тексты не знают ни идеи
нематериальной души, ни понятия индивидуального тела.
«Сома» — скорее совокупность органов, «псюхе» у Гомера обозначает дыхание, покидающее
человека в момент смерти.
В учении Пифагора о переселении душ «псюхе» впервые обретает индивидуальность — одна и та
же душа воплощается в разных телах. В V в. до н. э. «псюхе» испытывает чувства, выступает как
самая ценная ^гаеть человека и синоним его целостности.

Гиппон считал местопребыванием «псюхе» голову, пифагореец Филолай — сердце, Протагор и
Аполлодор — грудь, а Демокрит полагал, что «псюхе» распределена по всему телу.
У гомеровского человека понятие «самости» как чего-то внутреннего еще отсутствует, он не
может говорить «сам с собой». Изречение дельфийского оракула «Познай самого себя!»
первоначально просто напоминало человеку о его бессилии перед лицом богов. В древнегреческой
философии эта формула постепенно на-
* Onians R. В. The Origins of European Thought about the Boby.., 1951.
21
полняется все более богатым содержанием. Уже Гераклит говорит о «поисках себя» и «познании
себя»
4
Демокрит подчеркивает' автономию души и «собственного я» как критерия.нравственных оценок.
У софиста Горгия появляются выражения «предать самого себя», «причинить зло себе». Антифон
говорит о необходимости «властвовать собой» и «преодолевать себя». Сократическая философия
уже прямо подразумевает внутренний диалог. Среди рефлексивных формул, употребляемых
Платоном, встречаются и «самопознание» и речь, обращенная к самому себе и
«самопреодоление», доходящее в некоторых случаях до «войны» с собой, и
«самосовершенствование».
Индивидуально-личностное начало ранее всего складывается и проявляется в поэзии, особенно в
лирике (начиная уже с Архилоха). Напряженность чувств позволяет выразить свою
индивидуальность ярче и сильнее. Удивление силой собственного чувства толкает к новым, более
сложным формам рефлексии. Особенно наглядно это видно на примере возникновения совести.
Более высокий уровень интериоризации социальных норм означает появление индивидуально-
личностного контрольного механизма — совести. Негативный полюс ее — чувство и сознание
вины. В отличие от стыда, побуждающего человека смотреть на себя глазами каких-то «значимых
других», чувство вины является внутренним и субъективным, означая суд над самим собой.
Древнегреческая культура, даже в пору ее расцвета,— классический пример «культуры стыда».
Как пишет А. Адкинс, «для победителя сам факт победы означает kalon (нечто прекрасное,
достойное похвалы), как для побежденного факт поражения — всегда aischron (нечто постыдное,
низкое), каковы бы ни были обстоятельства победы и поражения или права сторон» .
Но в понятие стыда греческие философы нередко включали также элементы вины и совести. Уже
у Демокрита понятие стыда приобретает помимо внешнего внутреннее измерение: «Нужно, чтобы
человек, сделавший нечто постыдное, чувствовал сначала стыд перед собой».
Древнегреческая философия не знает идеи формирования и развития человека. Объясняя
человеческое поведение, греческие авторы неизменно апеллируют к объективным условиям или
божественной воле. Но всегда ли это следует понимать буквально?
В «Законах» Платон пишет, что «каждый из нас — это единое целое», вместе с тем «каждый имеет
в себе двух противоположных и неразумных советчиков: удовольствие и страдание» .
В гносеологии и в этике Платон подчеркивает зависимость человека от полиса. Но признание
этого не означало, что грек готов
* Adkins A. W. H. Merit and Responsibiiitv, 1960.
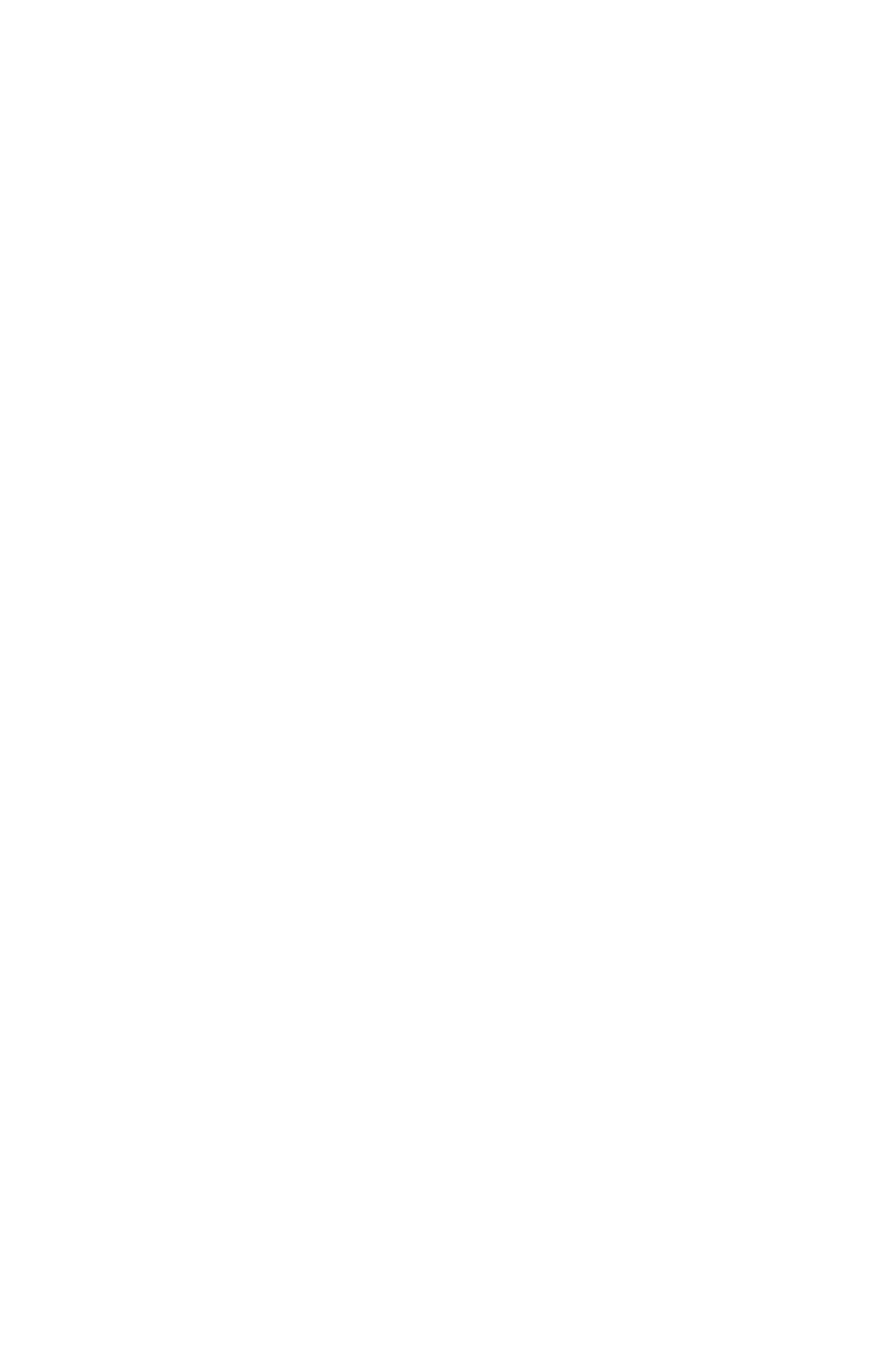
* Платон, соч. в 3-х т. М., 1972, т. 32.2,"с. 108.
22
был себя считать простым агентом чьей-то чужой воли. Стержень всего античного мировоззрения
— противоположность свободного
и
раба. Для грека раб — всякий, кто не распоряжается сам
собой, живет под властью другого. Отсюда выдвижение на первый план силы, власти, могущества,
независимости от других как важнейших человеческих качеств. Это связано и с высокой
соревновательностью всего афинского образа жизни. Высоко ценится самоконтроль; сила
человека, учат греки, проявляется в умении не только сохранять независимость от других, но и
подчинять собственные страсти.
Как ни противоречива античная концепция человека, в ней постепенно выкристаллизовываются
следующие основные идеи: 1) человек занимает особое, высшее место в организации Вселенной;
2) индивид принадлежит не только государственной общности, но и человечеству в целом; 3) это
дает ему социальную и психологическую автономию, личное достоинство и права; 4) индивид
обязан контролировать и регулировать свое поведение, а важнейшее средство этого —
рациональное самопознание.
Христианское понимание человека отличается от античного прежде всего тем, что человек не
чувствует себя органической частью, моментом космоса; по замыслу бога он выше космоса, но в
силу своего грехопадения его положение пошатнулось и он полностью зависит от божественной
милости. В связи с этим интересно будет рассмотреть такое человеческое проявление, как
отношение к трагическому в жизни и культуре.
§ 4. ТРАГИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ТВОРЧЕСТВЕ
Когда ты постигнешь все тайны жизни, то будешь стремиться к смерти, ибо она не что иное,
как еще одна тайна жизни.
Д. Джейран
В истории человечества нет сколько-нибудь примечательной эпохи, которая не была бы насыщена
трагедийными событиями. Человек смертен, и каждая личность, живущая сознательной жизнью,
не может так или иначе не осмыслить своего отношения к смерти и бессмертию.
Наконец, большое искусство в своих философических размышлениях о мире всегда внутренне
тяготеет к трагедийной теме.
Каждая эпоха вносит свои черты в трагическое и наиболее выпукло подчеркивает определенные
стороны его природы.
Греческой трагедии присущ открытый ход действий. Пружины сюжета и результаты действия
обнажены. Гибель и несчастия трагического героя заведомо известны. И в этом наивность,
свежесть и красота древнегреческого искусства.
Такой ход действия играл большую художественную роль, усиливая трагическую эмоцию зрителя.
Например, Еврипид «сообщал зрителю гораздо раньше о всех тех бедствиях, какие должны
разразиться над головою его действующих лиц, стремясь внушить сострадание к ним еще тогда,
когда они сами были далеки от того, чтобы считать себя заслуживающими сострадания». (Г. Э.
Лес-синг)
Героям античной трагедии часто присуще знание будущего. Прорицание, предсказания, вещие
сны, вещие слова богов и оракулов — все это органично входит в мир трагедии, ничуть не снимая,

не притупляя интереса зрителя. «Занимательность», интерес-ность для зрителя в греческой
трагедии прочно основывались не столько на неожиданных поворотах сюжета, сколько на логике
действия. Весь смысл трагедии
1
заключался не в необходимой и роковой развязке, а в характере
поведения героя. Здесь важно то, что происходит, и особенно то, как происходит.
Герой античной трагедии действует и в русле необходимости. Он не в силах предотвратить
неотвратимое, но он борется, действует, и только через его свободу, через его действия и
реализуется то, что должно произойти. Не необходимость влечет героя к развязке, а он сам
приближает ее, осуществляет свою трагическую судьбу.
Таков Эдип в трагедии Софокла «Эдип — царь». По своей воле, сознательно и свободно
доискивается он до причин несчастий, павших на голову жителей Фив. И когда оказывается, что
«следствие» грозит обернуться против главного «следователя» и что виновник несчастья Фив —
сам Эдип, убивший по воле рока своего отца и женившийся на своей матери, он не прекращает
«следствия», а доводит его до конца.
Такова и Антигона — героиня другой трагедии Софокла.
В отличие от своей сестры Исмены Антигона не подчиняется приказу Креонта, под страхом
смерти запрещающего похоронить ее брата, который сражался против Фив. Закон родовых
отношений, выражающийся в необходимости похоронить тело брата, чего бы это ни стоило,
одинаково действует по отношению к обеим сестрам, но Антигона потому и становится
трагической героиней, что она в своих свободных действиях осуществляет эту необходимость.
Античный хор поет об Антигоне:
В цвете юности, свободно Ты за долг идешь на смерть.
В средние века трагическое выступает не как героическое, а как мученическое, оно раскрывает
сверхъестественное. Его цель — утешение.
24
Прометей Эсхила «страждет за человеколюбие» и расплачивается за передачу людям огня; он
восхищает своей смелостью, несгибаемостью, вызывает трагический ужас перед колоссальностью
бед и мук, павших на его долю. Хор поет, возвеличивая героиче-. ское начало в Прометее:
Ты сердцем смел, ты никогда Жестоким бедам не уступишь.
В отличие от Прометея восприятие трагедии Христа насквозь пронизано страдательными,
скорбными нотами, освещено мученическим светом. Это хорошо показано в литургической драме
«Плач трех Марий»:
«Мария старшая (...здесь она целует Магдалину и обнимает ее обеими руками): Оплакивая
скорбно вместе со мной (здесь она показывает на Христа) смерть моего сладчайшего сына...
Мария Магдалина (здесь она приветствует Марию обеими руками): мать Иисуса распятого (здесь
она вытирает слёзы), вместе с тобой я буду оплакивать смерть Иисуса...
Мария, мать Иакова (здесь она указывает по кругу на всех присутствующих и потом, поднеся руку
к глазам, говорит):
«Кто есть здесь, кто не заплакал бы, если бы он увидел мать Христа в такой скорби...»
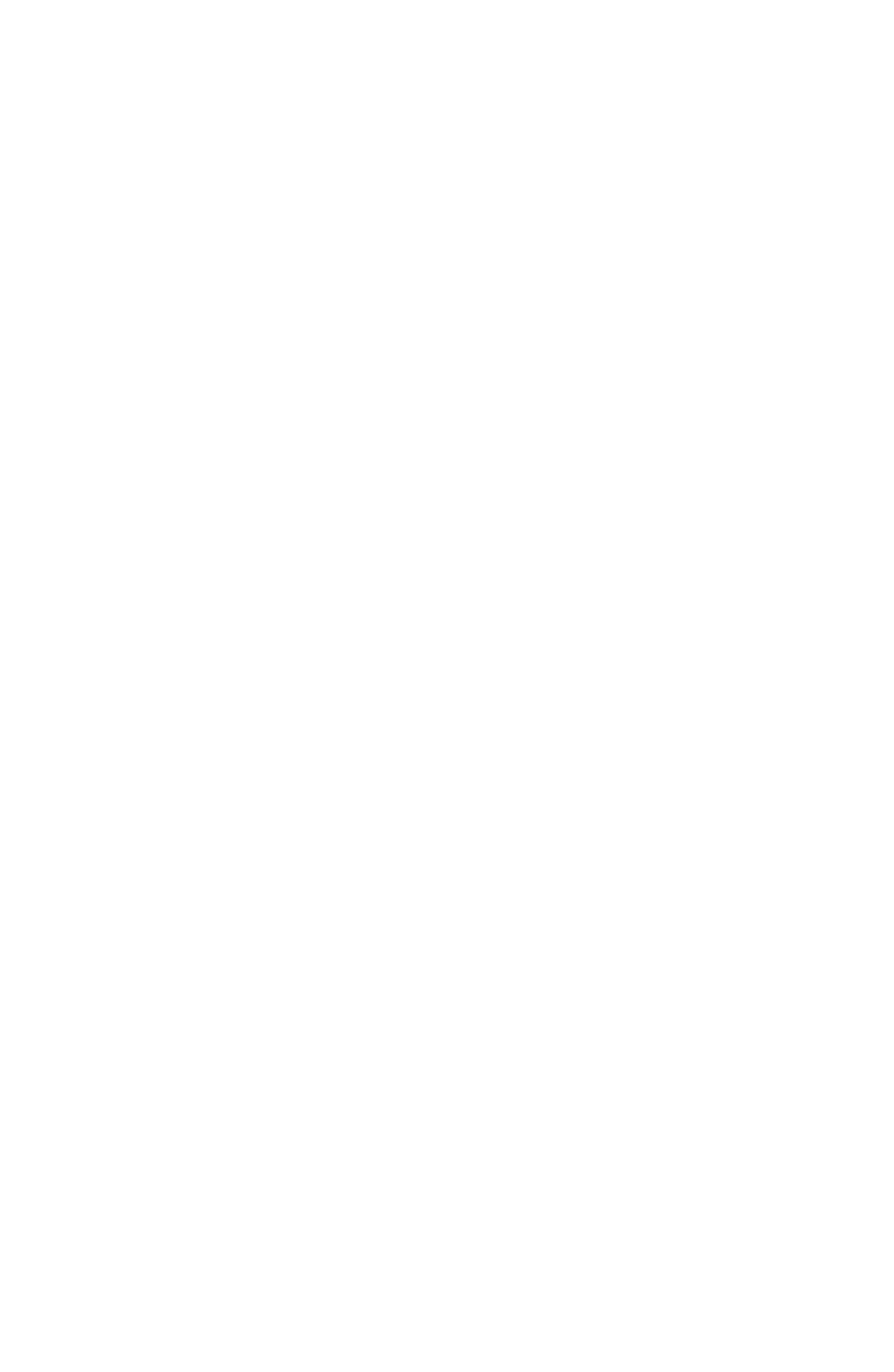
В средневековом театре всячески подчеркивалось мученическое, страдательное начало в актерское
трактовке образа Христа. Порой актер настолько «вживался» в образ распятого, что и сам
оказывался недалек от смерти.
Вот как описывает один из современников исполнение мистерии страстей в Меце (1437 г.): «И
исполнил роль господа бога священник по имени Николь... Жизнь упомянутого кюре была в
большой опасности, и он едва не умер, будучи на кресте, так как у него перестало биться сердце, и
он бы умер, если бы ему не оказали помощь».
Героями христианской трагедии большей частью были мученики.
«Но мы живем в такое время, когда голос здравого рассудка раздается слишком громко, чтобы
всякий сумасброд, который охотно идет на смерть без всякой нужды, презрев свои гражданские
обязанности, смел притязать себя на титул мученика».
Г. Э. Лессинг
Средневековой трагедии чуждо понятие катарсиса. Это не трагедия очищения, а трагедия
утешения. Не случайно сказание о Тристане и Изольде заканчивается словами, обращенными ко
всем страдающим от любви: «Пусть найдут они здесь утешение в непо-
25
стоянстве и несправедливости, в досадах и невзгодах, во всех страданиях любви».
Для средневековой трагедии утешения характерна логика: тебе плохо, но они (герои, а вернее,
мученики трагедии) лучше тебя, и им хуже, чем тебе, поэтому утешайся в своих страданиях тем,
что бывают страдания горше, а муки тяжелее у людей, еще меньше, чем ты, заслуживающих
этого. Утешение земное (не ты один страдаешь) усиливается утешением потусторонним (там ты
не будешь страдать и тебе воздастся по заслугам).
Если в античной трагедии самые необычные вещи совершаются вполне естественно, то в
средневековой трагедии важное место занимает сверхъестественность, чудесность происходящего.
На рубеже средневековья и эпохи Возрождения возвышается величественная фигура Данте. На его
трактовке трагического лежат глубокие тени средневековья и вместе с тем сияют солнечные
отблески надежд нового времени.
У Данте нет сомнения в необходимости вечных мучений Фран-ческо и Паоло, своей любовью
нарушивших моральные устои своего века и монолит существующего миропорядка,
пошатнувших, преступивших запреты земли и неба. И вместе с тем в «Божественной комедии»
отсутствует второй «столп» эстетической системы средневековой трагедии —
сверхъестественность, волшебство. Для Данте и его читателей абсолютно реальна география ада и
реален адский вихрь, носящий влюбленных. Здесь та же естественность сверхъестественного,
реальность нереального которая была присуща античной трагедии.
И именно этот возврат к античности на новой основе делает Данте одним из первых выразителей
идей Возрождения.
Трагическое сочувствие Данте Франческе и Паоло куда более откровенно, чем у безымянного
автора сказания о Тристане и Изольде — своим героям.
У последнего это сочувствие противоречиво, непоследовательно, оно часто или сменяется
моральным осуждением, или объясняется причинами волшебного характера (сочувствие людям,

выпившим волшебное зелье). Данте прямо, открыто, исходя из побуждений своего сердца,
сочувствует Паоло и Франческе, хотя и считает непреложным то, что они должны быть обречены
на вечную муку, и раскрывает трогательно-мученический (а не героический) характер их
трагизма:
Дух говорил, томимый
страшным гнетом, « Другой рыдал, и мука их
сердец
26
/
Мое чело покрыло смертным
потом; И я упал, как падает
мертвец.
Средневековый человек объяснял мир богом. Человек нового времени стремился показать, что
мир есть причина самого себя. В философии это выразилось в классическом тезисе Спинозы о
природе как causa sui (причине самой себя). В искусстве этот принцип на полвека раньше
воплотил и выразил Шекспир. Для него весь мир, в том числе сфера человеческих страстей и
трагедий, не нуждается ни в каком потустороннем объяснении, в его основе лежит не злой рок, не
бог, не волшебство или злые чары. Причина мира, причины его трагедий — в нем самом.
Ромео и Джульетта несут в себе обстоятельства своей жизни. Из самих характеров рождается
действие. Роковые слова: «Зовут его Ромео: он сын Монтекки, сын вашего врага» — не изменили
отношения Джульетты к возлюбленному. Она не скована никакими внешними
регламентирующими началами. Единственная мера и движущая сила ее поступков — это она
сама, ее характер, ее любовь к Ромео.
Эпоха Возрождения по-своему решала проблемы любви и чести, жизни и смерти, личности и
общества, впервые обнажив социальную природу трагического конфликта.
Трагедия в этот период открыла состояние мира, утвердила активность человека и свободу его
воли. Трагический характер сплавлен из особого материала; казалось бы, суть трагедии Гамлета —
в тех событиях, которые с ним произошли. Но подобные несчастья обрушились и на Лаэрта.
Почему же мы не говорили о его трагедии? Лаэрт пассивен, а Гамлет сам, сознательно, идет
навстречу трагическим обстоятельствам. Он выбирает схватку с «морем бед». Именно об этом
выборе и идет речь в знаменитом монологе:
Быть или не быть,
Вот в чем вопрос.
Достойно ль
смиряться под ударами
судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье.
