Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография
Подождите немного. Документ загружается.

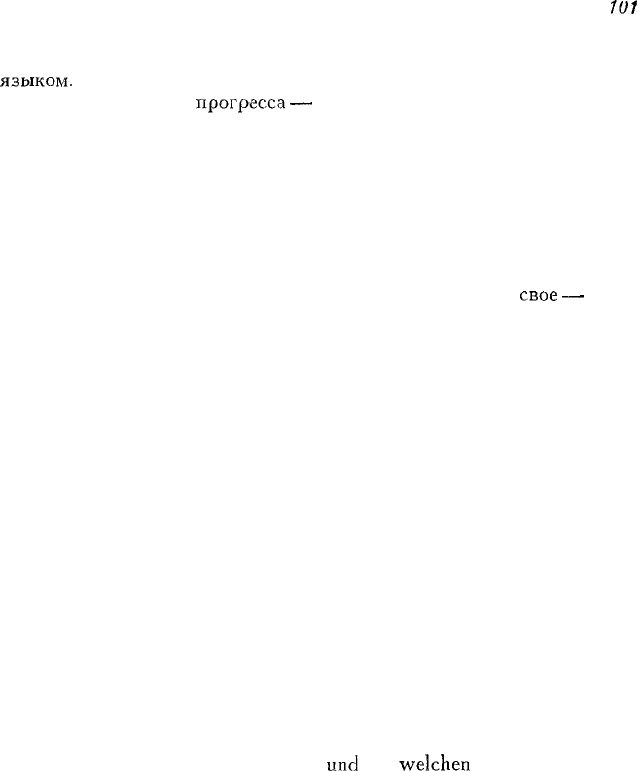
Шиллгр
роды, как делает Кант,— значит пользоваться мифологическим
2б) Цель этого
не в будущем, как считает Кант.
История совершается не в будущем, а в настоящем. Задача исто-
рика состоит в том, чтобы показать, как возникло настоящее;
он не может показать, как возникнет будущее, ибо не знает, каким
оно окажется.
3) Конечно, в ходе исторического процесса возникает челове-
ческая рациональность, но это отнюдь не означает исчезновения
человеческой иррациональности. И опять перед нами слишком
жесткая антитеза.
4) Страсти и невежество, несомненно, сделали
и не-
маловажное — дело в истории прошлого, но они никогда не были
простыми страстями и простым невежеством. Они скорее были
слепой, заблуждающейся волей к добру и смутной, вводящей
в заблуждение мудростью.
§ 4. ШИЛЛЕР
Самым прямым последователем Канта в области теории исто-
рии и теории искусства был поэт Шиллер. Он был проницатель-
ным и одаренным мыслителем и скорее блестящим дилетантом
в философии, чем упорным тружеником, как Кант. Но, будучи
выдающимся поэтом и профессиональным историком (в то время,
когда он занимал кафедру истории в Йенском университете),
он имел и некоторые преимущества перед Кантом. Именно по-
этому, как и в отношении философии искусства Канта, которую
он переинтерпретировал, приблизив ее к непосредственному опыту
поэта-творца, он переинтерпретировал его философию истории,
приблизив ее к непосредственному опыту профессионального исто-
рика. Очень интересно поглядеть, как этот опыт позволяет ему
преодолеть некоторые ошибки кантовской теории в его вступи-
тельной лекции в Йене в 1789 г.
Лекция названа «Was heißt
zu
Ende studiert man
Universalgeschichte?» *. Шиллер следует за Кантом, защищая не-
обходимость изучения всеобщей истории и признавая, что она
требует философского склада мышления наряду с исторической
эрудицией. Он рисует нам живую картину полной противополож-
ности между Brotgelehrte, ученым-поденщиком (профессиональ-
ный исследователь с его засушенным отношением к голым фактам,
дающим только сухой скелет истории, человек, честолюбивые по-
мыслы которого направлены на то, чтобы стать по возможности
максимально узким специалистом, узнавая все больше и больше
о все меньшем и меньшем), и историком-философом, который
«Что называется всемирной историей и с какой целью ее изучают» (нем.).
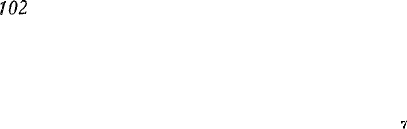
Идея истории. Часть III
предметом своего исследования считает все прошлое человечество,
а свою задачу видит в установлении связей между фактами и в
открытии главных стадий исторического процесса. Историк-фило-
соф добивается всего этого эмпатическим
проникновением в дей-
ствия людей, описываемые им. В отличие от естествоиспытателей,
исследующих природу, он не стоит над фактами как простыми
объектами познания, а, напротив, погружается в них и в своем
воображении переживает их как события собственной жизни.
Фактически это исторический метод романтической школы; Шил-
лер здесь только соглашается с Кантом в необходимости философ-
ского, резко отличающегося от просто эрудитского подхода к
истории, и утверждает, что этот подход тождествен подходу
романтизма, для которого эмпатия становится интегральным эле-
ментом исторического знания, элементом, позволяющим проник-
нуть в глубины фактов, которые оно изучает.
Всеобщая история, понятая таким образом, превращается в
историю прогресса от первичных состояний дикости до современ-
ной цивилизации. В этом Шиллер согласен с Кантом, но при двух
важных оговорках. 1) В то время как Кант переносит цель про-
гресса в золотой век будущего, Шиллер видит ее в настоящем
и утверждает, что конечная задача всеобщей истории — показать,
как настоящее со всеми его атрибутами (современные языки,
современное право, современные социальные институты, современ-
ное платье и т. д.) стало тем, что оно есть. Здесь Шиллер суще-
ственно улучшает теорию Канта, основываясь, несомненно, на
опыте собственных исторических работ, которые показали ему, что
история не проливает света на будущее и что последовательность
исторических событий не может быть экстраполирована за преде-
лы настоящего. 2) Тогда как Кант ограничивает область истории
исследованием политической эволюции, Шиллер включает в нее
историю искусства, религии, экономики и т. д., и здесь он снова
совершенствует теорию своего предшественника.
§ 5. ФИХТЕ
Другим учеником Канта, плодотворно развившим его взгляды
на историю, был Фихте, который в 1806 г. в Берлине опубликовал
свои лекции «Основные черты современной эпохи». Фихте, усмат-
ривая в настоящем тот фокус, в котором сходятся линии истори-
ческого развития, согласен с Шиллером и соответственно расходит-
ся с Кантом. Отсюда главная задача историка для него — понять
гот период истории, в котором он живет. Каждый период истории
имеет свой, особый характер, накладывающий отпечаток на все
стороны жизни, и в лекциях Фихте ставит задачу исследовать
специфический характер своего времени, показать, каковы его
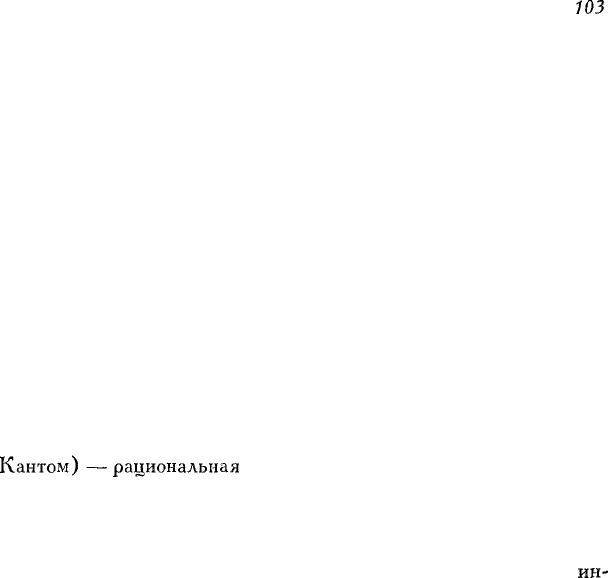
Фихте
главные черты и то, как они определяют все остальные его при-
знаки. Он формулирует эту задачу, утверждая, что каждая эпоха
представляет собой конкретное воплощение одной идеи или поня-
тия, и фактически принимая кантианскую доктрину о том, что
история в целом — это реализация некоего плана, развитие, напо-
минающее движение драматического сюжета; он считает, что фун-
даментальные идеи или понятия сменяющих друг друга эпох обра-
зуют определенную последовательность, которая, будучи последо-
вательностью понятий, имеет логический характер, так что одно
понятие необходимо влечет за собой другое. Таким образом, тео-
рия логической структуры понятий служит Фихте ключом к
периодизации истории.
Каждое понятие, считает он, обладает логической структурой,
имеющей три фазы: тезис, антитезис, синтез. Понятие сначала
воплощается в чистой, или абстрактной, форме; затем оно порож-
дает собственную противоположность и реализует себя как анти-
тезис себе самому и своей противоположности; затем этот анти-
тезис преодолевается отрицанием этой противоположности. Далее,
фундаментальное понятие истории (и здесь Фихте снова следует
за
свобода. Но свобода, как и любое
иное понятие, должна в своем развитии пройти через эти необхо-
димые стадии. Отсюда — началом истории оказывается эпоха,
в которой рациональная свобода представлена в абсолютно про-
стой или непосредственной форме без какой бы то ни было про-
тивоположности: свобода здесь существует в форме слепого
стинкта свободы делать что хочешь. Общество же, конкретно
воплощающее это понятие, оказывается естественным состоянием
людей, примитивным обществом; в нем нет правительства, влас-
ти, а люди делают, насколько им позволяют условия, то, что им
представляется наилучшим.
Однако в соответствии с общими принципами философии
Фихте свобода этого грубого или непосредственного типа может
развиться в истинную свободу, лишь породив свою противопо-
ложность. Отсюда по логической необходимости наступает вторая
стадия исторического развития, на которой индивидуум свободно
ограничивает себя, создавая власть над собой, власть правителя,
подчиняющего его законам, не им самим установленным. Это
период авторитарного правительства, когда свобода как таковая
кажется исчезнувшей. В действительности же она не исчезла,
а только перешла в новую стадию развития, на которой породила
свою противоположность (правитель, как показал Гоббс, появ-
ляется на исторической сцене благодаря свободному акту общей
воли людей, которые в силу этого добровольно становятся под-
данными), для того чтобы стать свободой нового и лучшего типа,
т. е. стать тем, что Руссо называл гражданской свободой в от-
личие от естественной свободы. Но Гоббс заблуждался, считая,
что процесс развития свободы на этом приостанавливается. Эта

Идея истории. Часть III
противоположность свободе должна быть снята на третьей ста-
дии, революционной стадии развития, на которой власть отвер-
гается и разрушается не потому, что это дурная власть, а просто
потому, что она власть. Подданные начинают понимать, что они
могут обойтись без власти, и берут дело управления в свои руки,
совмещая в себе одновременно и сюзерена, и подданного. Здесь
разрушается только внешнее отношение между властью и теми,
над кем эта власть осуществляется. Революция — не анархия,
она — захват власти подданными. С этого момента различие меж-
ду управляющими и управляемыми сохраняется как реальное раз-
личие, но это различие, не вызывающее разногласий. Одни
и те же люди управляют и управляемы.
Фихте на этом не останавливается. Он не отождествляет свою
эпоху с эпохой революций. Он считает, что его современники про-
шли через нее. Понимание индивидуума как личности, носящей
в себе источник власти над собою,— революционная идея в ее
самой первоначальной и грубой форме. Но и это понятие также
должно породить свою противоположность, а именно идею объек-
тивной реальности, воплощенной истины, которая существует сама
по себе и является критерием познания и руководством к дей-
ствию. Данная стадия развития представлена наукой, где объек-
тивная истина господствует над мыслью, а правильное поведение
означает поведение в соответствии с научным познанием. Научный
склад ума фактически контрреволюционен: мы можем разрушить
человеческую тиранию, но не можем разрушить факты; вещи то,
что они есть, а их следствия будут такими, какими они будут,
и если мы способны отменить человеческие законы, то мы не
в силах отменить законы природы. Но и на сей раз антагонизм
между духом и природой может и должен быть снят, и его пре-
одоление означает возникновение нового вида рациональной сво-
боды, свободы искусства, где дух и природа воссоединены и дух
признает в природе своего двойника и относится к ней не как
к чему-то, что его подчиняет, но с симпатией и любовью. Деятель
отождествляет себя с тем, во имя чего он действует, и добивается
таким образом наивысшей степени свободы. Это Фихте и считает
характерной чертой своего времени: свободная самоотдача инди-
видуума цели, которую он, несмотря на то что она объективна,
рассматривает как свою собственную.
Главная трудность, с которой сталкивается читатель, имеющий
дело с философией истории Фихте, состоит в том, что трудно
найти в себе силы смириться с ее кажущимися глупостями.
В частности, две особо вопиющие ошибки постоянно присутствуют
во всех его рассуждениях: 1) идея, что современное состояние
мира — полное и окончательное завершение всего того, к чему
стремилась история; 2) идея, что историческую последователь-
ность эпох можно определить априорно, обратившись к абстракт-
но-логическим соображениям. Однако я думаю, что в обеих этих

Фихте 105
идеях содержится некоторое зерно истины вопреки всей их кажу-
щейся глупости.
1) Историк (а в равной мере и
бог, глядящий
на мир сверху и со стороны. Он человек, и человек своего места
и времени. Он смотрит на прошлое с точки зрения настоящего,
он смотрит на другие страны и цивилизации с собственной точки
зрения. Эта точка зрения правильна только для него и для
людей, находящихся в таких же условиях, как он. Но для него
она правильна. Он должен твердо придерживаться ее, потому что
только она и доступна ему, а если у него не будет точки зрения,
он вообще ничего не увидит. Например, оценки достижений сред-
них веков неизбежно будут отличаться друг от друга в зависи-
мости от того, является ли историк человеком восемнадцатого,
девятнадцатого или двадцатого столетия. Мы в двадцатом сто-
летии знаем, как относились в восемнадцатом и девятнадцатом
веках к средним векам, и мы знаем также, что не можем раз-
делить тогдашнюю точку зрения. Мы называем ее исторической
ошибкой и можем указать причины, по которым ее отвергаем.
Мы легко можем представить себе труд по средневековой исто-
рии, выполненный гораздо лучше, чем в восемнадцатом веке;
но мы не можем представить себе такого труда, чтобы он был
лучше, чем в наше время, потому что если бы мы имели ясное
представление о том, как его сделать лучше, мы и смогли бы
сделать его лучше, а тогда он стал бы свершившимся фактом.
Настоящее — это и есть наша собственная деятельность, мы осу-
ществляем ее настолько хорошо, насколько умеем, и, следователь-
но, с точки зрения настоящего, всегда должно иметь место совпа-
дение между тем, что есть, и тем, что должно быть, между
идеальным и реальным. Греки пытались быть греками, средние
века — средневековыми. Цель каждой эпохи быть самой собой,
поэтому настоящее всегда совершенно в том смысле, что ему все-
гда удается быть тем, чем оно пытается быть. Отсюда не следует,
что историческому процессу больше нечего делать; отсюда следует
лишь, что он совершил то, к чему стремился, и что мы не можем
сказать, какова будет его следующая цель.
2) Идея априорного построения истории представляется очень
глупой. Но здесь Фихте руководствовался идеей Канта о том,
что в знании любого рода имеются априорные элементы. В любой
области знания есть некоторые фундаментальные концепты *, или
категории, и соответствующие им некоторые фундаментальные
принципы, или аксиомы, относящиеся к форме или структуре этого
типа знания и выведенные (в соответствии с кантовской филосо-
фией) не из эмпирически данного предмета исследования, а из
специфической точки зрения познающего. В истории же общие
условия познания выводятся из того фундаментального принципа,
общие понятия {лат.).
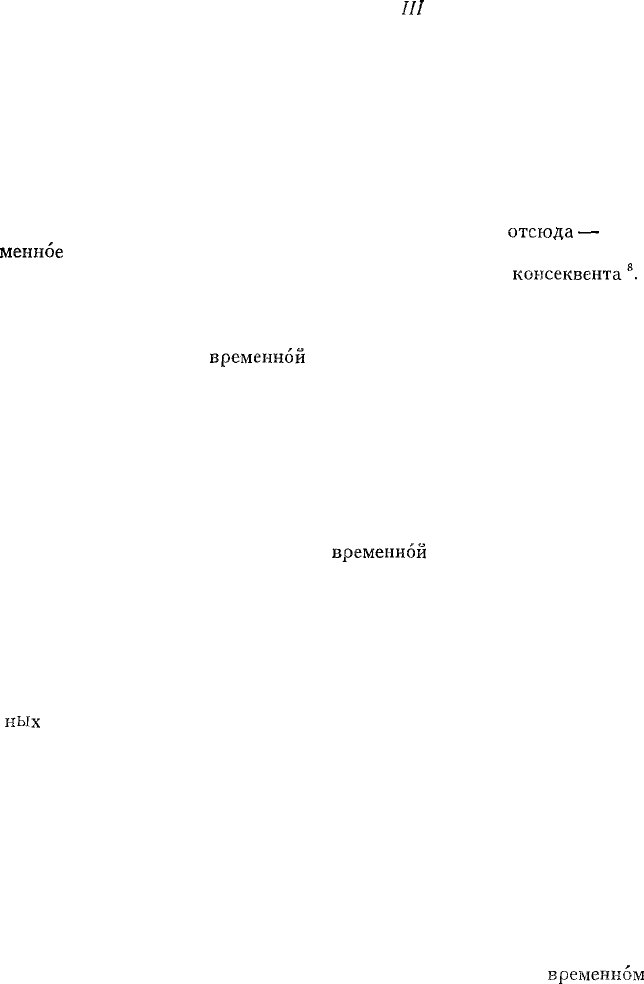
706
Идея истории. Часть
согласно которому познающий находится в своей современности
и видит прошлое с точки зрения этой современности. Первая
аксиома интуиции в истории (используя кантовскугс терминоло-
гию) гласит: каждое историческое событие локализуется где-то
в прошедшем времени. Это не обобщение, эмпирически выведенное
историком в ходе его исследований, это — априорное условие
исторического знания. Но, по кантовскому учению о схематизме
категорий, временные отношения выступают как схемы или фак-
туальные отображения концептуальных отношений;
вре-
отношение до — после является схемой концептуального
отношения логического антецедента и логического
Весь мир событий во времени поэтому становится схематическим
воспроизведением мира логических, или концептуальных, отноше-
ний. Поэтому попытка Фихте открыть концептуальную схему,
лежащую в основе
последовательности исторических
эпох, оказывается совершенно закономерным приложением к исто-
рии кантовского схематизма категорий.
Все это, конечно, слабая защита Фихте. Сказанное нами рав-
носильно утверждению того, что если он и сделал глупую ошибку
в своих рассуждениях об истории, то здесь он только воспроиз-
вел такую же ошибку, но более общего характера, сделанную
Кантом. Но всякий, кто называет эти положения глупыми ошиб-
ками, притязает на лучшее, чем у Канта или Фихте, понимание
отношений между логической и
последовательностью.
С тех пор как Платон в «Тимее» сказал, что время — это движу-
щийся образ вечности, философы большей частью соглашались
с тем, что существует какое-то отношение между этими двумя
последовательностями и что последовательность необходимости,
при которой одно событие во времени ведет к другому, в каком-то
отношении тождественна по своему характеру необходимой после-
довательности, при которой одна вещь ведет к другой в невремен-
логических рядах. Если это отрицать и доказывать, что вре-
менная последовательность и логическое следование не имеют
друг с другом ничего общего, то историческое знание становится
невозможным, ибо из этого следовало бы, что тем самым мы
теряем право сказать о любом событии: «Так и должно было
случиться»,— а прошлое никогда не могло бы стать объектом
логического размышления. Если временной ряд — просто совокуп-
ность несвязанных событий, мы никогда не смогли бы доказывать
от настоящего к прошлому. Но историческое мышление как раз
и состоит из ретроспективных доказательств такого рода, и по-
этому оно основывается на предположении (или априорном прин-
ципе, как сказали бы Кант и Фихте) о существовании внутрен-
них, или необходимых, связей между событиями во
ряде, так что одно событие необходимо ведет к другому и дока-
зательство от настоящего к прошлому вполне правомерно. В соот-
ветствии с этим принципом современное положение вещей могло
Фихте
107
возникнуть только одним-единственным способом, а история —
анализ современности с целью выявления единственно возможно-
го процесса возникновения этой современности. Я не защищаю
здесь конкретного метода реконструкции истории прошлого своей
эпохи, который применил Фихте; я считаю его совершенно
ошибочным, и эти ошибки (в той мере, в какой они оказываются
ошибками принципа) коренятся в том, что он вслед за Кантом
слишком резко отделял априорные элементы познания от эмпири-
ческих. Это деление заставляло его думать, что история может быть
реконструирована на чисто априорной основе, не обращаясь к эм-
пирическим свидетельствам документов; но, когда он доказывал,
что всякое историческое знание включает в себя априорные поня-
тия и принципы, он был прав и понимал природу истории лучше
тех людей, которые подсмеиваются над ним, считая историю чисто
эмпирической наукой.
В одном отношении философия истории Фихте представляет
собою значительный прогресс по сравнению с кантианской.
У Канта мы сталкиваемся с двумя концепциями, предполагаемы-
ми самим его учением об истории как таковой: 1) концепцией
плана природы, понятого как план, разработанный до его осуще-
ствления; 2) концепцией человеческой природы с ее страстями,
понимаемой как сырая материя истории, в которой этот план или
форма должны реализовать себя. Сама история тем самым оказы-
вается результатом наложения предустановленной формы на пред-
установленную материю. Исторический процесс при таком под-
ходе теряет свой подлинно творческий характер, это — просто
механическое соединение двух абстракций. Не делается никаких
попыток показать, почему они когда-либо должны соединиться
или даже почему каждая из них, не говоря уже об обеих, должны
вообще существовать. И действительно, кантовская теория осно-
вывается на ряде несвязанных допущений, в ней не делается ни-
каких попыток их обоснования.
Теория Фихте значительно проще логически и более защище-
на от критики, утверждающей, что она умножает сущности без
необходимости. Единственное, что предполагается ею для начала
истории,— само ее понятие со своей логической структурой и ди-
намическими отношениями между этими элементами. Движущей
силой истории, по Фихте, как раз и оказывается динамическое
движение этого понятия. Отсюда — вместо двух составляющих
кантовской философии, плана истории и ее движущей силы, мы
имеем у Фихте только одну, так как план у него оказывается
динамическим планом (логической структурой понятия), порож-
дающим из самого себя движущую силу для своей реализации.
Плоды этого открытия Фихте созреют у Гегеля.
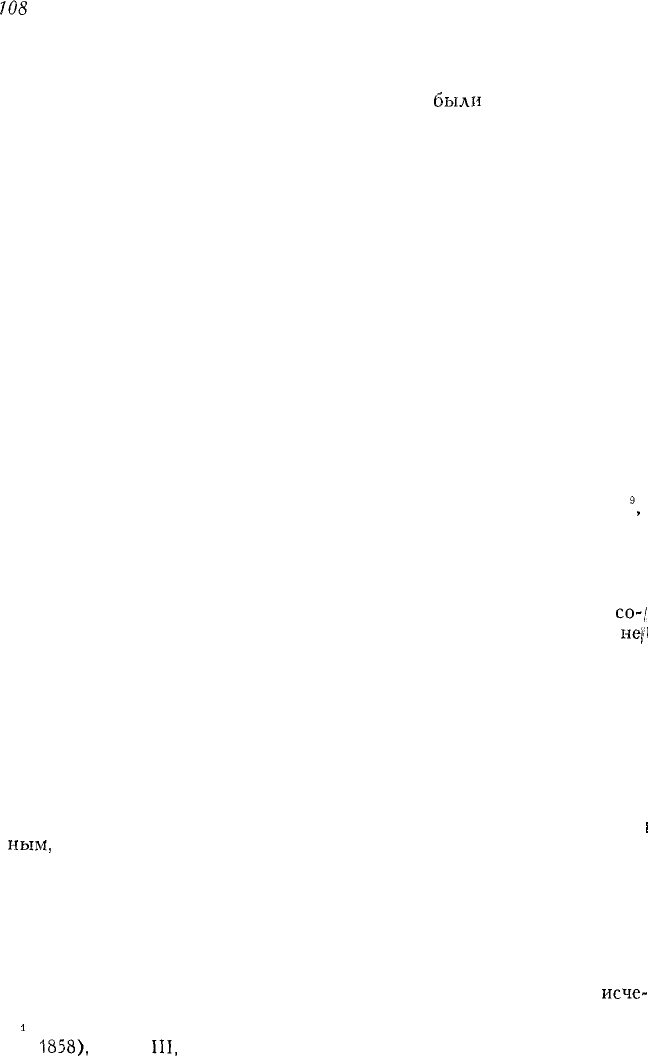
Идея истории. Часть III
§ 6. ШЕЛЛИНГ
Шеллинг был моложе Гегеля, и неясно,
ли те теории,
которые Гегель разделял с Шеллингом, плодом его самостоятель-
ных раздумий или же сложились под влиянием Шеллинга. Но, так
как Шеллинг создал систему философии (а может быть, и не
одну), включавшую его взгляды на историю, задолго до того,
как Гегель сделал первый набросок своей философии истории
в гейдельбергской Энциклопедии, целесообразнее вначале сказать
несколько слов о взглядах Шеллинга.
Шеллинг дал более систематическое развитие идеям Канта и
Фихте, и мысль его сосредоточивалась на двух основных прин-
ципах: во-первых, на идее, что все существующее познаваемо,
т. е. представляет собою воплощение рациональности, или, говоря
его словами, проявление Абсолюта; во-вторых, на идее отноше-
ния между двумя терминами, которые хотя и противоположны,
но именно поэтому оказываются воплощениями Абсолюта, причем
сам Абсолют в философии Шеллинга выступает как некое тожде-
ство, в котором снимается различие этих терминов. Это двучлен-
ное отношение проходит через всю его философию.
По Шеллингу % существуют две большие сферы познаваемого:
Природа и История. Каждая из них, будучи интеллигибельной
есть проявление Абсолюта, но последний воплощается в них про-
тивоположным образом. Природа состоит из объектов, распреде-
ленных в пространстве, а их интеллигибельность заключается
просто в способе их пространственного распределения, или в пра-
вильных и определенных отношениях между ними. История
стоит из мыслей и действий человеческих сознаний, которые
только интеллигибельны, но интеллигентны, т. е. интеллигибельны
для самих себя, а не просто для кого-то, отличного от них самих.
Следовательно, они представляют более адекватное воплощение
Абсолюта, так как содержат в себе обе части познавательного от-
ношения, они одновременно и объект, и субъект познания. Как
объективно интеллигибельная деятельность духа в истории необ-
ходима, как субъективно интеллигибельная она свободна. Ход
исторического развития поэтому заключается в генезисе завер-
шенного самосознания, осознающего себя одновременно и свобод-
и подчиняющимся законам, т. е. морально и политически
автономным (здесь Шеллинг следует за Кантом). Стадии, через
которые проходит это развитие, определены логической структу-
рой самого понятия (здесь он следует за Фихте). В самом общем
виде эти стадии могут быть разделены на две. Во-первых, это
фаза, когда человек понимает Абсолют как Природу, где реаль-
ность мыслится раздробленной и разбитой на отдельные реаль-
ности (политеизм) и где политические формы возникают и
«Система трансцендентального идеализма», 1800 (Stuttgart und Ausburg,
ч. 1, т.
с. 587—604.
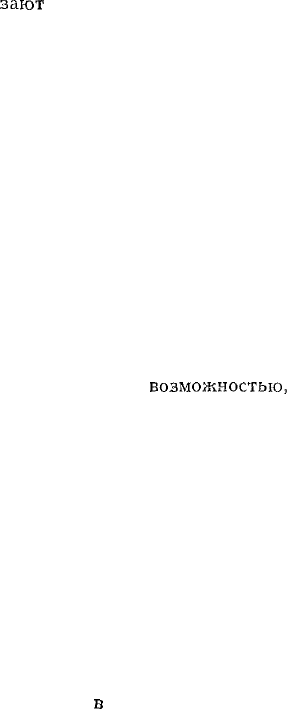
Гегель
109
как естественные организмы, не оставляя ничего после себя.
Во-вторых, это фаза, когда Абсолют понимается как История,
т. е. как непрерывное развитие, в котором человек свободно
осуществляет цели Абсолюта, сотрудничая с Провидением в реа-
лизации его плана развития человеческой рациональности. Это —
современная эпоха, в которой человеческая жизнь направляется
научной, исторической и философской мыслью.
Наиболее важной из доктрин, разрабатываемых здесь Шеллин-
гом, является доктрина, согласно которой к своему полному, совер-
шенному состоянию Абсолют приходит в истории. Даже Фихте
считал, что логическая структура понятия завершена до нача-
ла истории и является предпосылкой исторического процесса.
У Шеллинга динамическая структура Абсолюта не выступает в
качестве основания для динамического элемента в истории, она —
сама этот динамический элемент. Материальная вселенная всегда
была интеллигибельной, поскольку всегда являлась одним из
проявлений Абсолюта; но Абсолют не может быть отождествлен
с просто интеллигибельным, ибо простая интеллигибельность
является лишь
которая должна перейти в действи-
тельность в процессе реального познания. Природа qua * интелли-
гибельная требует для своего познания познающего и раскрывает
свою полную сущность только тогда, когда имеется дух, познаю-
щий ее. Тогда впервые появляется действительно познающий и
действительно познанное, а рациональность, которая и есть Абсо-
лют, поднимается до более высокого и более законченного прояв-
ления самой себя. Но здесь-то и возникает интеллигибельность
нового типа: сам дух становится не только познающим, но и по-
знаваемым, и, следовательно, Абсолют не может смириться с по-
ложением, имеющим место при познании природы; должна быть
новая стадия в его развитии, на которой дух познает самого себя.
По мере развития этого процесса самопознания новые его этапы
обогащают познающий дух, и в результате возникают новые объ-
екты для его познавательной деятельности. История — временной
процесс,
котором осуществляется прогрессирующее становление
как познавательной деятельности, так и познаваемого; это обстоя-
тельство и выражается в определении истории как самореализа-
ции Абсолюта, где последний означает разум как познаваемое и
разум как познающее.
§ 7. ГЕГЕЛЬ
С кульминацией этого историко-философского движения, нача-
того в 1784 г. Гердером, мы сталкиваемся в трудах Гегеля, кото-
рый в первый раз прочел свои лекции по философии истории в
как, в качестве (лаг.).
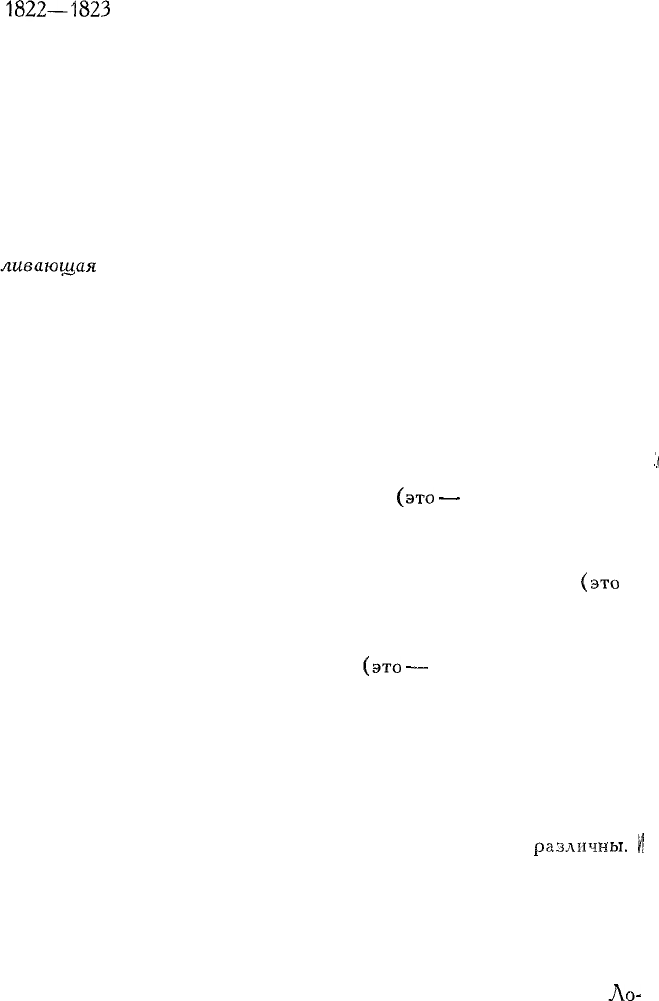
110
Идея истории. Часть III
гг. Всякий, кто читает его «Философию истории», не
может не считать ее глубоко оригинальной и революционной ра-
ботой, в которой история впервые во всем ее объеме выступает
на сцене философской мысли. Но, когда знакомишься с трудами
его предшественников, книга Гегеля кажется значительно менее
впечатляющей и значительно менее оригинальной.
Он предлагает в ней историю нового типа, которую и следует
называть философией истории (введение этого понятия и термина
восходит еще ко временам Вольтера). Но философия истории для
Гегеля — не философские раздумья над историей, а сама история,
поднятая на более высокую ступень и ставшая философской в
отличие от чисто эмпирической, т. е. история не просто устанав~ I
факты, но понимающая их, познающая причины того,
что эти факты произошли именно так, как они произошли. Эта
философская история будет всеобщей историей человечества
(здесь Гегель следует за Гердером) и даст картину прогресса от
первыбытных времен до современной цивилизации. Фабула ее
повествования — развитие свободы, тождественной с нравствен-
ным разумом человечества, проявляющимся во внешней системе I
социальных отношений. Отсюда собственным предметом истори-
ческого исследования оказывается вопрос о том, как возникло го-
сударство (все это взято у Канта). Но историк ничего не знает
о будущем, и история достигает кульминации не в Утопии буду-
щего, а в фактически данном настоящем
Шиллер). Свобода
человека совпадает с осознанием им своей свободы, так что раз-
витие свободы есть развитие сознания, процесс мысли или логи-
ческое развитие, в котором понятие свободы последовательно
проходит различные и необходимые фазы или моменты
—
Фихте). И наконец, философская история развертывает перед
нами не просто картину человеческого развития, она — космиче-
ский процесс, процесс, в котором мир приходит к реализации
самого себя в самосознании как дух
Шеллинг). Таким об-
разом, все характерные принципы философии истории Гегеля взя-
ты им у его предшественников, но он с чрезвычайным искусством
объединил их взгляды в теорию, настолько органично связанную
и цельную, что она заслуживает специального рассмотрения как
единое целое. Поэтому я и обращаю внимание читателя на некото-
рые ее отличительные особенности.
Во-первых, Гегель отказывается подходить к истории, как к
природе. Он настаивает на том, что природа и история
Каждая из них представляет собой процесс или совокупность про-'
цессов, ко при этом не возникает ничего нового, природа ничего
не строит, не созидает в этих круговращениях. Каждый восход
солнца, каждая весна, каждый прилив похожи на предыдущий.
Закон, управляющий циклом, не изменяется при повторении этого
цикла. Природа — система более или менее высокоорганизованных
организмов, причем высшие организмы зависят от низших.
