Колер И., Ранке И., Ратцель Ф. История человечества: доисторический период
Подождите немного. Документ загружается.


гается в больших и самых широких масштабах биржевой концентрацией. Подобно тому, как на рынке
нивелируются отношения и устанавливается рыночная цена, по | возможности независимая от
индивидуальных условий, точно так же мировая торговля и возможность получать товары с различных
сторон производит нивелирование и ведет к установке мировых цен. Эта установка лежит на обязанности
бирж. Биржа есть учреждение, где сходятся торговцы без товаров для взаимных торговых операций. Она
Существует с XVI столетия в Голландии, Англии,
58
Германии и во всех прочих культурных государствах. Она в еще большей мере приобрела характер
мирового института с тех пор, как с усовершенствованием способов передачи известий и особенно с
введением телеграфа и телефона явилась возможность переговоров между биржами различных стран в
любой момент, так что стояние цен на значительной части земли и даже на большей части ее, имеющей
значение для рынка, становится тотчас же известным.
Правда, всемирная торговля скрывает в себе серьезную опасность. Она оживляет спрос на продукты и повы-
шает его до бесконечности: но благодаря ей может случиться, что страна, находящаяся в неблагоприятных
условиях производства, сильно пострадает от мировых сношений, что производство в ней будет убито и
значительная часть населения обессилена. Всякий культурный прогресс связан с единичными
пертурбациями и задержками, но в данном случае остановка может разрастись в общий кризис, и
пертурбация повести к полному разорению масс, и притом быстрее, чем мы в состоянии будем направить
производство в другую сторону. Кроме того, ввиду разобщенности народов и возможности войн между
ними нежелательно, чтобы один народ всецело зависел от другого в отношении необходимых предметов по-
требления. Этим объясняются попытки уничтожить или ослабить известные последствия мировой торговли:
охранительная таможенная политика, дифференциальный тариф, вывозные премии и прочее. Все эти меры,
будучи применяемы в надлежащих рамках, весьма целесообразны, но при нерациональном пользовании ими
они, подобно всякому лекарству, могут принести вред.
Громадный переворот произойдет в том случае, если технике удастся восторжествовать и получить при
помощи химических операций не только отдельные естественные продукты, как, например, индиго, но и
самые важные вещества, средства для поддержания жизни. Искусственное получение белковых веществ
вызовет не только величайшие перевороты в условиях производства и во вза-
59
имном экономическом отношении государств, но и в социальном положении кругов населения. Я только
намечаю эту перспективу, так как пока мы не находимся даже] накануне такого великого завоевания.
До сих пор неоднократно указывалось, что освобождение от давления индивидуальных отношений и откры-
тие средств для борьбы с ними принадлежали к главным факторам культуры. С течением времени эти
вспомогательные средства играют все большую роль. Одним из таких средств, которое извлекает из
конкретных вещей абстрактную ценность, которое превращает присущую неподвижным телам ценность в
денежную силу, делает подвижным недвижимое имущество, влагая в него функцию денежной суммы,
скрытой в нем, как клая, является залоговый, ипотечный институт, поземельный кредит со всеми его
видоизменениями. Он основан на возможности выделить в качестве самостоятельного фактора полезную
силу, присущую вещи, и сделать его предметом оборота. Это одно из гениальнейших изобретений человече-
ства. Подобно большей части открытий, оно выросло из маленьких начал, из стремлений человека найти
выход из нужды, удовлетворить насущным потребностям, и затем было разработано при помощи
чрезвычайно остроумной и глубоко продуманной правовой конструкции.
На этом, однако, человечество не останавливается, оно изыскивает еще дальнейшие средства мобилизации.
Право ценностей принимает форму права ассоциаций: общество выделяется из суммы членов общества в
самостоятельную единицу или личность. Так возникают акционерные общества, пароходные,
горнопромышленные ассоциации, сущность которых заключается в том, что право пользования принимает
форму свободно передаваемых прав ценностей, следовательно, проходит все пути движимого имущества, а
стало быть, и все пути спекуляции движимостей. Этим дана возможность образования капитала, и вместе с
тем существенно облегчается накопление его. Правда, рядом с этим открывается возможность необузданной
спекуляции, ажиотажа, чисто
60
внешнего участия без интереса в деле, возможность злоупотреблений, которые порой наносили
чувствительные удары современному обществу.
Уже выше мы заметили, что торговля ведет к выселению за границу, к заселению чужих стран, к колониза-
ции. Большей частью речь идет о странах с более низкой культурой, где приходится создавать настоящие
поселения, так как мы не находим там почти ничего и должны на месте создавать средства, необходимые
для поддержания жизни. Колонизация почти неизбежно ведет к столкновению с туземцами, к войнам и
завоеваниям. Отдельные колонии превращаются, таким образом, в колониальное государство, которое более
или менее сохраняет связь с метрополией, служит местом широкого сбыта для многих произведений ее и
вместе с тем в случае надобности дает приют избытку народонаселения, не нарушая связи его с родиной.
Область экономического и национального влияния государства возрастает, хотя в то же время
увеличивается число слабых пунктов его, доступных нападению. При этом часто возникают центробежные
стремления, попытки отделения от метрополии. Так или иначе, но мы должны признать, что торговля, auri

sacra fames, была главным носителем культуры в этих странах.
Само собой разумеется, что такое усложнение жизни связано с переворотом во взаимном социальном
положении индивидуумов. Распределение жизненных благ между индивидуумами все более усложнятся.
Обладание рабочими силами, приобретенными собственной энергией, спекуляцией, наследственным или
иным путем, дает часто отдельным личностям громадный перевес. Это ведет к установлению различий
между господином труда, предпринимателем, и помощником труда, рабочим.
В прежние века цель достигалась посредством правового подчинения целых классов людей, которое дошло
до полного бесправия и поработило класс работников в пользу собственника и работодателя
(рабовладельческое хозяйство). Порядок этот усиливался благодаря наследственности рабства. Начало
рабства кроется в войнах и
61
охоте за людьми. В те времена, когда еще не было или •. было мало прирученных домашних животных,
когда не было машин, и орудия производства отличались крайним несовершенством, ведение широкого
хозяйства возможно было лишь при помощи человеческих сил. Организация свободного труда, рабочие
договоры и связанное с ними взаимное доверие были неизвестны. И что можно предложить рабочему как
эквивалент там, где земля имеется еще в избытке, где подвижного капитала мало и круг средств пользования
ограничен? Что можно ему дать, чего он не в состоянии гораздо вернее добыть собственным трудом?
Поэтому прибегали к принуждению: устраивали охоты за рабами, брали военнопленных, создавали
порабощенное рабочее население, которое распределялось по хозяйствам или жило в особых домах и
деревнях для рабов. Рабы пополнялись из их собственного потомства, затем из известной категории
преступников, а также несостоятельных должников.
Не у всех народов образовалось рабовладение, так как оно предполагает уже известную интенсивность хо-
зяйства, необходимость разделения труда и некоторую организацию его. Охотничьим народам, например,
краснокожим, нечего делать с рабами, иначе как приносить их в жертву умершим. Но и не у всех
земледельческих и промышленных народов мы встречаем рабство, или оно имеет у них лишь слабое
развитие. Так, незначительные следы его встречаются в праве ацтеков или в древнем праве Китая. У других
наций рабство, наоборот, имело форму крайнего угнетения. Кроме того, есть множество промежуточных
ступеней и промежуточных форм его. Часто рабу для поощрения обеспечивается известное так называемое
рабское имущество (peculium). Во многих случаях ему разрешается, кроме того, иметь семью и домашнее
хозяйство. Раб становится, таким образом, крепостным, который, будучи прикреплен к земле и обложен
податями, в остальном представляет субъекта с известными правами и обязанностями. Эти крепостные
мало-помалу эмансипируются и становятся свободными.
62
Случаи отпущения на волю встречаются, впрочем, и во времена рабства, и тогда раб имеет возможность
стать господином. Такое внезапное дарование свободы не всегда безопасно. У некоторых народов,
например, в эпоху римских императоров, бесчисленные массы освобожденных рабов с их чужеземной
кровью и экзотическими воззрениями являлись серьезной опасностью для народной жизни. В других
странах вековое закрепление больших общественных слоев тормозило население и мешало его
нравственному и умственному подъему. Не раз насильственное подавление влекло за собой кровавые бойни
и гибельные перевороты.
Развитие свободного рабочего класса вместе с рабочим договором составляет одну из важнейших глав в ис-
тории современной культуры. Ремесла и промышленность служили главной ареной этого развития. Ремеслу
нужно учиться годами, нужно выдержать и продолжительную пробу на ступени подмастерья; при этом
подмастерье, который желает стать со временем мастером, живет долгое время на продовольствии и
жаловании у мастера, состоит в известном рабочем договоре с ним. Союз мастеров, образование цеха с его
цеховыми статутами выдвигает эти служебные отношения за пределы частного договора. Подмастерье не
только живет на хлебах у мастера: он вместе с тем член цеха, находится под его контролем и охраной.
Фабричное производство изменят положение рабочего. Он более не производит сам, и роль его сводится к
управлению машиной, к уходу за ней, при чем он лишь немного способствует совершенству продукта.
Рабочий не трудится уже совместно с хозяином, так как умственная работа последнего принципиально
отделяется от ручного труда первого. Среди населения создается как бы глубокая противоположность
между руководящей головой и действующей рукой. И так как очень часто в лице руководителя является
капиталист, то получается антагонизм между капиталом и ручным трудом. Этот антагонизм по мере
подавления ремесленного труда возра-
63
стающей мошью фабричного производства обостряется, и условия, при которых умственный и физический
труд соединяются в одном лице, все более исчезают.
Что касается работодателей, то, как мы уже заметили, они либо занимают индивидуалистическое положе-
ние, либо образуют товарищества, цеховой союз. Последний долгое время преобладает, зародыш его лежит
в самом происхождении свободного ремесла от общинного. Это союз, против которого отдельная личность
бессильна, союз оборонительный и наступательный, с установлением определенных норм, главным образом
норм для борьбы с препятствиями.
У некоторых народов цех сливается с семьей: члены цеха пополняются из их собственного потомства.

Стремление к подобного рода наследованию можно отметить еще в очень ранние времена: уже у
первобытных народов некоторые классы, например, класс колдунов, наследственны. Самым совершенным
воплощением подобной застывшей наследственной системы являются касты в Индии, большей частью они
выливаются в форму профессиональных, ремесленных каст, которые повелительно втягивают потомство в
свой круг. У других народов выработалась преимущественно система зятьев или же отвергается всякая
система, и отдельной личности предоставляется свобода выбора среди цехов и избрания по желанию того
или другого ремесла. Благодаря этому поддерживалась жизненность ремесел и устранялась неподвижная
замкнутость их. Правда, настаивали на том, чтобы будущий мастер был порядочного происхождения, но
совсем не требовалось, чтобы сын непременно шел по стопам отца.
Цехи приобретали нередко такую силу, что привлекали на свою сторону правовой порядок и добивались
монополии: только принадлежавший к цеху имел право вступать в круг данного рода сношений. Или же
цеховая замкнутость разрывалась, и на место права совокупности становилось право индивидуального
самоопределения: таким образом создавалась борьба взаимного сопер-
64
ничества. С того времени свободная конкуренция становится лозунгом. Она расшатывает застывшие
цеховые формы, ведет к интенсивному развитию индивидуума, является источником ряда движений вперед.
Она предает гласности тайну цеха, освобождает от укоренившихся предрассудков ремесла, поощряет дух
изобретательности, создает новые формы производства и новые союзы и группировки. Правда, она
поощряет и дурные стороны человека и выдвигает в некрасивой форме стремление подавить других не
преимуществами, но обманом и спекуляцией на человеческих слабостях. Исчезает порядок и дух
дисциплины, присущий цеху. Жадное стремление к быстрой наживе и недостаточная подготовка работни-
ков ведет к серьезным недочетам: страдает солидность работы, исчезает гарантия в прочности ее и
критической оценке. С этим можно бороться при помощи правовых и социальных средств: принимаются
меры против обмана и нечестности, придумываются новые группировки работников, цеховые союзы иного
рода, вводятся в той или иной форме проверка и испытания рабочего до вступления его в самостоятельную
деятельность.
Совершенно иной характер имеют централистические тенденции больших промышленных кругов, которые
не ограничиваются, подобно упомянутым цехам, небольшими районами, но стремятся подчинить своему
господству области целых народов и даже весь мир. Крупные дома, господствующие над целыми отраслями
промышленности, отдельные фирмы и акционерные общества образуют ассоциации с целью регулирования
обмена. Они устанавливают известные нормы для сбыта, обязательные для каждого члена ассоциации, как
скоро он желает оставаться членом и вперед и не обрекает себя на гибельное изолирование. Так возникают
тресты с их стремлением предупредить гибель отдельных членов от конкуренции, но в них кроется вместе с
тем опасность надорвать все благодеяния свободной конкуренции благодаря устанавливаемым ими нормам.
Каково должно быть отношение к ним правового порядка — трудный
3 История человечества
65
вопрос, вызывающий много споров, составляющий одну| из животрепещущих современных тем.
С другой стороны, рабочие массы, получившие за-; конную свободу, стремятся образовать ассоциации в том
сознании, что экономически слабые, соединяясь в большие союзы, становятся сильными. Образуются
ассоциации для облегчения экономического положения отдельных лиц. В то же время возникают союзы для
экономической борьбы с капиталом. Это борьба живой работы, воплощенной в рабочем, борьба скрытого
капитала с работой, накопленной у капиталиста, с активным капиталом.
Таково знамение современной экономической жизни. Всемирная история видела уже аналогичные
группировки, хотя далеко не с таким могучим развитием организованных сил капитала и труда, как в наше
время. Вавилоняне имели торговлю с денежным хозяйством, представляющим много аналогий с нашим
временем. Весь промышленный строй китайцев проникнут цеховым духом. В эпоху калифата процветали
обширные торговые отношения с системой разъездных агентов, хотя стремление к образованию ассоциаций
существовало лишь в зародыше. Наконец, морские отношения малайцев носили уже характерные черты
нашей морской торговли.
Главные экономические проблемы'нашего времени вытекают из антагонизма между свободной конкуренци-
ей и товарищескими трестами, между свободным 'рабочим договором и нуждой, созданной условиями
времени; из противоположности между зависимым положением рабочих и необычайной властью рабочих
союзов, из противоположности между свободной мировой торговлей и необходимостью поддерживать
земледелие, между колоссальными размерами фабричного производства и необходимостью предотвратить
от гибели ремесло, поддерживающее индивидуальное производство. Многое уже сделано, чтобы смягчить
эти контрасты с тех пор, как убедились, что невмешательство не есть правильный путь. И для
интеллигенции-открыта возможность без пе-
66
реоценки своих сил освещать социальные положения и самостоятельно действовать в них. Улучшают
положение рабочих частным путем и при содействии государства, пользуясь идеей страхования,
обеспечивают рабочих на случай несчастий, болезни, старости и даже лишения работы. Стремятся
совершенствовать ремесла до степени художественных промыслов, обеспечивают земледелие от наплывов

извне охранительными тарифами, возникали даже предложения взять в руки государства совокупную
торговлю хлебом. Всюду создается возможность помогать отдельным индивидуумам в борьбе с судьбой.
Задача очень трудная. Важно, чтобы разрастающийся коллективизм не обессилил индивидуальной энергии,
чтобы чрезмерное расширение огосударствления не заглушило мощного стимула к торговле, скрытого в
частной предприимчивости индивидуумов, чтобы излишняя готовность помощи не подавила личности с ее
самосознанием и чувством долга, чтобы национальные мероприятия не затормозили приобщение к мировой
культуре и мировому движению. Но в особенности нужно стараться сохранить не только сферу пользования
для индивидуума, но также продуктивные способности его, чтобы не затормозить мощного культурного
прогресса, который лежит в развитии индивидуальности. Во всяком случае, как ни затруднительно данное
положение, но можно сказать следующее: тогда как в конце прошлого столетия мир отчаивался в
разрешении своей задачи и изнемогал в сильнейших судорогах, ныне мы проникнуты твердой надеждой, что
справимся с трудностями в спокойном ходе развития.
Духовная культура
Духовное образование народа может совершаться то более в направлении знания, то чувства. Оба
проявления духа первоначально нераздельны; но в дальнейшем течении становится заметным преобладание
той или другой стороны. Первым выражением духовной культуры является язык, т. е. передача мыслей при
помощи слов (звуко-
67
вых знаков для понятий). Язык создается требованием самой жизни, необходимостью общения между
членами общины, живущими совместно. Они выработали корни, из которых под давлением
психологических категорий, при помощи сочетаний, слияний, метафорической передачи вырос механизм,
способный по крайней мере в общем выражать наши мысли, а также чувства, поскольку эти последние
могут быть передаваемы через посредство " мыслей.
Способы передачи в языке чрезвычайно разнообразны и показывают, что язык есть нечто большее, чем
запас слов, в нем заключающийся. Важно в особенности — в какой мере язык способен выражать
многосторонние отношения основных слов при помощи сочетания корней или тесного слияния и, наконец,
при содействии системы суффиксов, префиксов и аффиксов (так называемой флексии). Сообразно с этим
различают односложные, агглютинирующие и флектирующие языки. Кроме того, в пределах этого круга
возможны весьма различные системы обозначения местных, временных, причинных категорий
(действительный, страдательный) и психологических функций (утверждение, желание, субъективное со-
мнение: изъявительное, желательное, сослагательное наклонения и т. д.)
Язык составляет противоположности весьма распространенного в первобытные времена мимического обще-
ния, при котором с помощью жестов и в особенности движений пальцев передается другим не отдельное
понятие, но'сочетание понятий.
Рядом с речью появляется счет, т. е. сопоставление индивидуумов с устранением их индивидуальных
свойств, по систем двойной, пятерной, десятичной, двунадесятой. Первоначально для этого пользуются
руками, пальцами рук, ногами, пальцами ног. Счет сам по себе ведет к познаванию общих законов явлений
природы, состоящих из однородных элементов и совершающихся в пространстве, во времени и
причинности (интенсивности), т. е. к математике.
68
Вместе с тем развивается знакомство с геометрическими фигурами: некоторые части одежды имеют трех-
или четырехугольную форму; постройки вызывают сознание определенных форм и законов их; орнаментика
обнаруживает предпочтение к определенным геометрическим категориям.
В связи с языком находится гораздо позднейшее приобретение, письмо, т. е. фиксирование речи, которое
может происходить по двоякой системе: по системе образного или символического выражения мысли
(образное письмо, письмо знаков) или же по системе фонетического расчленения звуков речи на слога или
буквы (письмо слогов, буквенное письмо). Первая система письма есть непосредственное выражение идей,
вторая прибегает к посредству звуков речи, причем мы выражаем символически не сами мысли, а только
звуки, и уже через их посредство — мысли. Переход от образного письма к слоговому совершался таким
образом: когда в языке при развитии его образовались одни и те же словесные звуки для различных
понятий, то повторяющийся звук стали передавать одним знаком. И если в письме воспроизводились
иностранные слова, то выражения иностранного язь!ка разлагали на его собственные слога, и слога эти
изображали теми знаками, которые соответствовали рав-нозвучным слогам собственного языка. Так само
собой сделалось то, что письменные знаки приобретали все больше фонетическое значение и все меньше
значений понятий. Процесс этот должен был подвигаться все дальше, как скоро язык с течением времени
изменялся. Сохраняли старое письмо с его способностью обозначать понятия, но вместе с тем явилась
возможность изменить письмо с изменением звуков речи, так что письменные знаки означали слога, а
сочетания слогов выражались в измененной речи письменными знаками, соответствующими звукам слогов.
Так постепенно выработалось фонетическое письмо слогов. Иногда рядом со слоговыми знаками
сохранялись еще идеограммы, как, например, в вавилонском языке. Особенно интересно и характерно
69
для единства человеческого духа то, что переход к слоговому письму совершался независимо у различных
народов, между прочим и у ацтеков, которые выказывают совершенно самостоятельное развитие.

Дальнейший шаг вперед составляет переход от слогового письма к буквенному, последнее облегчается, если
язык удерживает в своих диалектах согласные и меняет гласные (если, например, а основного языка в одном
диалекте переходит в о, в другом — в е, и переходит в е, е — в и, и проч.). Для того чтобы сообразоваться с
различиями выговора, выбирают какой-нибудь общий слоговой знак, который означает согласную с
различными гласными (ба, бе, бо), так что знак выражает собственно только согласную; гласная в
различных диалектах дополняется различно. Письмо слогов преобразуется, таким образом, в письмо
согласных, чем достигается большое упрощение, и значительное число знаков сводится к немногим. В
дальнейшем развитии ставят точки над «гласными или выражают их самостоятельными знаками. Так
возникает буквенное письмо.
Письменное общение может иметь индивидуальный или общественный характер, в этом последнем случае
содержание его передается массе людей при помощи публичных объявлений, наклеек, многочисленных
копий или иным путем. Первоначально это достигалось обычными способами письма, В рабских
государствах, например, в Риме, пользовались толпой рабов-копировщиков, которым диктовали рукопись.
Эпоху в этом отношении составляет изобретение механических средств, при помощи которых раз
написанное могло быть умножаемо по желанию. С этой точки зрения искусство книгопечатания сделало
больше, чем большинство изобретений, когда либо бывших на земле. Возможность распространять в
тысячах экземпляров одно и то же сообщение превращает мысль в силу, навязывает ее бесчисленным
лицам, убеждая или подчиняя их, мысль действует массовым внушением. Это может вести к
одностороннему направлению общественного мнения, но среди здорового наро-
70
да найдутся представители различных направлений, которые будут взаимно пополнять, оспаривать и побеж-
дать друг друга. Мысль проявляется таким способом в массовых действиях, возбуждает нацию
неслыханным раньше образом, заставляет думать, принимать участие в партиях. Печать становится
образовательной силой первого разряда. Потребность в периодических сообщения вместе с любопытством,
которое не может долго ждать известий, создает правильно появляющиеся формы прессы: рядом с книгами
возникает периодическая печать, которая изо дня в день влияет на громадные слои населения и
обнаруживает неслыханную власть над ними. Конечно, этот способ проявления культуры, как и все прочие,
имеет свои вредные стороны: взгляды на вещи становятся более шаблонными, отдельные индивидуумы
утрачивают свою своеобразность, и происходит не только известное нивелирование образования, но и
нивелирование воззрений и образа мыслей. В целом, однако, знание распространяется в таких размерах, как
это раньше было немыслимо.
Мыслящий человек ощущает потребность в известном мировоззрении, и отношения между человечеством и
природой стремятся в человеческом сердце к известному разрешению и уравновешению. Человек находит
их в вере.
Под верой мы подразумеваем веру в Бога, т. е. в те духовные силы, которые мощно управляют миром, все
проникают, все разделяют и все удерживают и каждому дают его индивидуальность. Самая природа
человека побуждает его считать мир исходящим от Бога. У первобытных народов эта вера проявляется
вообще в антимистической форме, т. е. таким образом, что вся внешняя и внутренняя природа оживляется,
наполняется духами, которые первоначально не выливаются в ясно очерченную существенность, но
всплывают в различных формах и индивидуальностях, исчезают и снова образуются, как облака в области
атмосферных паров. Эти духи отнюдь не чужды человеку. Он сам живет в мире духов, в особсн-
71
ности когда освобождается от земной оболочки, в сне и после смерти. Как семейства, так и отдельные
индивидуумы находятся в большем или меньшем общении с подобными духами. В конце концов каждый
человек имеет своего духа-хранителя (маниту), который открывается ему через посредство знаков и
фантазий. Особые воплощения этих духов, т. е. предметы, в которые они временно или постоянно
поселяются, носят название фетишей. Так возникает поклонение фетишам, о которых прежние века, не
знавшие науки о человеке, имели самые странные представления. Деревья, камни, реки, куски дерева,
самодельные изображения — все это может быть носителем божественного духа. Конечно, поклонялись не
куску дерева или камню, как думали раньше, а духу, воплощенному и проявляющемуся в этом предмете. Во
многих случаях, особенно у земледельческих народов, вера принимает более натуралистический характер.
Божество почитается в образе факторов, существенных для земледелия — солнца, неба, молнии и грома —
б'лагодетель-ных небесных богов, которым противополагают земных богов, приносящих нам болезни,
землетрясения и другие бедствия. Так, культ одухотворяет, его не связывают более с определенными
формами фетишей: боготворят небо и поклоняются земле.
Эта религия сопровождает человека ют рождения до смерти. Уже при самом рождении вокруг него витают
добрые и злые духи. Пуповина считается источником сил; через нее в ребенка входит душа какого-либо
существа, душа животного или одного из предков, и от него ребенок получает свое имя. С наступлением
юности совершаются большие перемены, приближается период посвящения юноши. Он вступает в
волшебный лес, новый дух овладевает им, ггосле постов и самоистязаний юноша получает в магическом сне
свою новую сущность, свою судьбу. Он возвращается другим и с новым именем.
Брак означает часто новое посвящение, так же как и момент вступления в новое положение в качестве главы
правительства. Со смертью человек вступает в царство

72
теней. Там он проносится сперва над рекой или морем смерти. И часто после долгих испытаний он
достигает нового царства, где или продолжает вести прежнюю жизнь, или, смотря по заслугам, попадает в
высшие или низшие сферы. Умершему отдают его вещи и даже его лошадей, рабов, жен, чтобы он
пользовался ими в другом мире, и охотятся за головами, чтобы препроводить к нему новых помощников.
Однако, заботясь о благополучии умершего в лучшем мире, прилагают вместе с тем большие старания,
чтобы он не вернулся обратно в этот мир: приносят ему жертвы, в первое время стараются сделаться
неуязвимыми, носят другие платья, меняют местопребывание, и светоч, освещающий мертвому дорогу,
относят все дальше и дальше, чтобы он не мог найти обратного пути.
Порой культ умерших вырождается в настоящий каннибализм. Впрочем, этот последний имеет, без сомне-
ния, более древнее и менее одухотворенное происхождение. Так или иначе, но люди доходят до того, что
поедают умерших с целью воспринять в себя дух их или уничтожить его. Поэтому съедаются
преимущественно те части тела, которые считаются главным местопребыванием души. Этим объясняется
процветание каннибализма даже у развитых народов. У некоторых племен право съедания мертвых
принадлежит прежде всего родственникам.
Так вера в духов окружает первобытного человека и следует за ним шаг за шагом.
Повседневные явления жизни также представляются ему в свете религии. Когда человек пашет землю или
срубает дерево, ему кажется, что в это время он вступает в дружеское или враждебное общение с духами.
Строит ли он хижину, он просит благословения духов; идет ли на охоту, его сопровождают духи. И даже
когда он убивает животное, он страшится души последнего и старается умилостивить ее или отвлечь гнев ее
в другую сторону. Мы часто поэтому встречаем обычай, что тот, кто поймал животное, сам не ест его или
известных частей его.
73
Из этого анимизма развивается культ героев и политеистический культ богов с его мифологическими рас-
сказами. Идея единства мира духов разрушается, и неопределенные бесформенные веяния принимают
очертания обособленных, самостоятельных существ, которые затем облекаются в форму, приближающуюся
то к животной, то к человеческой душе. Против такого дробления божественного существа, подрывающего
характер религии, стремление к единому, впоследствии наступает реакция: частью в виде создания отца
богов, частью гипотезы исторического происхождения мира богов от одного корня (теогоническое
сказание), частью, наконец, многобожие прямо изгоняется и слагается новая вера в единое существо в
теистической или пантеистической форме. При этом теистические импульсы сами собой приводят ко всем
тем сказаниям о творении, ко всем тем космогоническим рассказам, в которых особенно важную роль
играет сотворение человека, получение огня и человеческого оружия и орудий. Пантеистическое учение о
мире приводит к вере в воплощение, к представлению о периодическом чудодейственном появлении
божества в истории: единство божьего мира приводит к вере в воплощение, к представлению о
периодическом чудодейственном появлении божества в истории: единство божьего мира и возможность
появления божества в единоличной форме вытекает из идеи воплощения. Подобно тому, как представление
о присутствии духа божества во всем и наполнении им вселенной уживается наряду с мыслью, что
известные места и лица сильнее проникнуты божеством, точно так же не считается противоречием, что
время от времени появляется какой-нибудь будда, который (не в пример остальным существам) непос-
редственно и всецело воплощает в себе божество, является носителем и выразителем его.
Вера есть дело чувства, но не в том смысле, будто религия вытекает из страха или из воспоминаний повто-
ряющихся сновидений. Она дело чувства постольку, поскольку она удовлетворяет потребности человечества
74
о едином мировоззрении не в области мысли, а больше в сфере жизни чувства. В религии выражается не
трезвое, спокойное стремление к знанию — это вопль сердца к всевышней силе, жалоба на наше
ничтожество и бессилие, это мольба о помощи и жажда высшего внутреннего блаженства. Мысль наша пока
еще не в состоянии отвлечься от других психических факторов, и область чувства имеет существенный
перевес над ней.
Как скоро существует вера в божество, в политеистической, монотеистической или пантеистической форме
— пантеизм также имеет свои ступени и оттенки, — и вера эта энергетически проявляется в чувстве, у
отельного индивидуума возникает потребность стать в близкие отношения к божеству. Это достигается при
помощи известных действий или приведения себя в состояние, в котором мы ощущаем особую святость и
отсюда возможность близкого соприкосновения с божеством. Эти действия, как бы приближающие нас к
божеству, мы называем общим именем культа, а поскольку культ выражается в строго выработанных
функциях — обрядом. Среди об-рядностей занимает важное место жертвоприношение. Оно вытекает
первоначально из нашего представления о потребностях высших существ и затем уже спиритуалистически
преобразуется в более тонкое представление о выражении этических чувств человека — бескорыстия и
признательности, которые угодны божеству и, следовательно, способствуют его блаженству. Однако,
жертвоприношения эти меньше всего заслуживают названия бескорыстных. Человек прежде всего думает о
себе, он приносит жертвы добрым, но, главным образом, злым духам, желая укротить их ярость, смягчить их
дурные намерения. Кроме того, приносят жертвы в память умерших, и в этом сказывается семейный дух,
который переживает отдельного индивидуума.

Обычные обрядовые действия также первоначально совершаются в семье главой семейства, но затем они
становятся достоянием особых личностей или особого сословия (жрецов). Сословие жрецов развивается из
клас-
75
са колдунов, экстатических натур, которым приписывается особенно тесное общение с миром духов. Такая
способность бывает индивидуальной или наследственной, и, сообразно с этим, класс колдунов пополняется
по выбору или по наследству. Таковы шаманзим, сословие оган-гов, ясновидящих, прорицателей, которые
вместе с тем предсказывают будущее, играют роль авгуров. Впоследствии они приглашаются для
улаживания людских споров или, как представители народного божества, бросают копье на неприятельскую
землю в знак объявления войны (фециалы) или, наконец, избираются в качестве послов и для переговоров в
международных сношениях (посланники).
Мало-помалу описанная деятельность выходит за пределы чувства, и мысль вторгается в область верования.
Традиционные догматы слагаются в науку, и эта наука культивируется преимущественно жрецами. Часто
они держат ее в тайне, окутывают туманом, что поддерживает исключительность и усиливает власть
жреческого сословия. Наука эта имеет частью мифологически-исторический характер, частью
догматическое, частью обрядовое направление.
Тайна раньше или позже рассеивается, возникают сомнения и вопросы, в системах происходит раскол, ве-
дущий к спорам на почве законов человеческого мышления. Стараются сгладить многочисленные
противоречия, вычеркнуть обветшалое, но прежде всего отделить идейные элементы веры от области
чувства. Вера становится наукой и, поскольку наука освобождается от области чувства и власти традиции,
которой проникнут мир чувств, философией. Как скоро однажды проснулась жизнь мысли и найдена точка
зрения, выделяющая мир представлений из сферы чувств, как самостоятельное поле для исследования,
рядом с философией или общей наукой возникают отдельные науки, которые все больше и больше
специализируются. Духовная жизнь человека, с одной стороны, силы природы, с другой, втягиваются в
область наблюдения и изучения сперва на почве тради-
76
ционного запаса идей, а затем уже при содействии все разрастающихся и расширяющихся наблюдений
(умозрительные науки, естествознание). Отношение их меняется. Долгое время господствует дедуктивный
метод, который подвергает критике представления сообразно развитию законов мышления и на основании
этой критики -**" пытается создать нашу идею о мире (философия Веданты, Сократова философия,
схоластика). Вскоре, однако, развивается метод наблюдения (индуктивный метод), который восходит от
отдельного наблюдения к образованию понятий и оказывает особенно плодотворное действие в
естественных науках, хотя он проник также в умозрительные науки и здесь повел к новым результатам. Оба
метода имеют свои заслуги. Все дело в том, чтобы правильно пользоваться каждым из них: с одной стороны,
ради отдельных наблюдений и исследований не должно упускать из виду связи с целым и критически от-
носиться к возможным соотношениям; но с другой стороны, критике целого не должно приносить в жертву
частное, абстракции — индивидуального, которое дало повод к абстракции,
Художественное стремление человека проявляется первоначально частью в культе, частью в образе жизни,
без строгого, впрочем, разграничения; здесь лежит уже зачаток различия между искусствам и
художественной промышленностью.
Культ стремится к воплощению в образах и прежде всего в осязательной форме: образ есть не только
символ духа, но вместе с тем оболочка, в которой воплощается дух. Дух, которому поклоняются, может,
согласно народной вере, как мы видели выше, поселяться везде: в растении, животном, камне (фетиш), в
изображении, которое символически передает особенность духа. Поэтому духи предков и связываются с их
изображениями. Почитание черепов сменяется почитанием изображений умерших (корвар). Это
древнейший вид портретного искусства. Точно так же самую древнюю форму кукол представляют куклы,
которые у некоторых народов (напри-
77
мер, у племен краснокожих) вдова носила при себе как символ или оболочку духа своего мужа. Таким же
образом вера в животных духов ведет к изображению животных, к гербам с рисунками их, к фиксированию
животных изображений на коже (татуирование), к пластическим фигурам, в последних сверхсущество,
которому поклоняются, представлено в виде сочетания животного тела с человеческим.
Точно так же молитва приводит к пению, обряд — к стихам, культ — к танцам. Ритм вызывает в человеке
представление о вечном: правильно повторяющееся движение само собой вызывает чувство всегда
повторяющегося.
Сама вера становится поэзией. Вера в животных и миф о превращении животных слагаются в сказку, кос-
могоническое и теогоническое представление вырастает в мифологию, из сказаний о героях возникает эпос,
из мифического понимания природы — прославление ее, выражение единения с природой, лирическое
опоэтизирование природы.
Сама жизнь наталкивает на художественное творчество. Стремление, вначале еще ребяческое, к разнообра-
зию картин, удовлетворяющему нашей фантазии, соединяется с честолюбивым желанием нравиться.
Отсюда — украшение, орнамент, наблюдаемые во всех поясах земли. Татуирование преследует не одни
религиозные цели, но, как мы заметили выше, и цели украшения. Раскрашивание, уродование, часто
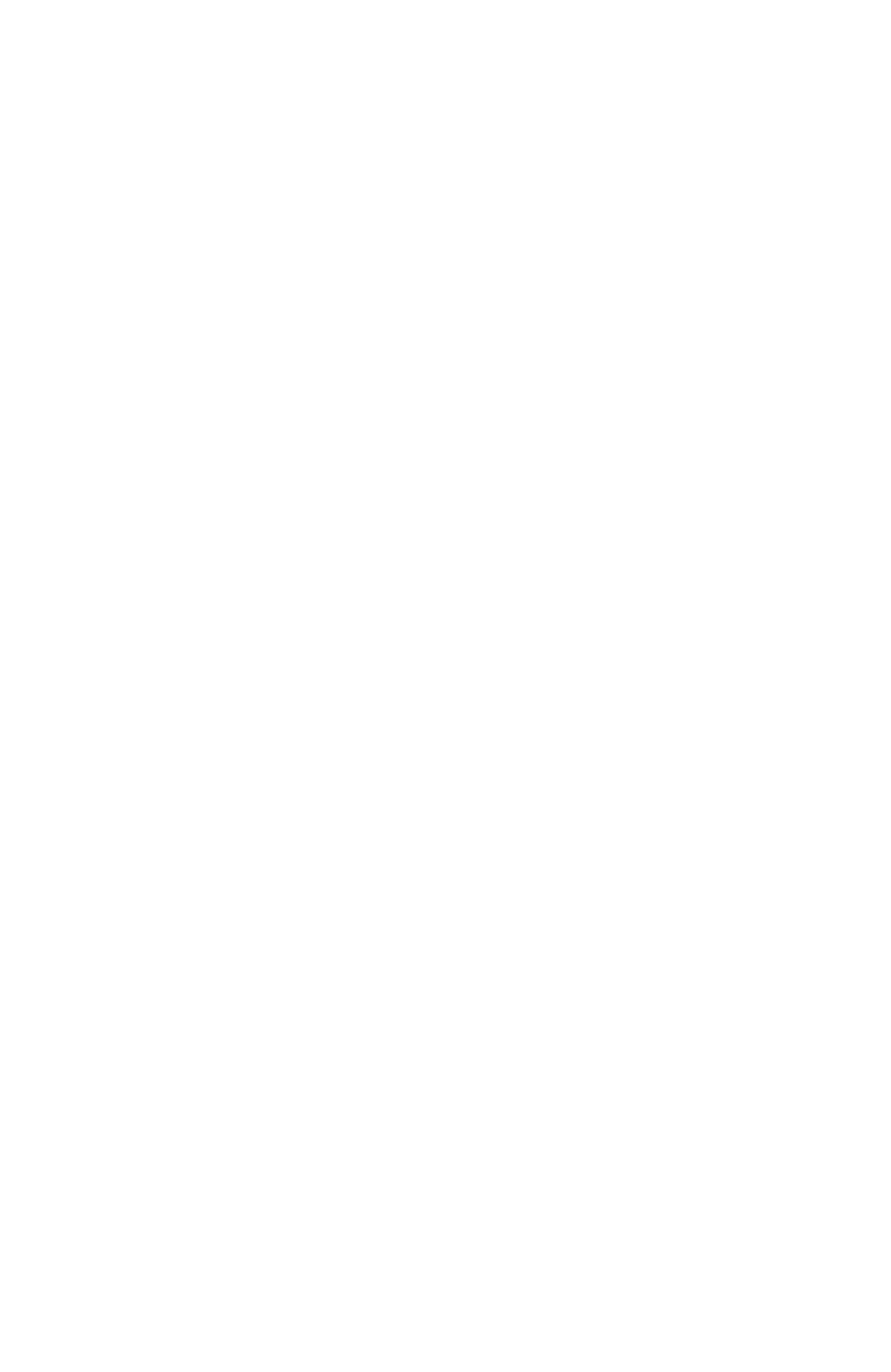
довольно грубые, как, напри-. мер, уродование черепа, выдергивание зубов, чернение зубов, привешивание
украшений к ушам и обезображивание ушей, втыкание палочек в губы, всякого рода прически, быть может,
отчасти связаны с религиозными представлениями, где вообще сливаются самые различные мотивы, но, с
другой стороны, они имеют, несомненно, орнаментальный характер и удовлетворяют потребности человека
в форме и краске. Таким же образом танец есть не только выражение культа, но вместе с тем средство дать
выражение скрытым духам жизни. Часто в танцах изливаются чувственные инстинкты, бурлящие в народе.
78
Танец принимает особое направление в действиях, символизирующих жизненные нравы: в играх, изобража-
ющих войну, охоту, и особенно в животных плясках, в которых танцующие считают себя проникнутыми
душой определенного животного и мимически представляют животное. Так возникает драматическая игра, в
основании которой лежит идея олицетворения, т. с. идея, что индивидуум воплощает в себе в данный
момент известное другое существо, которое в нем говорит и действует. Таково же происхождение
первобытной формы маски, т. с. образной формы, оболочки известного существа, в которую наряжаются. В
древние времена была в особенном употреблении животная маска. По представлению древних, в оболочке
заключатся дух, и, надевая на себя оболочку, мы отождествляемся с духом, который она представляет. У
многих народов надевают не только маску головы, но вместе с ней шкуру, волосы и перья животного,
которое желают представить. Особенную форму драматической игры, встречающуюся преимущественно у
краснокожих, представляют игры, в которых передается содержание сновидений. Подобно тому, как в снах
ищут смысл божественный и человеческий, сны дают канву и для драматической игры, которая должна
выразить в народном празднестве жизненные стремления.
Разновидность танцев представляют игры, которые вытекают не столько из стремления к красоте, сколько
из желания воспользоваться случаем к развлечению. Из другого стремления вытекают сатирические песни, в
чередующемся пении, как, например, у северных народов, в них в то же время сказывается народное
суждение и голос народа, так что они приобретают важное воспитательное значение. Это преддверие
свободной сатиры и юмора, появляющихся в жизни культурных народов то как блуждающий огонек, то как
очищающая молния и освобождающих нас от духоты бытия, светящих нам во мраке нераспутанных
загадочных вопросов окружающего мира.
Организованная игра составляет особую черту человека, возвышающую его над жизнью животных. В игре,
79
как и в искусстве, характерно чужды определенной цели проявление собственной индивидуальности,
поднятие личности над заботами жизни, свободное, не связанное оковами бытия развертывание ее. Таким
образом, игра, подобно искусству, как бы возвращает человека самому себе и хотя на минуту освобождает
его от насилия окружающей природы. Именно своей бесцельностью она доказывает, что человек может
быть деятелен и вне условий внешнего мира, выразителем которых являются конкретные цели жизни: цели
эти и заключаются в том, что человек изнывает в борьбе с бедствиями бытия и старается победить их.
Поглощенный этими целями, человек еще глубоко привязан к окружающему миру, починен ему. Наоборот,
в игре и в искусстве человек развертывает свою личность, отрешившись от давления внешнего мира, да-
ющего ему направление и цель.
Победа свободы над инстинктом
Все описанные формы развития совершаются в разумных обществах, т. е. таких, которые стремятся к
известной деятельности не только инстинктивно, но, приспособляясь к обстоятельствам, переходят от
одного состояния к другому либо в силу сознания необходимости перемены, либо по инстинктивному
предчувствию ее возможности и необходимости. Духовная сила, которая делает нас способными выходить
из известного круга и сживаться с новыми системами, есть человеческий разум. В незначительной мере эта
разумность присуща и некоторым животным, но она никогда не достигает у них той степени, чтобы могла
быть речь об истории и тем более об истории, развивающейся собственными силами.
Инстинктивное выливается у человека в обычай. Это сплетение ряда привычных действий, которые
подразумеваются сами собой и которые мы инстинктивно стремимся отстаивать даже тогда, когда в этом не
представляется более необходимости и даже когда мы сознаем противное. Обычай подчиняет отдельную
личность духу
80
целого без внешнего насилия, и в этом смысле есть важный социальный момент. И у животных социальное
стремление к единству выражается в ряде заученных инстинктивных действий.
Но существенное преимущество человека заключается в том, что он властен преодолевать инстинкт обычая,
что он носит в себе зародыш дальнейшего развития, что он имеет историю. Причина этого кроется в
разносторонности социальной натуры человека, в том, что в человеческом обществе наряду с общим
проявляется частное, рядом с общественной жизнью живет индивидуальная деятельность. Это ведет к
столкновению, а столкновение — к прогрессу. В натуре человека лежит, таким образом, зародыш прогресса,
и история является историей развития.
Шаг, которым побеждается обычай, составляет выделение права. Право есть то, что строго требует обще-
ство от каждого, кто желает участвовать в общественной жизни. Однако не все то, что есть обычай,
подчиняется такому стеснению. Нарушение многих требований обычая вызывает лишь недовольство со
стороны отдельных лиц, общество же как целое относится к нарушителю безразлично. Другими словами, в

процессе обособления обычая и права происходит более резкое разграничение существующего от
долженствующего быть. Существующее первоначально более или менее совпадает с тем, что должно быть.
Мало-помалу, однако, пробуждается оппозиция; встречаются случаи, где обычаем возмущаются, где
освященные привычки вызывают протест. Человек, и хороший, и дурной, чувствует возможность стать
выше инстинкта, и это ему нравится. Даже тот человек, который из одного эгоизма ломает устои обычая,
является двигателем человечества. Без греха мир никогда не дошел бы до культуры, и в этом смысле
грехопадение было первым шагом к историческому развитию человечества.
Это ведет, в свою очередь, к необходимости выделить из области обычая вещи, соблюдение которых
человек должен отстаивать: это-то долженствующее быть и есть право.
81
Описанный процесс выделения права явился одним из важнейших шагов. Одним ударом изобличается отно-
сительность обычая; многие из общества, и притом не самые худшие, начинают эмансипироваться от него.
Это ворота, через которые идет прогресс человечества. Но и правовые нормы не заставляют и в конце
концов оказываются уступчивыми. Позднейшие перемены в обычаях влекут за собой изменения права:
вследствие обветшания обычая некоторые законы мало-помалу настолько разобщаются с жизнью, что
утрачивают свою жизненную силу и умирают; с новым обычаем создаются новые правовые отношения.
Таким образом, одно является постоянным ферментом для другого, в связи, конечно, со степенью культуры,
с особенностями существующих социальных отношений. Право и обычай взаимно двигают друг друга
вперед и дают возможность человечеству приспособляться к каждому новому завоеванию культуры.
Наряду с правом и обычаем выступает позднее еще третий фактор: мораль, или нравственность. Это срав-
нительно позднее создание культуры. Мораль также заключает в себе нечто долженствующее быть, но не в
силу социального, а в силу божественного порядка, отличного от первого, или в силу человеческого
порядка, построенного на почве философии. Поэтому мораль, как и право, неодинакова у различных
нарбдов и в различные времена. Ее особенность состоит в том, что выше социального порядка ставится
иной порядок с гораздо более развитой системой обязанностей. Он вытекает из сознания, что социальный
порядок — не единственный, что он имеет точно так же лишь относительное значение, что он не в
состоянии обнять совокупность человеческих обязанностей и что вне сферы влияния этого порядка суще-
ствует долг.
Между моралью и правом возможны столкновения, которые, в свою очередь, ведут к дальнейшему
развитию.
Выделение морали из области права есть дело европейской культуры. Оно произошло таким образом, что
требования социальных обязанностей стали отделять от
82
прочих заповедей и предоставили их охране божественной справедливости. Это разграничение сохранилось
и тогда, когда сделана была попытка свести мораль к человеческим гуманитарным основам.
Позднее происхождение понятия о нравственности объясняет нам, почему оно не входило первоначально в
понятие о Боге. Духи, фетиши, а также творцы мира в народных верованиях вначале были нейтральными в
вопросах нравственности. Сказания и рассказы о них носят частью космогонический, частью исторический
характер или же составляют продукт фантазии. Первоначально мы не видим следов стремления изображать
богов как представителей добра в высшем или хотя бы низшем смысле. И мы поступили бы совершенно
неправильно с точки зрения этнологии, если бы вздумали ценить и судить веру народов с этой стороны.
Распространенное некогда мнение, будто боги приспосабливались к людям и их характеру, также верно
лишь отчасти. Антропоморфизм наблюдается лишь постольку, поскольку мир духов являет нам очевидные
аналогии с человеческим познанием, волей и действиями. В остальном и дикарь легко усмотрит, что ни
обычаи, которые он признает на земле, ни право, которое сдерживает или побеждает его страсти, не имеют
непосредственного отношения к царству духов. Что касается морали, то равенство между человеком и со-
зданными им богами имеет место лишь в том смысле, что первоначально и люди, и боги нравственно
безразличны, и моральные идеи не волнуют человека, не проявляются в сказаниях о его богах. Только тогда,
когда стало ясным значение нравственности в жизни человека, и он познал все глубокое содержание жизни,
протекающей в нравственной чистоте, вера его должна была признать в высших духах высоконравственные
существа, в богах — нравственное совершенство. Совершенно неправильно, поэтому, поступают те, кто
предъявляет к небесам первобытных народов нравственные требования или кто возмущается насилием и
хитростью, господствующими в мифах прежних эпох. Позднее пытались исправить эти
83
черты тем, что стали различать добрых и злых духов и наряду с божеством посадили дьявола, на которого
свалили все злое, что раньше приписывалось богам, и даже еще больше.
В заключение позволим себе еще одно общее замечание. Различные составные части культуры развиваются
в отдельных культурных кругах весьма различно. Одни народы стремятся больше к духовной, другие к
материальной культуре. Ни одни народ не сравнится с индусами в области философского умозрения, но в то
же время в сфере естествознания и применения его к жизни они остались детьми. Один народ может
развивать в совершенстве торговлю, другой — поэзию и музыку, третий — частное право. Язык
краснокожих в некотором отношении богаче и утонченнее английского. Совершенно неправильно, поэтому,
утверждать, что если одно культурное учреждение встречается у охотничьего народа, стоящего вообще

выше, а другое у народа, стоящего вообще ниже, то непременно и в такой же мере такой-то институт будет
позднейшим и вместе с тем более совершенным. В таком случае моногамические первобытные народы
стояли бы выше полигамических индийских арийцев и народов ислама, а полинезийцы с их вкусом к
художественному ремеслу и драматическими танцами должны быть поставлены на высшую культурную
ступень, чем европейцы.'
Социальная форма общественности
Развитие человечества совершается в обществе. Только в обществе оно и может совершаться, так как лишь в
общежитии кроются зародыши развития, которые выступают под влиянием совокупной деятельности
многих.
Для человечества имело, поэтому, громадное значение то обстоятельство, что оно с самого начала сомкну-
лось в социальное целое, частью в силу внутреннего побуждения, частью из необходимости самозащиты.
Так сложилась жизнь толпами, ордами. Это общежитие было очень тесное, так как оно представляло
общество самых
84
близких, общество кровосмешения. Человечество жило не только группами, но эти группы скреплялись тем,
что мужчины и женщины одной и той же группы состояли в связи: насколько мы можем судить,
человечество жило первоначально в групповом браке. Мы не хотим сказать этим, что люди сперва вступали
в парные браки и рядом с тем образовали еще группы — тогда эти последние очень скоро распадались бы.
Нет, групповой брак сам по себе являлся сильным звеном, могучей цепью, которая связывала общину.
Самые сильные инстинкты человечества удерживали в связи не только пары, но целые человеческие
группы. (Более подробное изложение происхождения и самых ранних форм брака читатель надет в моем
сочинении «К первобытной истории брака», 1897.)
Под групповым браком мы понимаем такую форму соединения двух орд между собой, где мужчины одной
орды вступают в брак с женщинами другой орды, не по одному, а в массе, в повальном смешении; женится
не отдельная личность, а орда. Раньше или позже, правда, при таком браке орды может происходить
упорядочение в пределах союза, так что половые отношения отдельной личности ограничиваются
определенными рамками. Но основная мысль здесь — общая собственность, общий брак. Конечно, это
влечет за собой совершенно иные родственные отношения, чем те, которые мы знаем. Здесь говорят о так
называемых классификаторных родственных названиях. Так, все старое поколение называют отцами и
дедами, матерями и бабками, все молодое поколение — сыновьями и дочерьми, внуками и внучками, люди
одного и того же поколения носят название братьев и сестер. Затем, смотря по большей или меньшей
дальности поколений, здесь возможны многие варианты.
Факт существования подобного группового брака был, правда, сильно оспариваем. Тем не менее он доказан
именно у тех народов, учреждения которых носят отпечаток особенной древности, как, например, у
австралийцев и краснокожих, доказан с такой положительностью, какую вообще допускают явления в
древней истории.
85
Групповой брак стоял в то же время в связи с религиозными идеями: отдельные союзы чувствовали себя но-
сителями одного особого духа. И так как духи того времени считались существами природы, то эти союзы
признавали себя за одно существо природы, они чувствовали себя определенным животным или
определенным растением. И соединение орды с ордой уподоблялось соединению одного животного с
другим. Каждый союз чувствовал в себе дух определенного животного, носил его имя; в определенном
животном признавали покровительствующий дух данной орды. В животном почитали дух предков.
Умерщвление или ранение животного рассматривалось как тяжелое святотатство.
Это явление носит название тотемизма. Тотем (слово, заимствованное из языка краснокожих) означает по-
кровительствующее животное рода и вместе с тем самый союз, охраняемый этим животным, стоящий в
знаке его.
Здесь вера привела к тесному сближению членов тотема. Она определяла строгим образом, какой именно
союз должен соединяться с другим. Подобно тому, как племя в своих танцах подражало животному в том
предположении, что в нем сидит дух последнего, точно так же из этого представления вытекали правила
еды и брака. Тотем считается экзогамическим в том смысле, что брак возможен только вне тотема. Это само
собой разумеется, так как в первоначальном представлении в брак вступал не отдельный индивидуум, а
совокупный тотем, брак сам по себе показался бы немыслимым. Какому тотему принадлежат дети —
составляет вопрос, который много занимал народы: тотему ли матери или отца, или какому-нибудь третьему
тотему? Все три возможности существуют в действительности; последняя, впрочем, с той оговоркой, что
ребенок принадлежит другому под-тотему, так что его дети снова возвращаются в первоначальный тотем.
Однако принадлежность к тотему матери или отца обусловливает в человечестве значительную разницу
между нациями: если ребенок примыкает к тотему мате-
86
ри, то говорят о материнском, в противном случае об отцовском праве. Какое из них было первоначальное?
Быть может, ни то, ни другое, и народы с самого начала распадались на матриархат и патриархат. Это
составляет весьма спорный вопрос. Значительная вероятность говорит за то, что материнское право
существовало раньше и что народы переходили с большей или меньшей энергией и быстротой к отцовскому
