Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков
Подождите немного. Документ загружается.


природу чувств и своего Ракитина, и Натальи Петровны, так боролся со стихийностью нутра. Чуть ни
каждый день репетиций начинался с упражнений в сосредоточенности и кругах. Вот, что К. С. говорит о
Тургеневе в «Художественных записях 1908-1913»: «Для него мало сосредоточиться "очень сильно",
развить поток общения. Надо растеребить еще свою энергию и быстро менять объекты общения и
аффективный общий тон, то есть перед началом роли делать такие упражнения: общаться до конца с одним
объектом в одном аффективном тоне, быстро переменить объект и аффективный тон (так несколько раз).
Замкнуться в свой собственный круг, потом быстро выйти из него и общаться с новым намеченным
объектом и т. п.»
4|)
. Режиссеру казалось, что Книппер, «как немка», посыпает чувства сахаром. Наталья
Петровна Станиславского резче, сильнее, трагичнее, чем Наталья Петровна Тургенева. На этом пути
усиления «трагического» элемента режиссер побеждает и автора, и актрису, вернее, находит в них то, что
может поддержать его замысел.
В письме-поддержке от 8 ноября 1909 года Станиславский признает: «Вам так мало надо сделать, чтобы
быть прекрасной Натальей Петровной, которую я уже десятки раз видел». Конечно, не только сахар был ему
заметен. Характер, который сквозь сентиментальность «видел» Станиславский, видел, в сущности, и не он
один. Вот что Л. Андреев, в свойственной ему манере, написал о Книппер незадолго до постановки «Месяца
в деревне»: «Люблю вас и за то, что вы начинены динамитом, как хорошая конспиративная квартира. По
виду спокойно, и даже дворник у ворот — и вдруг...»
42
' То, какой Натальей Петровной получилась Книппер,
видно из откликов на премьеру: «Может быть, это слишком просто — то, как она (Книппер) играет Наталью
Петровну, — может быть в этом больше крови, нежели нужно...»
43
' Это «больше крови» и имеет прямое
отношение к собственно режиссерскому сюжету.
4|)
Станиславский К. С. Собр. соч. в 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1. С. 476.
42)
Андреев Л. Н. - Книппер О. Л. 25 февраля 1908 года
43)
Ярцев П. Утро России. М., 11/ХП 1909.
148
Объяснение Н. П. и Ракитина по поводу двух необходимых отъездов автор и режиссер обставляют по-
разному: у Тургенева Н. П. говорит об этом горько', режиссер в своем комментарии к этой реплике
вопрошает: «...позвольте, не преувеличиваем ли мы нашего горя?»
44
' Ему нужно начать следующее
«музыкальное» развитие темы с piano.
У Тургенева Наталья Петровна спрашивает, помолчав, не сумасшедшие ли они. К. С. превращает это
нейтральное молчание в «фатальную» паузу, и именно в нее помещает окончательное крушение любви-
дружбы, хотя фатальность — вовсе не то, что имел здесь в виду автор, да и вообще какое-то нетургеневское
слово. Это слово, перед которым умрет сколь угодно тонкая и легкая ирония, очень тяжелое слово.
Следующий вскоре самоанализ Н. П., начинающийся с констатации: «Он благородный человек... но
неужели я когда-нибудь его любила?» сокращается и становится в соответствии с замыслом режиссера
паузой, «которая должна стать знаменитой».
План последнего действия уже не содержит столь детализированных картин состояний сознания. Описания
того, что чувствуют, думают, куда стремятся герои, постепенно становятся совсем лаконичными. («Схема
любви» Ракитина нарисовалась полностью, вместе со своим финалом, уже к концу 3 действия.) Завершение
пьесы в плане Станиславского — уже не «схема любви», а серия набросков мизансцен, схема входов и
выходов. Под конец герои мечутся: дамы уж не сидят за рукоделием, а кавалеры готовятся навсегда уехать
прочь.
Реальность, которую создал театр в «Месяце в деревне» — внешне статична, все что происходит, даже в
кризисных точках, не обнаруживается во внешнем смятении.
В неглубоком, замкнутом пространстве герои всегда выступают только крупным планом. И каждый взгляд
становится зримым и отчетливым «физическим» движением.
«Последние вопросы», монументальная образность, новая идеология и эстетика героического - все это
задачи, решенные Немировичем-Данченко в его инсценировке Достоевского.
Вместо одного героя и одной, центральной, всеподчиняющей «точки зрения» — несколько. Вместо
лирической композиции (герой и мир) — диалоги героев по принципу «объект в партнере».
Вал рецензий на «Братьев Карамазовых» представлял собой обширный реестр аргументов на тему о том, что
роман — не драма, а драма — не роман. Рецензенты вопрошали, к тому же, для чего, собственно,
необходимо театру завоевание романной территории.
Некоторые критики вполне резонно считали, что если нельзя поставить творение Достоевского целиком (а
это действительно казалось
44
' Станиславский К. С. Режиссерские экземпляры. М., 1988. Т. 5. С. 491
149
невозможным), то представление «в отрывках» может только скомпрометировать великую прозу.
Бесспорно, Н. Д. предвидел эти реакции заранее, ведь не случайна такая точность определений в афише:
«Отрывки из романа».
Можно попытаться построить несколько гипотез, объясняющих этот порыв театра к прозе, и, что весьма
знаменательно, все эти гипотезы увлекут нас в сторону режиссерских исканий в области сценической
формы, к проблемам самосознания режиссерского, художественного творчества.
Прежде всего, о самовластии режиссера. Незадолго до премьеры Южин представил в дирекцию
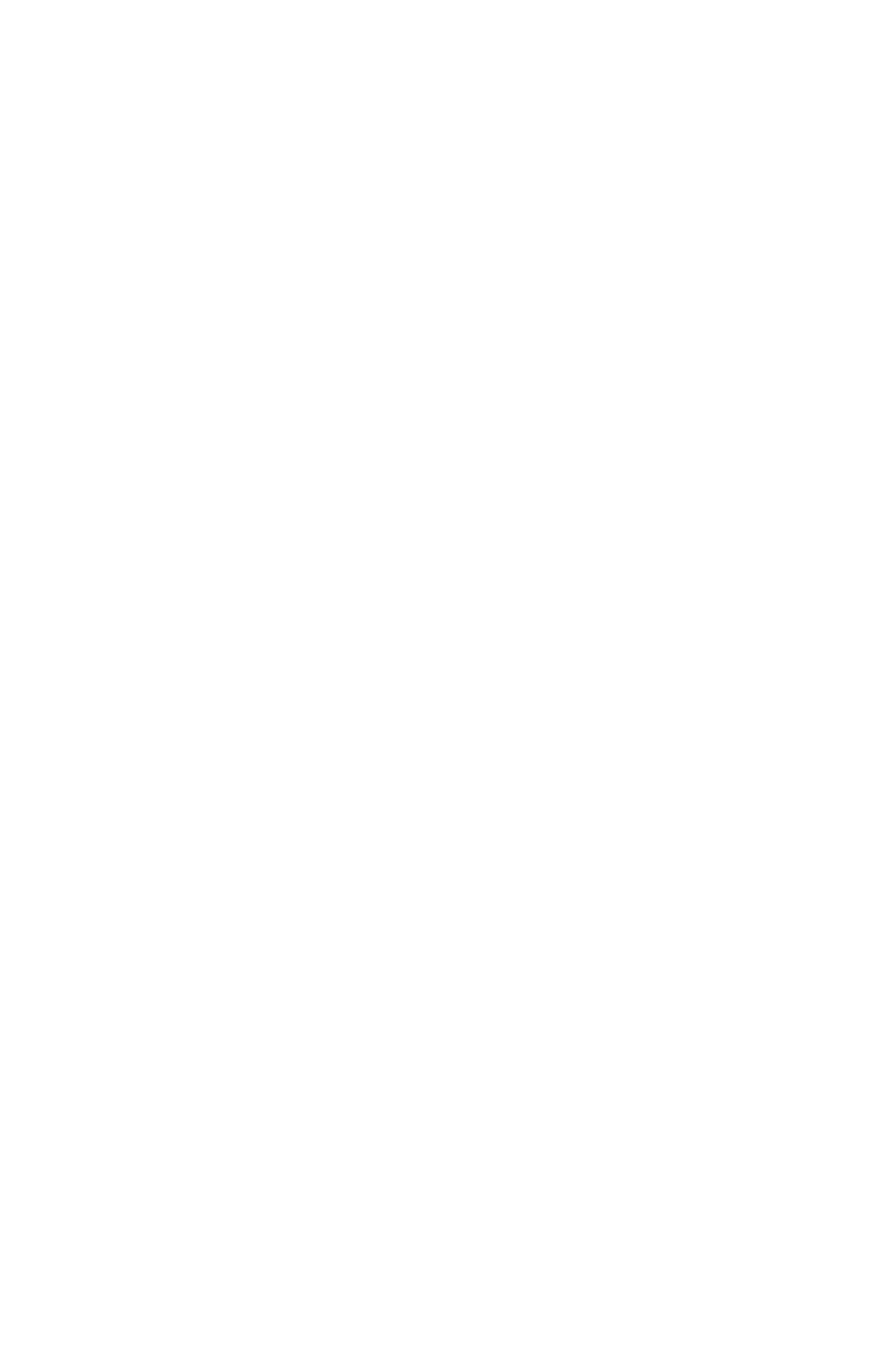
императорских театров доклад, где имелась глава, посвященная «режиссерской работе». Информация о ее
содержании просачивается в прессу
45
'. В статье цитируется риторический вопрос Южина: «В чем зло
режиссера нового толка?» и далее следует ответ: «В том, что он впитывает в себя всю пьесу, воссоздает ее в
себе, пропускает ее сквозь призму своего взгляда на нее, своего творчества и заставляет этим артиста играть
не то и работать не над тем, что артист сам, в силу своего дарования, в ней чует и видит. Положение, под
которым во все времена года, днем и ночью, обеими руками подпишется всякий, кто зрит в человеке не
станок для массажа. Хотя бы и нежного». Ужасное явление «властная режиссура» всех подчинила, и
последний рубикон хочет перейти — актерское искусство обескровить..., распялить на «станке для
массажа».
Этот характерный взгляд в Камергерский брошен в то время, когда и К. С. и Н. Д. как раз пытаются
изменить упрощенный и не всегда справедливый взгляд на «режиссера нового толка».
В «Братьях Карамазовых» впервые точка зрения автора получает и пространственные координаты и «свой
собственный голос». Мхатов-ский Чтец не играет Достоевского, не включен непосредственно в про-
исходящие события, он восполняет едва ли не обязанности греческого хора и условно вводит в сценические
события «я» писателя.
Режиссер сознательно встает в подчиненную автору позицию и из этой особенной «художественной
несвободы» извлекает новую режиссерскую свободу и истину.
Известно, что почти все начало романа Достоевского не вошло в спектакль по цензурным соображениям
(сцены в монастыре). Однако можно предположить, что оно, очень своеобразным образом, все же
реализовалось. Театр воплотил светский мир романа, но духовная философия произведения Достоевского
вошла как «точка зрения».
В 1908 году, когда уже возникла идея постановки «Карамазовых», Н. Д. со свойственным ему оптимизмом
надеялся, что «Зосиму разре-
45)
«Не в бровь» // Раннее Утро. М., 3/Х 1910.
150
шат». То есть отказ от «богоутверждающей» линии романа в 1910 году не был режиссерской концепцией.
«Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли
отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную
школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя,
овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной
свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе
не нашли»
46
'. Своего рода «старцем» для Немировича-режиссера и явился Достоевский.
Вступив в такие отношения с автором, Немирович обрел и собственную, режиссерскую свободу: есть жизнь,
есть преломляющая линза, великое слово, задача театра — вернуться к жизни, но вернуться, взяв аккорд с
той высокой ноты, начать восхождение с той вершины, куда могла вознести театр «русская трагедия»
Достоевского.
Тема Н. Д. и Достоевский может быть продолжена и иначе. Знаменитая режиссерская идея «зерна» роли,
возможно, рождалась именно в процессе работы над «Карамазовыми». (Это был тот путь, которым Не-
мирович двигался к Станиславскому, в это же самое время создававшему свою «систему».)
Отталкиваясь уже несколько позднее, в 1914 году, от модной тогда темы «отрицание театра» (Ю.
Айхенвальд), как бы отвечая на упреки в том, что погружаясь в романную литературу, театр становится
иллюстративен и, значит, не нужен, Н. Д. писал: «Для того, чтобы от зерна, заброшенного в душу актера,
появилось настоящее, новое создание искусства, авторский замысел должен умереть в душе актера, как
простое пшеничное зерно должно умереть в земле»
47
'.
В одной из предсмертных бесед с Алешей старец Зосима, посылая его в мир на иноческое служение,
провозглашает: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода»
48
'. Этот евангельский стих, кстати, дважды повторяется в романе.
Еще в 1905 году Кугель выступил против «детальности» постановочного реализма нового режиссерского
театра, против чеховского театрального мира «без героя»: «В театре сидит толпа, "на театре", как говорили в
старину, находятся герои. И страсть к театру есть в своей основе страсть к героическому. Никаким образом
не жизнь ищем
461
Достоевский Ф.М. С»6р. соч. М„ 1958. Т. 9. С. 38.
' Немирович-Данченко В. И. Рецензии. Очерки. Интервью. Статьи. Заметки. М., 1980. С. 241.
п)
Достоевский Ф.М. Cof>p. соч. М., 1958. Т.9. С.357.
151
мы на сцене, но непременно "сверхжизнь", потрясение исключительное, людей, которых следует до
самозабвения любить или до самозабвения ненавидеть»
49
'.
Особых людей, к которым следует относиться до самозабвения, — именно таких персонажей искал
режиссер у Достоевского. А также исходил из принципиальной трагической неразрешимости их положений.
Ведь каждый герой этого произведения оказывался именно «героем», с одной стороны, в старинно
театральном смысле, а с другой — человеком конкретного и не весьма героического «гражданского
состояния». С одной стороны, «безудерж карамазовский», а с другой — трудный процесс самопознания
завоевания «удержья», определения границ «я». Судьбы братьев — не синхронное, конечно, во времени

столкновение двух волн, самоутверждения и самопожертвования. Можно было бы сказать об
экзистенциальном трагизме, о неизбывном трагизме бытия, если бы эти более поздние философские
рассуждения Бердяева не были так похожи на то, что Алеша формулировал как «богато живете». (Хотя тут,
конечно, возможны некоторые аналогии. Бердяев говорил о неразрешимом трагизме познания, любви и т. д.
И каждый из братьев Достоевского — в некотором роде универсальная идея: Иван — трагедия мысли
(познания), Митя — трагедия долга и чувства.) Если бы мы и пустились по этому пути, по пути
провозглашения предустановленности трагизма, то тогда, вслед за Кугелем, дело стало бы только за
описанием «сверхжизни», однако так двинуться не рискнем. Начнем с деталей.
В спектакле — два пространства: 1) ниша с кафедрой для чтеца, 2) собственно сцена. Одно из них то
освещается, то погружается в темноту (вступление чтеца — зажженная лампа). Тут ясно и просто:
читающий, «не играющий» бас. Низкий голос рассказчика, как правило, поясняет «путь»: откуда ушел
герой, куда пришел. Эта словесно оформленная дорога не дана как прямая: завернул, обошел и т. п.
Экспозиция действия происходит в чисто интерьерном пространстве. С одной стороны, как будто бы
возвращается уже отвергнутая режиссерским театром простая и нейтральная интерьерная композиция. Вот
первая картина: стол, 3 чашки, антоновские яблоки, ширма, канделябр — натюрморт в ничем не
примечательной комнате. (Рецензентов удивило отсутствие окон — «хоть одно окошко бы».)
Все то, что «в комнатах», существует на фоне занавеса, на очень неглубокой сцене: прием, парадоксально
вызывающий в памяти «барельефы» Фукса и Мейерхольда. Однако в спектакле Н. Д. он играл совершенно
другую роль. Не столько статуарная пластика поз, прямое опростран-ствление психологии требовалось
здесь режиссеру, сколько желание подать персонажей крупным планом, сделать видимой внутреннюю
жизнь,
49)
Театр и искусство. 1905. №21. С.337.
152
не искажая в процессе художественного формотворчества ее естественную кантиленность. Режиссер в
данном случае добивался «реального» соотношения психологии и ее внешних, пространственных
проявлений. С другой стороны, можно сказать, что Н. Д. создавал своего рода живую книгу:
неопределенного цвета фон был образом бумажного листа. Рецензенты подобрали и подходящий
метафорический смысл для подобной пространственной конструкции. («Задний фон близко придвинут к
рампе, исчезает одно измерение, и все действие протекает как бы в узких теснинах жизни»
50
'.)
Предметный мир спектакля в целом крайне аскетичен, и только в самой большой кульминационной картине
«Мокрое» он насыщается. Если в «Дяде Ване» предметы становились в той или иной мере продолжениями
человека в пространстве, то в «Карамазовых» предметы были не «психологичны», а вполне нейтральны,
сами по себе. Почти все они, довольно немногочисленные, «вынимались» из текста: диваны пожестче,
ничем не характерные канделябры, столы (вначале шатающийся стол), подушки, одеяла, кресла
(специальное кресло для Use Хохлаковой), которое переделывалось, чтобы выглядело «побогаче».
Предметы в буквально реалистическом смысле были только опорой, «меблировали» комнаты с характерной
для Достоевского скудостью и безликостью.
Постановщики проявили заботу о «тоне», и в этом смысле «картины», выдержанные в единой, блеклой
гамме Достоевского, все же несколько подсвечивались выразительными с точки зрения цвета деталями:
желтая подушка думочка (2 картина); две синие чашки (3 картина); пестрые одеяла Фени, два дивана в
светлых чехлах («из Горя от ума») для сцены «Кошмара» и т.д.
Возникла и почти символическая деталь — зеркало без отражения. «Слепое» зеркало было зачем-то нужно,
может быть, для того, чтоб усилить эффект замкнутости интерьера.
Только одна картина шла с живописным размахом и предметной пестротой — «Мокрое». И только в этой
сцене из замкнутости был выход, стучала невидимая дверь. Во время репетиций придумали пестрое
убранство стола: наливки, рюмки, карты, шампанское, штопор, полотенце, рядом — лубочный короб «из
старинного гастрономического магазина», кульки с фруктами, цветные кульки, уже пустые, коробки с
пастилой и черносливом, и наконец, «самовар очень большой и самовар средний, оба медные, не очень
хорошо чищенные», которые забавно рифмовались с двумя «вывороченными тулупами». (Тут также
заметно движение вслед за автором. В романе очень подчеркивается трактирная «нечистота» — нечистота
вещей общественного употребления.)
'Театральные ведомости. Cud., 16,/Х 1910.
153
Картинную стилизованность этой сцены отмечал и А. Дикий, оставивший подробное описание спектакля:
«Было нечто стилизованное, малявинское в этих крикливых сарафанах баб, затейливых, с петухами рубахах
парней, в характерных фигурах евреев-цимбалистов, в разухабистой пляске, лихой частушке (...) И хотя
Владимир Иванович то и дело уводил это пестрое общество за кулисы, предоставляя сцену главным героям,
и хотя, повторяю, в сочетании общих и "сольных" номеров соблюдалось строжайшее чувство меры, мне все
же казалось, что успех картины держался совсем не на блеске "массовки"»
5|>
.
И действительно, порученная В. В. Лужскому «массовка» мало занимала Н. Д. в этом спектакле, можно
даже сказать, не занимала совсем.
Его интересовали только герои, персонажи с гипертрофированно наполненным внутренним миром, который
изливался вовне посредством самообъяснений и объяснений. И только актеры, лишенные каких бы то ни

было подпорок со стороны «режиссера нового толка», оставленные без прикрытия «режиссерских приемов»,
которых к моменту постановки «Карамазовых» выработалось великое множество. (Режиссерские идеи,
конечно, были, но эти «зерна» не претендовали на отдельное и самодостаточное существование.)
Кажется, сам Н. Д. отмечал, что театр в «Карамазовых» окончательно перестал бояться монологов. (Это
произошло как раз на подходящем литературном материале, ведь всякий монолог Достоевского — демон-
страция раздвоения личности и даже риторически построен, как диалог.)
Каждый герой сценического повествования имеет к другому жизненно важный интерес и одновременно
состоит в сложных отношениях с самим собой. Тут и фокусируются все мысли режиссера. Сложное пере-
плетение воль, мощно-гипнотические воздействия героев друг на друга, подъемы и спады чувств, «завод» и
«самозавод» — все эти особенности литературного материала обусловили режиссерское стремление к
тотальному внешнему аскетизму спектакля: фронтальные мизансцены, ритмические паузы. Мимика подчас
оказывалась важнее пластики, а интонация значительнее зрительного впечатления.
С точки зрения актерских задач и их решения особенно интересны две кульминации спектакля (обе
пришлись на второй вечер) — это дуэт Мити (Леонидова) и Грушеньки (Германовой) в «Мокром» и дуэт
Ивана (Качалова) с его чертом.
«Мокрое» предваряли две короткие сцены: Мити с горничной Грушеньки Феней и Мити с Петром Ильичом
Перхотиным. Момент трагического узнавания (Грушенька уехала со своим «прежним, бесспорным») и
одновременно простодушное позволение обвинителям взять след — узлы Митиной жизни, которые будут
развязаны в «Мокром», — даются
"' Дикий А. Повесть о театральной юности. М., 1957. С. 76.
154
именно в этих коротких по времени сценах (4 и 12 минут соответственно). И что особенно интересно, самая
длинная пауза (конец первого спектакля) помещается перед самой длинной (1 час 23 минуты) и эмо-
ционально накаленной сценой в «Мокром», с которой начинается второй вечер.
В Мокром прекращается длительная «погоня» Мити за своим счастьем, «сворачиваются» внешние действия,
и на первый план выступают, нарастая все больше и больше, терзания бесконечной греховностью,
вызванные исходным благородством его души. Он радуется «скорому подвигу», который ему как будто
самое время совершить: смириться с утратой Грушеньки, проститься с ней, и, заодно, со своей жизнью.
«Страшно повышенный, исступленный тон всей роли» здесь переходит в эйфорию. Радость предсмертного
освобождения, постепенно, с каждым новым доказательством растущего чувства Грушеньки, переходит у
Мити в суровую трезвость и даже мрачность, в такую жажду искупления, которая сама по себе с роковой
неизбежностью способна привлечь «погоню». («По мере "переключения" Грушеньки от поляков к Мите
(линия, талантливо прочерченная режиссером), по мере того, как душа этой женщины, видавшая так много
грязного, обидного, воскресала "для жизни и добра", нарастали тоска и тревога Мити»
52
'.) Непрерывный
эмоциональный взаимообмен в этом любовном дуэте, постоянное внутреннее взаимодействие героев, явное
преобладание этого внутреннего процесса над его внешними проявлениями, даже и яркими, - таким
представляется существование актеров. При всем внешнем портретном приближении Мити Леонидова к
Мите Достоевского, когда имелась и «аршинная твердая поступь», и деревянный смех, и всклокоченные
волосы и проч., главным было «совпадение темпераментов» актера и образа, самого крупного темперамента
МХТ и самого безудержного из братьев Достоевского.
Совершенный и новый принцип ансамблевой композиции — «объект в партнере» - имел своим ранним
прообразом «песочные часы» эмоциональных переливов в «Брэнде», где главный диалог эмоций, или даже,
можно сказать, «жизненных» энергий, происходил между Брандом и Агнес. Если в «Бранде» режиссер вслед
за автором следил за центральным жизненным интересом героя и за последствиями столкновения его идей с
миром, то в «Братьях Карамазовых» такая романтическая центростремительная композиция действия была
разрушена. (Впоследствии, пытаясь сделать спектакль, который мог бы уложиться в один вечер, Н. Д. хотел
назвать его «Дмитрий Карамазов», что указывало на новую попытку центростремительной композиции, от
которой, впрочем, сам режиссер отказался.)
52)
Дикий А. Укач. соч. С. 77.
155
Дмитрий Карамазов не был главным героем спектакля. Он был, если можно так выразиться, его
темпераментом: «существованием на грани возможного», «беззащитным сердцем», которое «кровоточило,
горело, сжималось от боли».
Повышенная экзальтация времени, лихорадочность и обостренность чувств выразились не только в
спектакле по Достоевскому, но и в нескольких шумных самоубийствах, связанных тем же, только в данном
случае абсолютно реальным, принципом «объект в партнере». Все газеты писали об этих самоубийствах
вслед за рецензиями на мхатовский спектакль. Любовная драма, разрешившаяся тремя, последовавшими
друг за другом, самоубийствами, особенно волновала прессу роковой ролью «времени» в этом деле.
Рассуждения некоторых авторов статей очень напоминали душераздирающие тексты героя Достоевского из
«Кроткой» о «пяти минутах», которые могли бы предупредить «обвал».
Зритель, оказавшийся в зале МХТ осенью 1910 года, был взнервлен ощущением «последней черты», это
была не мрачность, а скорее, лихорадочная приподнятость. (Именно осенью 1910 года свой тоже в какой-то
мере «брандовский» поступок: разрыв, бегство совершил перед смертью Л.Толстой.)
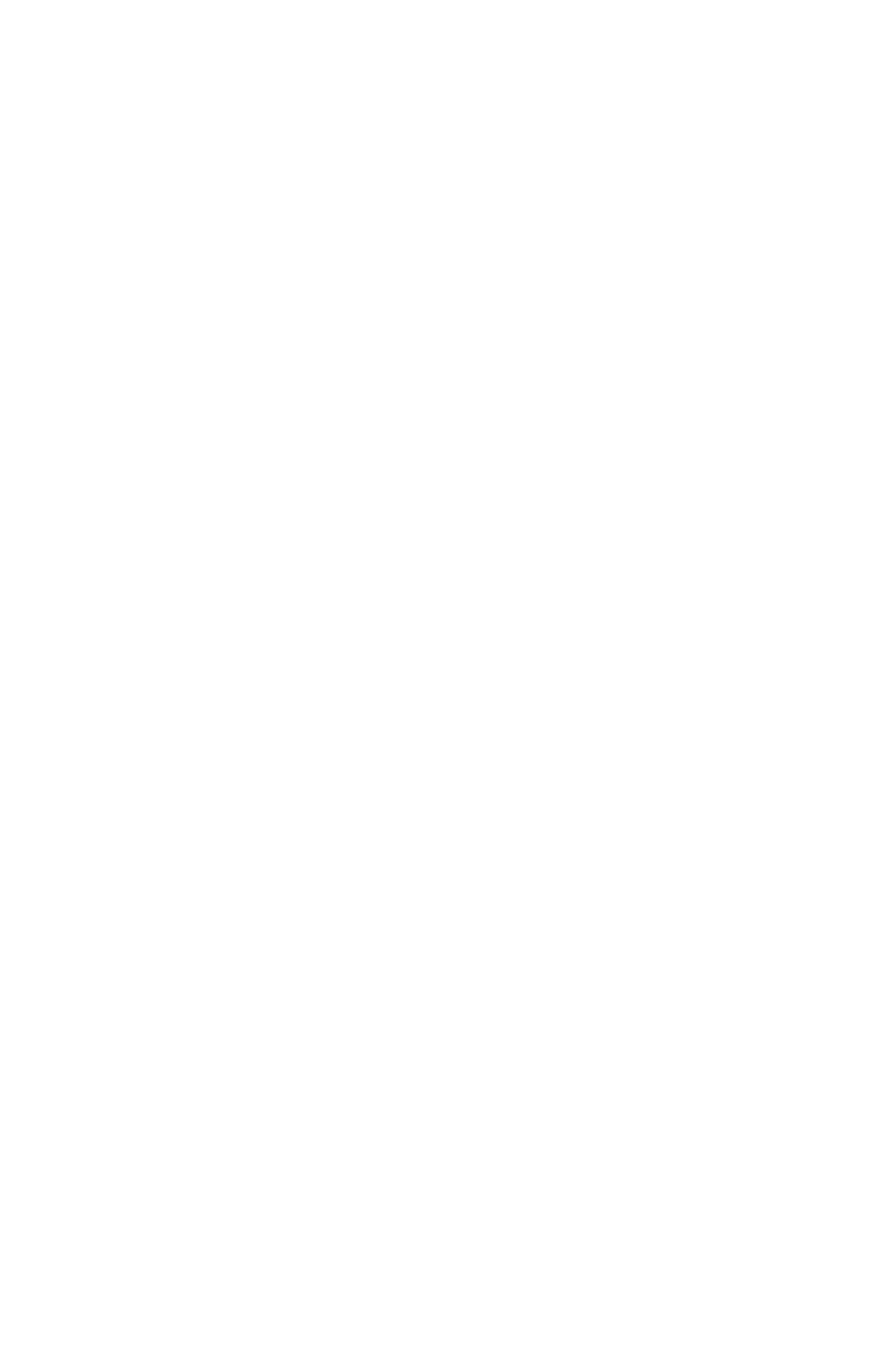
Серьезность настроений (выразившаяся в неудержимой тяге к бескомпромиссным решениям) — реальный
фон, на котором возникли «Братья Карамазовы». Это отражалось в газетах с опрометчиво легкомысленными
интонациями: «На первом представлении кулуары театра представляли весьма любопытную картину.
Публика волновалась, настроение было очень повышенное, нервы у всех натянулись до крайности. Может
быть, именно этими натянутыми нервами можно объяснить и буфетный скандал между двумя зрителями,
закончившийся кулачной
расправой»
53
'.
Обнажение души до «последней черты», до того предела, за который уже не может вторгаться искусство, —
было и такое зрительское впечатление от спектакля в целом и от «Мокрого» в частности.
Инсценировка, которая в данном случае выступает одновременно как режиссерское решение спектакля, не
являлась попыткой просто «сжать» и драматизировать роман. Эта инсценировка принципиально
захватывала только кульминационные точки в отношениях персонажей романа. (Так, в романе Иван
несколько раз ходит к Смердякову, прежде чем осознать свое попустительство. Инсценировка же сразу
брала последнее и главное объяснение.) Эти множественные кризисы разных душ и разных судеб не
переливались один в другой, а существовали как бы через отточие (минутные или двухминутные паузы
между картинами). Перечислим эти события и кризисы (прибавив, что перерывы
53>
Руль. М., 18/Х 1910.
156
в действии возникали не только при смене картин, но и в моменты вступления чтеца).
Нетрудно заметить, что каждая картина содержит либо открытый скандал, либо предваряющие его
причины, либо тихо, затаенно высказанную ненависть не на жизнь, а на смерть, либо взлет любви,
обрывающийся арестом, либо муки совести, переходящие в безумие. В любом случае, каждая картина
буквально требует в какой-то момент занавеса, «непереносима» без обрыва.
1) «Контраверза». Митя хватает старика Карамазова за последние его волосы и ударяет об пол (30 минут).
2) «В спальне». «Я Ивана боюсь», — говорит отец, сцена тихого ужаса (6 минут).
3) «Обе вместе». Грушенька не возвращает поцелуя Катерине Ивановне, «а так и оставайтесь с тем на
память...», что вызывает ответный припадок Ек. Ив.: «плетью, на эшафоте, чрез палача, при народе...» (22
минуты).
4) «Еще одна погибшая репутация». Исступление Мити: «Вот тут — готовится страшное бесчестие».
Начало его излияния — «детективная завязка» сюжета, а конец — вопль о будущем: «гибель и мрак!
...Смрадный переулок и инфернальница!» (10 минут плюс 19 минут на смену декораций).
5) «У отца». Алеша в попытке примирить Митю с отцом, не добивается ничего, кроме: «а все же от меня ни
шиша не получит», «разбойника Митьку хотел сегодня было засадить», «а Митьку я раздавлю как таракана»
и т. д., ни намека на примирение (17 минут).
6) «У Хохлаковой». Куриное кудахтанье вдовы Хохлаковой: «скажите, почему с Lise истерика!» «И там эта
трагедия теперь в гостиной, которую я не могу перенести...» Алеша появляется с укушенным пальцем,
сообщает об Илюшечке, которого хозяйка дома трагикомически определяет как «бешеного мальчика» (15
минут).
7) «Надрыв в гостиной» — сплошь выяснение отношений и скандал. Катерина Ивановна упорствует: «я все-
таки не оставлю его» (Митю). На предположение Алеши о том, что она не любит Митю, а настаивает из
гордости, при том любит Ивана и мучает его, тоже из гордости, она в ответ кричит ему: «Маленький юроди-
вый!» (22 минуты плюс 10 минут перерыв на смену декораций).
8) «Надрыв в избе». Снегирев с надрывом: высечь или все-таки не высечь Илюшечку (17 минут).
157
9) «И на чистом воздухе». Исступленная повесть об Илюшечке, как он папу от обиды пытался защитить. Со
страхом про гнев илю-шечкин великий, про невозможность примирения за милостыню. Кончается дело
истерикой Снегирева с топтанием денег. Причем до последнего момента не ясно, возьмет он их на
прокормление и спасение семейства или топтать станет (19 минут).
10) «Еще не совсем ясная». Смердяков казуистически привлекает Ивана в сообщники. В какой-то момент
просветления Иван хочет ударить, но сдерживается. Соглашаясь со Смердяковым, что куда бы он ни уехал,
в Москву ли, в соседнюю ли деревню, его все равно скоро «вызовут», он придает двусмысленности
положения статус кво, а Смердяков, со своей стороны, понимает все однозначно и определенно. Иван
вскрикивает и судорожно смеется... и готов сговор об убийстве, где попуститель не отдает себе отчета, в
особенности в том, что механизм уже приведен в действие (16 минут плюс 20 минут перерыв на смену
декораций).
11) «Луковка». Грушенькин надрыв о ее женской участи (23 минуты). 12, 13) «Внезапное решение». Митя
собирается в Мокрое, вслед за Гру-
шенькой, отмывает кровь с лица и рук, одновременно «готовит» погоню за самим собой. (Двенадцатая
картина длится всего 4 минуты, а тринадцатая — 12 минут.) На этом кончается первый вечер «Братьев
Карамазовых».
14) «Мокрое». Объяснение Мити с Грушенькой, любовь, пресекшаяся арестом. (1 час 23 минуты плюс 25
минут перерыв на смену декораций).
15) «Бесенок»: второй раненый палец. Надрыв Lise, жаждущей мучений от болезненности и домашней

избалованности (12 минут).
16, 17) «Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович», — грозит Катерина Ивановна Алеше и прибавляет
далее: «Женщина часто бесчестна». «Убил отца не ты», — вдруг задрожав, бросает Алеша Ивану.
(Шестнадцатая картина — самая короткая в спектакле — длится 3 минуты. Следующая — 8 минут).
18) «Третий визит к Смердякову». Иван сознает, что его, против воли, все-таки уловили. Кризис
осознания виновности мысли... (22 минуты плюс 17 минут перерыв на смену декораций).
19) «Кошмар». Распадение сознания Ивана (32 минуты).
20) «Внезапная катастрофа». Суд над Митей (15 минут).
Временная протяженность «потрясений» соответствует характерам персонажей и их обстоятельствам —
кого на сколько хватит. Несмотря
158
на четкую, детективную взаимообусловленность событий, время спектакля не является неким единым
потоком. Оно, как канат, сплетается из «индивидуальных» длительностей или «психологических»
времен персонажей. Причем, о ком бы ни шла речь, всегда время самообъяснения превалирует над
временем действия. Вот самый яркий тому пример: суд над Митей Карамазовым, сцена, в которой
задействованы почти все персонажи, а также лица от общественности, длится 15 минут, а самотерзание
Ивана, его диалог с чертом — 32 минуты.
Пространство, редко впрямую соотносящееся с «душевными потрясениями» героев, сменяется
покартинно, зритель как бы перелистывает книгу, один лист за другим, или переносит взгляд с одной
картины на другую. Пространство в данном случае — это несколько пространств, определенное число
«ячеек» для определенного числа событий. Внутри отдельной картины оно неизменно и нацелено на
решение главной задачи: укрупнения масштаба личностей.
Что происходит за пределами интерьера, собственно на улице? Картина № 4 (исповедь Мити перед
Алешей под ракитой); № 9 (продолжение исповеди Снегирева об Илюшечке); № 10 (страшный уговор
Смердякова и Ивана, когда одна из сторон — Иван — не отдает себе отчета в свершившемся); картина
№ 17 «Не ты, не ты» (объяснение Алеши и Ивана). На природе — исповеди перед Алешей,
кончающиеся воплем безвыходности, и история одного искушения. Интересно, что пространство этих
событий на воздухе, вне интерьера строится по принципу «целое через часть»: ворота, одно дерево,
один камень, один фонарь. («В картине третьей — на сцене только один предмет: погнувшаяся старая
ракита. Больше ничего. Но эта ракита так великолепно сделана, так покачиваются под ветром ее
темные подернутые мхом ветви, что кажется, будто она и в самом деле живая. В картине девятой на
сцене тоже один предмет: ворота Карамазовского дома, но они точно выхвачены из шестидесятых
годов, с трещинами, с пылью, с облезшей краской, и на них играют лучи заходящего солнца... Или в
картине семнадцатой: на фоне зимней ночи пустынный перекресток окраины города, узенькие перила
расшатанного мостика, горит тусклый, грязный керосиновый фонарь. Но за этой небольшой картиной
зритель чувствует и пустынную улицу, легкий холодок зимней ночи, и просто провинциальную
тоску»
54
'.)
Все остальные сцены — в интерьере, в квартирах людей разного состояния, в трактире, в суде.
Художественное пространство дробится, но при этом сохраняется его духовное единство,
воплощающееся в образе перелистываемой книги.
Второй (после «Мокрого») кульминацией спектакля был «Кошмар» Ивана Карамазова.
541
Сибирская жизнь. Томск. 24/XI 1910.
159
Зрители и критики по-разному отметили идею театра не показывать черта, но, в сущности, есть ли черт
у Достоевского, несмотря на подробность его внешней характеристики, еще вопрос... Приходит Иван
домой накануне белой горячки, а у него на одном из диванов сидит пошлого вида, похожий на
приживала господин. Не случайно известная сцена романа как раз и начинается с медицинских
пояснений.
Припомним еще такие слова черта: «Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня
своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас же меня же в глаза
начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели»
5S)
.
Можно сказать, что, сделав черта материально несомненным объектом, театр убил бы веру в него...
Черт стал бы неубедителен, и ужас от его присутствия сильно уменьшился. Именно неведомое,
невидимое зло способно свести с ума.
С другой стороны, мотивируя все только «белой горячкой», был грех впасть не только в
антихудожественный натурализм, но и измельчить трагический масштаб происходящего.
Черт Достоевского хамски вторит Мефистофелю Гете («Частица силы я, желавшей вечно зла,
творившей лишь благое»); этот черт с невероятно наглой интонацией утверждает, что он давно уж и не
желает зла, делает как раз только добро, и закручивает Ивана до безумия именно этим.
Качалов, не отделивший в «Бранде» идею от человека, в сцене «Кошмара» сыграл одновременно и
Ивана, и черта.

Их разделяли «отграничивающие» жесты, на последних словах одного и вступлении другого что-
нибудь падало: то мундштук, то спички; хлопала крышка портсигара. Сцена шла почти в темноте, при
свете свечи, с огромной черной тенью на стене. Иван и черт отличались интонационно.
У Достоевского реплики Ивана короче, нежели рассуждения черта: как правило, это вопросы,
возмущенное негодование, безнадежные попытки отделаться от назойливого собеседника, но, главное,
самое главное, это все что угодно, но не философские рассуждения, это вообще почти не мысли, а
чувства. Напротив, черт всезнающ, назидателен, «нездорово» словоохотлив и даже, можно сказать,
болтлив, говорит на серьезные темы и цинично отстраняется, прибегая к помощи специфической
иронии «светской беседы», такой денди-приживальщик.
На самом деле, Иван на протяжении всего спектакля «раздваивался постепенно», но зерно этого
раздвоения существовало в нем с самого начала: в каких бы «выяснениях» он ни участвовал,
параллельно в нем
55)
Достоевский Ф М. Собр. соч. М. 1958. Т. 10. С. 174.
160
осуществлялась до времени загадочная душевная работа. Что-то подселившееся в его душу пыталось в ней
обжиться и прижиться; что-то, исходное, выталкивало приживала. Открылся внутренний сюжет Ивана,
состоялось его главное объяснение именно в «Кошмаре».
В спектакле современников поражала, пугала, восхищала именно эта борьба за душу, которую показывал
Качалов. Процессы в нематериальной сфере явились как реальные, несомненно реальные.
«В Сцене кошмара, в беседе с чертом Качалов сумел вызвать чувство глубокой жути, почти заставил
галлюцинировать зрителя. Порой хотелось больше верить в реальность галлюцинации, чем в безумие
Ивана»
56)
.
Даже любители реального в искусстве восклицали почти в сердцах: не бывает таких настойчивых и
непреклонных самотерзаний, самообманов и самоиздевательств.
Статьи Горького («О карамазовщине» и «Еще раз о карамазовщине», написанные уже в связи с
намерениями Немировича снова ставить Достоевского), в каком-то смысле вопль о том, что от «старца» дух
тлетворный идет, что обществу нужна бодрость, а не ужас погружения в духовные глубины. («Почему же
внимание общества пытаются остановить именно на этих болезненных явлениях нашей национальной
психики, на этих ее уродствах? Их необходимо побороть, от них нужно лечиться, необходимо создать
здоровую атмосферу, в которой эти болезни не могли бы иметь места», или еще «Необходима проповедь
бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание, необходим возврат к источнику
энергии — к демократии, к народу, к общественности и науке».)
На самом деле, и вправду происходили события как будто на руку Горьковскому выступлению. На
спектакле «Братья Карамазовы» случались и обмороки и истерики, что, в свою очередь, весьма охотно мус-
сировалось прессой («10-го февраля, в Художественном театре, после восьмой картины "Братьев
Карамазовых", с двумя зрителями случилась истерика. Артист театра Корша Н. Е. Щепановский, в
истерическом припадке, с криком бросился бежать из зрительного зала в коридор и упал на пол в фойе. (...)
Другой случай истерики был с какою-то молодою девушкой, которую родственники увезли домой. Случил-
ся истерический припадок в этот же вечер и с известной артисткой О. Озаровской, бывшей в публике»
57
'.)
Чуть не каждое новое самоубийство, пришедшееся на начало второго десятилетия XX века, настойчиво и
уверенно приписывалось «общественной атмосфере»; Горький, под-
56)
Русское слово. М., 14/Х 1910.
57)
Утр<> России. М.. 12/И 1911.
161
сказывая мрачный ответ, спрашивал МХТ, не виновен ли он в росте самоубийств.
Можно сказать, что Немирович спровоцировал «суд» над собой, кончив свой спектакль сценой суда, оставив
«открытый финал». И жизнь предоставила ему могучего «прокурора» в лице Горького.
Но и голоса защиты тоже звучали: «"Братья Карамазовы" — не зрелище для глаз и для обычных театралов
"от любопытства". Такому зрителю будет в театре не менее скучно, чем стулу, на котором он сидит, и не
более от спектакля он получит. Но те, кто ничего не понимают во всех театральных "измах", не знают, кто
такой Крэг или Фукс, но ночью встают непонятно с постелей и прижимаются головой к холодному стеклу, и
долго рыдают о чем-то в темноте и молят тишину о каких-то ответах, — те нуждаются в "Братьях
Карамазовых" на сцене»
58)
.
Таким образом, сюжет «суда», завершавший постановку Немировича-Данченко, продолжился в реальности:
автор спектакля стоял на том, что его спектакль бодр сознанием величия русского характера, а его
оппоненты, выступившие как против самого факта инсценировки прозы вообще, так и против театрального
воплощения Достоевского в частности сыпали упреки в том, что театр несвоевременно внедряет в
общественную атмоферу «мрачность» самотерзаний героев Достоевского.
Начав разговор о режиссере издалека, к концу этого разговора мы перешли на крупные планы.
Приближенный, увеличивающий все «детали» анализ двух постановок в МХТ, «Месяца в деревне» и
«Братьев Карамазовых», позволяет рассмотреть ту фазу развития режиссерского искусства, когда внимание
героя или, если угодно, героев нашего повествования, ранее направлявшееся в равной степени на
сотворение мира и человека, теперь сосредотачивается именно на человеке, на актере. Приоритетами
режиссерского искусства становятся внутренний мир, запутанные лабиринты человеческих душ, динамика

психофизических процессов. «Объект в партнере», постоянный диалог героев друг с другом, такие
отношения, когда каждый имеет к другому жизненно важный интерес, — вот центральный режиссерский
сюжет в психологическом театре. Персонажи молчат наедине с собой, молчат друг с другом, или привычно
беседуют друг с другом, или беседуют сами с собой, а зритель тем временем «проживает» их внутренний
монолог или диалог, или поток сознания, как свои собственные психические процессы. Творчество «нового
человека» приходит на смену «творчеству мира» как отражения человека.
Тургенев и Достоевский были невозможны без «обостренного партнерства». Крайний аскетизм внешнего
выражения чувств предполагал
""Обозрение театров. Спб., 13/IV 1911.
162
предельную сгущенность внутренних процессов. Кризисы отношений, точки обострения были лишь
видимой частью сейсмически опасного движения в душах. (Что такое внешний покой артистов и спектаклей
МХТ, приоткрывается в уже упоминавшемся письме Леонида Андреева Книп-пер. * Когда я был маленький,
я нес однажды стакан с чаем и старался не расплескать, еле передвигал ногами — и когда почти донес, взял
и хлопнул об пол и чай, и стакан».)
Пространства этих спектаклей, при всем различии сценических задач, имели нечто общее. Скажем о
различиях, чтобы подчеркнуть общее. Предметный мир тургеневской усадьбы был любовно и точно
нарисован мирискусником Добужинским, со свойственной этому направлению техникой
реконструирующего погружения в ушедшую реальность, а «быт» Достоевского, с его вещами из
меблированных комнат, трактиров и т.п, напротив, как раз не требовал подобной историчности. Теперь о
важном сходстве — герои поданы рельефно, придвинуты к зрителю, и взгляд, и тихий вздох имеют не
меньшую силу действия, нежели физическое движение. «Месяц в деревне» и «Братья Карамазовы» тяготели
к замкнутому, суженному пространству. В то же время эти пространства не были просто фоном действия.
Особый вкус к воссозданию совершенно реальных и одновременно художественных деталей был свойствен
и тому, и другому спектаклю. Предметы имели каждый свой собственный характер. Их в общем-то
небольшое количество и тщательная отобранность позволяли «быту» стать художественно претворенной
реальностью. Вот, скажем, садовый половик (имитирующий травяной покров) с бликами солнечных лучей:
узор его пятен «вечен», как символ, и конкретен, как природа. А кривой мостик с фонарем тоже становится
символом — символом провинциальной тоски — именно благодаря своей отвлеченности от человека
лирического.
Ритм действия, замедленно, но неудержимо влекущийся к финальной развязке в «Месяце в деревне», и
дробный ритм смены сценических картин, то очень коротких, то длинных в «Братьях Карамазовых» в
первую очередь предстают как ритмы смены настроений, состояний сознания действующих лиц. Эта
пульсация внутренней жизни не имеет прямого лирического продолжения в трепетании мира. Мир и люди
связаны лишь объективной несомненностью существования. Свет как самостоятельное действующее лицо,
как средство набросить дымку на происходящее и превратить все составляющие сценической картины в
нечеткие образы из царства фантазии, то средство, которым столь широко поначалу пользуются многие
режиссеры, в искусстве МХТ 10-х годов уже задействован иначе. Он становится подчиненным
выразительным элементом. Все, что случается с Натальей Петровной, Ракитиным, Верочкой и Беляевым,
случается при ярком свете летнего дня (на репетициях К. С. все время, с большой настойчивостью требует
увеличить число
163
ламп белого света). Со сновидческим миром-видением эта реальность не имеет ничего общего. Немирович-
Данченко тут не столь бескомпромиссен, да и литературный материл не всегда требует дневной «ясности»
сценической картины. Но в «Карамазовых», исключая сцену кошмара, герои действуют на светлом фоне и
видны, как на ладони.
Сделать видимым внутренний мир человека — теперь более важный сюжет для режиссера, нежели
воплощение «видения». Приходит время поисков «системы» актерского искусства. Именно в эту область
творчества, так или иначе, каждый по-своему, устремляются в дальнейшем почти все герои нашего
повествования.
Именной указатель
Адцисон Дж. 14
Айхенвальд Ю. И. 150
Алуа 30
Андреев Л. Н. 110, 112-114, 147
Антуан А. 5, 39, 42, 46-52,94-98, 101
Антье Б. 27, 30
Аппиа А. 5-7, 39, 41, 44, 54-70, 76,
83,84,89, 102-107, 112, ИЗ Арель 31 Артманн 48
Баб Ю. 101
Байрон Дж.-Г. 20, 21
Банвиль Т. де 95
Беарн Р. де 62

Бек А. 95
Беллини Дж. 72
Бенуа А. Н. 57
Бергсон А. 79, 82, 83
Бердяев Н. А. 151
Бернар С. 33, 34, 50, 98
Беро 29
Визе Ж. 63
Блок А. А 111, 112
Бодлер Ш. 54
Бокаж П. 31
Бомарше (П.-О. Карой) 16
Брам О. 39, 131
Браудо Е. М. 77
Бюхнер Г. 19, 22, 23, 34
Вагнер Р 7, 26, 36, 39, 54, 55, 57, 63,
75,76,85, 102-104, ИЗ Ваккенродер В.-Г. 20 Веронезе П. 72 Волконский С. М. 7, 65, 75 Волошин М. А. 85, ПО, 137
Вольтер (Ф.-М. Аруэ) 15 Выготский Л. С. 67
Гамсун К. 124, 126, 127 Гауптман Г. 96 Гегель Г-В. 24, 36 Германова М. Н. 135, 153
Гете И.-В. 5, 16, 17, 73, 159
Глюк К.-В. 85
Го Э.-Ф.-Ж. 50
ГойяФ. 113
Гонкур Э. де 49, 95
Горький М. 70, 160, 161
Готфрид Страссбургский 77
Готье Т. 31
Гофман Э.-Т. А. 21, 22, 27, 38
Гофмансталь Г. фон 89
Гюго В. 19, 21-24, 31, 47
Дампт 62
Даньян-Бувре 62
Дебюсси К. 36, 37, 86, 96
Девриент Л. 25-27, 34
Делакруа Э. 21
Дельсарт Ф. 13, 14
Деннери А. 31
Дидро Д. 14, 16
Дикий А. Д. 152-154
Дино (Беден Ж. и Губо П.) 30
Добужинский М.В. 139, 145, 162
Додэ А. 95
Дорваль М. 31
Достоевский Ф.М. 148-155, 159, 161
Дузе Э. 101
Дункан А. 7, 37
Дюма А. (отец) 29, 30
Дюма А. (сын) 5, 39, 94
Дюмануар Ф. 31
Дюранти Э. 46
Егоров В. Е. 128
Жак-Далькроз Э. 6, 7, 37, 84-87 89 92, 104 ' '
Жарри А. 106 Жорес Ж. 94
165
Золя Э. 46, 47, 52, 95, 96
Ибсен Г. 3, 41, 96, 101, 109, 111, 132,
133, 135, 136 Иванов Вяч. И. 85 Ирвинг Г. 35 Иффланд А.-В. 27
Кандинский В. В. 107
Кант И. 24
Карпаччо В. 72
Качалов В. И. 134, 136, 137, 153, 159,
160
Кийар П. 51, 53 Кин Э. 20, 25, 33, 34, 67 Кин Ч. 5, 35, 39, 52, 78 Клейст Г. фон 22, 34 Книппер О. Л. 127, 147, 162
Коклен Б.-К. (старший) 50 Комиссаржевская В.Ф. 6, 101, 108-
110
Краус 46

Кронек Л. 5, 49, 78 Крылов В. А. 5 Крэг Г. 4-7, 21, 39, 55, 64-70, 91, 101,
105, 106, 129, 161 КугельА-Р. 150,151
Лафон П. 28
Леметр А.-Л.-П. (Фредерик-Леметр)
20, 25, 27-31, 34 Леонидов Л. М. 153, 154 Лужский В. В. 153
Малларме С. 51, 54
Малявин Ф. А. 85
Манн Т. 39
Маре Г.фон 73
Мариво П.-К. де 14
Матисс А. 56, 84, 85
Мейерхольд В. Э. 7, 44, 54, 56, 75-77,
87, 91, 92, 101, 107-114, 125,
137, 151
Мендес К. 48, 95 Мерль 29 Метерлинк М. 3, 24, 55, 80, 81, 85, 91,
109, 111, 122, 127
Мирбо О. 81
Моисеи А. 35, 89, 101, 102
Мольер (Поклен Ж.-Б.) 12, 28, 31, 48
Моне К. 53
Мопассан Г. де 96
Морозов С. Т. 122
Москвин И. М. 133
Мочалов П. С. 34, 67
Муне-Сюлли Ж. 50, 98, 99
Мунк Э. 101, 109
Мюссе А. де 20, 21, 23
Немирович-Данченко В. И. 5, 132-
135, 139, 150, 161, 163 Нижинский В. Ф. 37, 86 Ницше Ф. 37, 38, 85, 103 Новалис (Харденберг Ф. фон) 25, 38,
122
Оверне 30 Ожье Э. 5, 39, 94 Орлик 65, 72
Пиа Ф. 31
По Э. 96
Рамберт М. 37
Расин Ж. 17, 28
Рашель (Э. Феликс) 13
Рашильд 51
Рейнхардт М. 6, 7, 39, 70-72, 88, 89,
99-102, 111, 112, 131 Рембрандт X. ван Рейн 99
Сарду В. 5, 39, 94
Сезанн П. 55, 56
Сен-Дени Р. 37
Сент-Аман Ж. 30
Сервантес М. 20
Серлио С. 9
Симов В. А. 133
Скриб Э. 5, 39
Смирнов А. 77
Софокл 89
Станиславский К. С. 6, 7, 50, 92, 115, 120-126, 128, 129, 131, 132, 138, 139, 141, 144, 146-148, 150
166
Степун Ф. А. 131 Стил R 14
Стравинский И. Ф. 37, 86 Стриндберг А. 3, 5, 96
Тик Л. 20
Толстой Л. Н. 96, 155
Тургенев И. С. 138-141, 143 148 161
Тьеполо Дж. 73
Фантен-Латур А. 54, 66
Фейербах А. 73
Фихте И.-Г. 24, 38
Флекк И. 25-27
Фор П. 39, 51, 53, 54, 79
Фрейд 3. 6, 42, 43
Фридрих К.-Д. С. 21
Фукс Г. 7, 39, 56, 73-77. 90, 91, 106,
Фуллер Л. 37, 108 Ходлер Ф. 56, 73
