Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков
Подождите немного. Документ загружается.


глубине, в центре стены — сцена. Она закрывается занавесом из голубого плюша (...) Стены почти голые,
только в одном месте в углублении "Тайная вечеря" Даньян-Бувре». Размеры этой сценки, которая
находилась в центре стены, в нише, были около 5 метров в высоту и 8 в ширину. Этот «гротик» был словно
рожден для изящной театральной живописи, под итальянский барочный придворный театр.
'* Appia A. CEuvres completes. Paris, 1986. Vol. 1. P. 177.
63
Аппиа надеялся поставить «Тристана и Изольду», но графине эта опера показалась «слишком большим
куском», который может утомить светскую публику, собравшуюся по поводу создания благотворительной
организации «Союз взаимопомощи женщин Франции». Аппиа, в конце концов, остановился на «Манфреде»
Шумана («сцена воскрешения Астарты») и «Кармен» Визе (первая сцена II акта, песни и пляска Кармен). И
особенно ярко проявился в «Манфреде», который был его мечтой двадцатилетнего возраста.
Декорацию к «Манфреду» он называет «ужасом в линиях». На переднем плане он размещает две колонны
мрачного фиолетового тона. (Этот цвет почти не меняется под действием различного освещения.) За
колоннами — ступени, поднимающиеся по диагонали сцены слева направо. «Манфред» — попытка
возвращения к семантике средневекового театра, где движения и расположение персонажей были
символичны. Манфред с духами Аримана располагался внизу слева, Астарта — «бо-тичеллиевское явление»
— освещалась сверху белым, вибрирующим, рассеянным светом.
Цель Аппиа — показать два мира в их противоположности друг другу такими средствами, которые бы
проясняли самую суть этой противоположности. Каждая деталь декора подчеркивала стремление Ман-
фреда к Астарте, восходящее движение слева направо перекликалось с натянутым слева направо занавесом.
Пространство между Манфредом и Астартой сохранялось в полной темноте, только их тени странным
образом смешивались друг с другом. Аппиа дает свой вариант символистского спектакля. Не вторгаясь в
область актерского исполнения, он предельно жестко ограничивает, очищает от малейшей бытовой дета-
лизации пространственные отношения. Его постановка при кажущейся простоте была очень сложна.
Режиссер учитывает расположение действующих лиц, партитуру их движения по сцене, отношения с
декором, расположение теней и их взаимодействие, добивается согласованности визуального ряда со всеми
нюансами музыкального развития.
В графских фаворитах Аппиа, к сожалению, не задержался, а в том особняке, где прошел его первый
спектакль, случился пожар. Воистину, Огонь был не только важным действующим лицом «Гибели Богов»,
но и символическим «персонажем» в судьбе самого художника.
Аппиа не суждено было создать своего театра, но ему удалось нарисовать его. Серия его эскизов под
названием «Ритмические пространства» не имеет своей основой те или иные драматургические про-
изведения. Это поэтически-абстрактное «место действия», где может действовать тот герой и
разворачиваться те коллизии, которые породило творчество Вагнера.
Эти пространства Аппиа на редкость несуетны, в них простор и покой. Некоторые их них столь архаичны,
что еще ожидают появления
64
человека, только предчувствуют его. Аппиа-художник словно бы исходит из неожиданного парадокса:
живое искусство — остов реальности. Примером тому может служить его решение декораций к «Парсифа-
лю». Деревья, передвигаясь от дальнего плана к переднему, вытягиваются и выравниваются в столбы, в
колоннаду мифического Грааля. Это движение ко все большей обобщенности пространственного образа и
есть главный стержень эволюции художника. От мистического танца изогнутых линий стиля модерн к
кубической определенности, к голой оппозиции вертикали и горизонтали раннего конструктивизма, от
конкретного, природного, пусть и преображенного творческой волей художника пейзажа к абсолютной
отвлеченности, спиритуализированой, полой структуре - таков диапазон художественной стилистики Аппиа.
За тридцать лет гора у него превращается в лестницу, и все объекты, принадлежащие природному миру,
исчезают. Пространство уже не отражение чего-то сколько-нибудь реального, а материализовавшиеся
мысли и чувства художника, выражение его воли.
На ранних эскизах остается совершенно невнятен материал, из которого должны быть сотворены все
объекты. Можно лишь предположить, что это все же различные материалы. Поздние ритмические простран-
ства демонстрируют материальное единство мира. Грубые, тяжелые, неподатливые плиты в лучах света,
льющегося отовсюду: сверху, снизу, с боков. Эти образы невольно вызывают в памяти шопенгауэровское
соотнесение музыкального звукоряда с иерархией живых и неживых форм материи. Камни ведут басовую
партию. На этом фоне переливающаяся, неустойчивая мелодия живых существ кажется особенно
выразительной. Ритмические пространства Аппиа в большинстве своем немыслимы без музыки.
За два года до смерти Аппиа делает эскиз к «Королю Лиру», эскиз с какой-то темно-пророческой загадкой.
Художник не пользуется ни одним из своих любимых приемов. На нем отсутствует глубина дальнего плана.
А ведь горизонт почти всегда имел у художника важное смысловое значение. Изображенное пространство
замкнуто и похоже на мрачное подземелье гигантского замка. Оно не испытывает ни малейшего тяготения
ввысь, к небу, создается физически ощутимое впечатление нависающего потолка. Аппиа отказывается и от
прямых углов, от перпендикуляра, впервые используя кренящиеся столбы. Формы монументальны, но в них
нет гармонического равновесия, нет настоящей устойчивости. Такое место действия заведомо обрекает
героя на гибель. Этот «Король лир» обращен в 30-е годы, порог которых самому Аппиа не суждено было

переступить.
Аппиа-художник становится знаменит в 1914 году, после совместной с Крэгом выставки в Цюрихе.
«Наибольшие "мечтатели" в выставленных рисунках - Гордон Крэг и Адольф Аппиа. Они же, по-видимому,
65
и наиболее влиятельны, почти все сколько-нибудь выдающееся в смысле новизны, соответственно, восходит
к ним. (...) Лучшие картины рей-нгардтовского театра не что иное, как "простоватый Крэг" (декорация
Орлика к "Зимней сказке"), а "Терраса Эльсинорского замка" в постановке гамбургского театра (декорации
Шумахера) — "испорченный Аппиа"», - писал С. Волконский уже о другой, мангеймской театральной
выставке.
Сравнение пространственной образности Аппиа и Крэга имеет длинную историю. Художники шествуют
неразлучной парой, как в критических трудах современников, так и потомков. И действительно есть нечто
общее, сближающее в их творчестве - стремление представить мир во всем его величии, с онтологической
вертикалью, не прибегая к живописным иллюстрациям. Но существенны и их различия. Линии эскизов
Аппиа более четки и откровенны, линии Крэга — эфемерны и дематериализованы. Отношения материала,
из которого сотворены декорации, со светом у Аппиа определеннее. У Крэга свет маскирует материал, у Ап-
пиа, наоборот, откровенно выявляет. Аппиа подчеркивает степень тяжести конструкции, отношения его
объемов с силой тяготения предельно ясны. Рвущиеся ввысь, вертикально вздыбленные объемы Крэга стре-
мятся эту силу тяготения преодолеть, порвать с ее диктаторской мощью.
Аппиа пользуется грубыми и шероховатыми, чувственно «реальными» поверхностями. У Крэга поверхности
опутаны световой паутиной, что придает им некую призрачность и при всей их огромности — нема-
териальность. Крэг-художник как бы хочет возвыситься над законами бытия материи, для Аппиа же,
напротив, самые важные законы непреодолимы, им необходимо следовать. Если у Крэга активный свет
всегда растворяет материю, то у Аппиа это далеко не всегда так: свет способен превращать тяжелые объемы
в силуэты, но способен и, наоборот, возвращать им их естественную тяжеловесную мощь и даже усиливать
ее.
Пространства Аппиа более независимы от их творца, чем пространства Крэга. Аппиа проявляет волю к
имперсональности, к объективности пространства, при всей его связи с человеком и пропорциями тела. Крэг
создает мир, не порывающий со своим творцом, и эта связь предельно выявлена.
У Крэга действительность приобретает более отраженный характер по отношению к человеку, хотя она, как
правило, враждебна трагическому герою. И поскольку противостояние героя и мира сразу становится
очевидным при взгляде на эскизы Крэга, постольку оно демонстрирует нерасторжимость этих отношений.
Аппиа нигде не позволяет себе аналитически изложить суть изображаемых коллизий. К духовному
содержанию Worttondram'bi можно, следую мысли художника, только приобщиться. По отношению к
смыслу, идеям художественного произведения Аппиа ведет себя как «посвящен-
66
ный», бережно охраняющий тайну своего посвящения. Крэг же, напротив, более откровенно обнаруживает
свои интерпретаторские помыслы. Поэтому на эскизах он выстраивает мизансцены.
Оба художника предопределяют партитуру перемещений персонажей в пространстве: для Аппиа — это
горизонталь и движение в глубину, для Крэга это вертикаль и диагональ. И характер этого движения разли-
чен. У Крэга оно более порывисто, сильнее контраст между движением и остановкой, у Аппиа оно
размеренно и плавно. Для Аппиа важна напряженная статика и плавность переходов, для Крэга, напротив,
взрывной характер движения.
И у Аппиа, и у Крэга ступени — ноты в пространственной гамме. Мелодии же пространственных
перемещений звучат у них совсем по-разному, у одного в замедленном, у другого в ускоренном темпе. Само
движение у Крэга более обусловлено актерским темпераментом, нежели у Аппиа. Мифологические герои
Аппиа несут на себе оковы музыкального ритма.
В 90-е годы литографии французского художника-вагнерианца Фан-тен-Латура явились для Аппиа неким
предчувствием необходимости слияния героя и сценического мира. Весьма многозначительно выглядит
композиционное совпадение литографии Фантен-Латура «Ночная звезда» (Тангейзер) и эскиза Крэга
«Ступени-3». У Фантен-Латура мужская фигура на переднем плане обращена в профиль к зрителю. Этот
персонаж словно не решается обратить свой взор в глубину, где на некотором возвышении возникает
световой фантом — женская фигура, ночная звезда. У Крэга призрачная тропинка с бликами света,
разделяющая похожих персонажей, превращается в ступени, круто уходящие вертикально вверх, природный
мир заменяется стенами сцены-коробки, а герой уже решительно не замечает фантома, словно вызванного к
жизни его сознанием, и даже повернут к нему спиной. Энергия героя материализуется в пространстве, но
получив жизнь, эти фантомы сознания становятся свободны от своего творца и враждебны ему: герой и мир
противостоят друг другу. Описывая настроение своих «Ступеней-3», Крэг замечает: «Как было бы скучно,
если бы ступени были мертвы, — однако в них уловим трепет живой жизни, большей, нежели та, что
заключена в фигурах мужчины и женщины»
14)
.
У Крэга отношения героя с пространством дисгармоничны. Мир жаждет подавить героя, пульсирующая,
подвижная, «живая» масса геометрических объемов и фантомы сознания стремятся поглотить и уничтожить
человека. Стержень трагического конфликта у Крэга — смертельная схватка человека с миром — получает

осязаемое воплощение. У Крэга
|4)
Крэг Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988. С. 186.
67
пространство замкнуто, из него нет выхода, и даже если этот выход намечен, он, скорее, похож на лабиринт.
У Аппиа пространство чаще разомкнуто, и присутствует «утешительно» светлый горизонт. Что бы ни про-
исходило с героем — Мир живет своей, в чем-то более простой и примитивной, а в чем-то более
значительной жизнью. Он отзывается на потрясения человека, но эти потрясения не способны поколебать
его основ. У Аппиа конец света всегда совпадает с его началом. Таковы основные различия музыкального
пространства Аппиа и трагического пространства Крэга, «Ритмических пространств» и офортов из цикла
«Движение».
У Крэга было два основных героя, выражающих две стороны трагического, Гамлет и Макбет.
Логично, что вначале режиссер увлекается Гамлетом. Его интересует такое положение героя в системе
мироздания, когда он состоит в смертельной схватке с миром и является одновременно той фокусирующей
точкой в системе миропорядка, через которую мы и воспринимаем этот миропорядок. Можно даже сказать,
что именно этим обстоятельством обусловлена любовь к Гамлету романтических трагиков (хрестоматийные
примеры: Мочалов, Кин).
Характерно, что и до Крэга Аппиа воспринимал эту трагедию в том же ключе («Произведение живого
искусства»), и после Крэга Выготский в своей работе о Гамлете высказался в том же роде. Стоит даже
сопоставить два высказывания:
Аппиа: «Мы должны видеть драму глазами, сердцем и душой Гамлета; наше внимание не должно
рассеиваться теми внутренними препятствиями, которые смущали Гамлета: если на сцене мы акцентируем
внешний мир, мы ослабим конфликт и неизбежно придем к тому, что будем видеть и оценивать Гамлета
глазами других людей». Выготский: «Герой есть точка в трагедии, исходя из которой автор заставляет нас
рассматривать всех остальных действующих лиц и все происходящие события. Именно эта точка собирает
воедино наше внимание, она служит точкой опоры для нашего чувства, которое иначе потерялось бы,
бесконечно отклоняясь в своих оттенках, в своих волнениях за каждое действующее лицо».
Как в свое время Аппиа, формируя режиссерскую оптику, неосознанно идентифицировался с вагнеровским
Зигфридом, так вслед за ним Крэг индентифицировался с Гамлетом.
Крэг видел Гамлета невольным заложником, но и «режиссером» происходящих в трагедии событий.
Идентифицироваться со «сверхличностью», формирующей мир вокруг себя — значит осознать себя в
исторически новом творческом качестве.
Что, собственно, объединяет все ранние фантазии Крэга на гамлетовскую тему? Ясно прочерченный в
пространстве «путь ухода». На первом рисунке это все удаляющийся в глубь сцены, уходящий
в бесконечность дверной проем, обведенный несколькими арками-полукружьями. На другом эскизе 1901
года полукружье проемов-выходов с поднимающимися к ним лестницами, как ось симметрии, венчает, так
сказать, «главный выход» — выход в бесконечную черноту, — намеченная дорога для главного лица
трагедии. На более позднем эскизе — это черная щель в массивных крепостных стенах, пространство
решается менее абстрактно, но в основе — та же тема.
Ренессансная идея перспективы как гармонизирующего образа мира здесь оборачивается своей трагической
противоположностью, перспектива — не движение вглубь бесконечно прекрасного и многообразного мира,
а движение в «инфернальную тьму», в смерть.
Своеобразным отступлением от этой мрачной темы становятся два других эскиза к Гамлету (1904 года,
Гамлет, акт I, сцена 5 и акт III, сцена 1 «быть или не быть»). Тут художник определено пытается найти точки
соприкосновения, органического единства героя с миром.
На эскизе к первому акту (уход призрака) темный силуэт Гамлета венчает собой гору, сплетаясь с этой
горой в единое целое. Впечатление высоты дает опущенная линия горизонта, над которой клубятся облака.
Гора — темна, а небо светло. На этом эскизе возникают композиционные идеи очень близкие тем, которые
были у Аппиа (опущенная линия горизонта, создающая впечатление горних высей и вписанные в скалистые
уступы силуэты Валькирий). Не было у Аппиа только открыто театрального элемента в виде раздвинутого
занавеса, обыгрывающего у Крэга шекспировскую идею «театра жизни».
Но наиболее многообразен по образной тематике все же эскиз «быть или не быть», где Гамлет изображен с
облаком.
Вместо черной норы «выхода в смерть» возникает огромное окно с витражом. Его гиперболизированный
размер обостренно переворачивает образ «ренессансного окна в мир», которое никогда не подавляло
человека. Но облако находится не за окном (увидеть то, что за ним, не позволят витражные «призраки»),
облако вплывает в интерьер. Нарушились законы природы, но герой и природа начали важный диалог, и по
видимому, обращаясь к этому небесному явлению, Гамлет должен говорить свое «быть или не быть». Оно,
облако, должно продвигаться вместе с Гамлетом, вдоль светлого окна, потом вдоль темной занавеси
(символическое перемещение героя на фоне то света, то тьмы также многообразно разработано в эскизах
Аппиа).
Но эти отступления в натурфилософскую сторону неполной враждебности Гамлета и мироздания
обрываются эскизом 1907 года, где вновь возвращаются крепостные стены с щелью для ухода в
неизвестность.
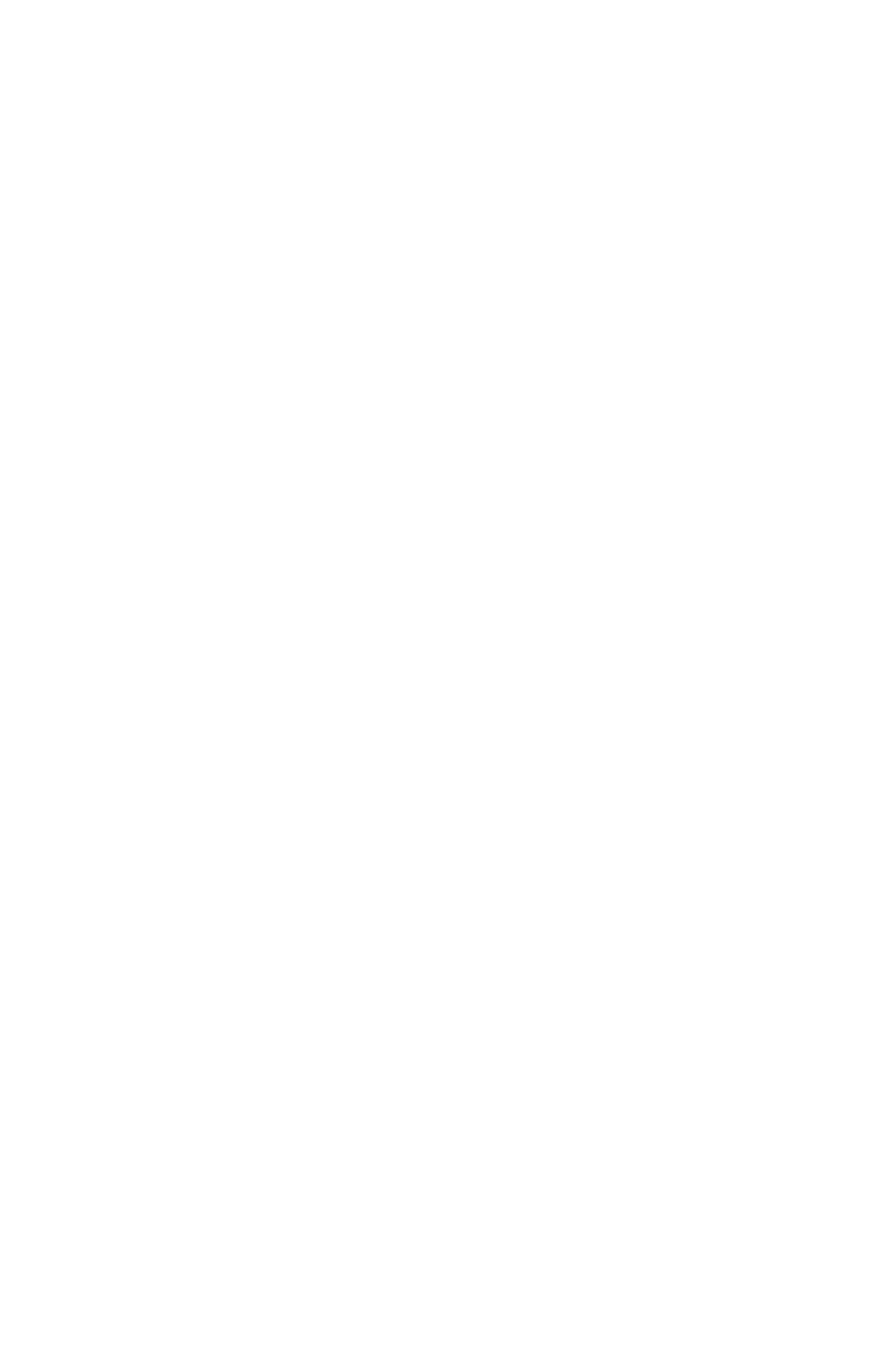
И если «Гамлет» стал для Крэга трагедией гибели светлого героя, победившего мировое зло, то «Макбет» —
трагедией героя, не сумевшего победить зло в себе и принесшего это зло в мир.
69
(Насколько Гамлет в интерпретации Крэга оказался близок романтическому герою, настолько Макбет —
романтическому злодею.)
Началось все с тех же крепостных стен. С тем же проемом-щелью между ними. На фоне этих черных стен
Крэг изображает белую призрачную женскую фигуру, то ли смерть, то ли Леди Макбет. Но первое
настоящее решение приходит год спустя: Крэг помещает в центр сценического мира огромную колонну,
которая, в сущности, не что иное, как пространственный образ Макбета. (И тут есть зеркальная перекличка с
Аппиа, который предлагал водрузить такой же столб-столп в «Гамлете»: этот восьмигранный гигантский
столб должен был стать и опорой Гамлета, и контрастировать с его слабостью, человечностью.)
Крэговская гигантская, какая-то титаническая круглая колонна сотворена наполовину из света, наполовину
из тьмы, в ее основании проложена лестница (вечный образ восхождения и падения), и тени этой лестницы
ложатся у основания столба, словно подтачивая его. Мощь, которую погрызли мыши. Два устремленных в
бесконечную глубину прохода — один полукруглый, другой прямоугольный — чернеют справа и слева от
столба. В одном из проемов застыла фигура леди Макбет, опирающаяся о столб, чтобы решиться двинуться
вниз по ступеням. Внизу справа еще один ход — черный, словно нора. Это трагическое распутье еще
нагляднее в следующем эскизе 1908 года, тем более, что он во многом напоминает один из эскизов к
«Гамлету». На эскизе к «Гамлету» совершенно ясно, где центр и где магистральный, главный проем, откуда
должен возникнуть и куда уйти Гамлет.
На эскизе к «Макбету» семь проемов расположены не симметричным полукружьем, а глядят фронтально, на
разном удалении от первого плана. Это не столько похоже на выходы для разных действующих лиц, сколько
именно на распутье, на морок Макбета, на лабиринт ложных путей.
Затем художник отклоняется от этой темы и сочиняет вариацию с одним проемом и быстро убегающей
вглубь фигурой, самый «немак-бетовский» эскиз из всей серии.
И только в 1909 году он находит пространственный образ завязки трагедии и создает свой самый
гениальный макбетовский эскиз (акт I, сцена I). Возвращается мотив столба — образа души титанического
злодея. Этот столб вырастает из нагромождения наклонных планов, ку-бизированного образа вспучившихся
«пузырей земли». Два резких луча пересекают тьму дальнего плана. Квадратный столб обращен к зрителю
двумя гранями — темной и светлой. А в самом верху этого столба зияет черная трещина. Какая-то адская
сила приподняла и вдохнула силу в эту твердыню. Но поднятие на разломе во время страшного катаклизма
разрушило, растрескало ее. Сцена закрывается занавесом с двух сторон, что еще больше увеличивает
стремление вверх сценической картины в це-
70
лом. Создается удивительный в своей наглядности пространственный образ титанического возвышения,
несущего в себе ужасающую порчу.
Отношения героя со всем мирозданием — конечно, главная тема режиссеров-визионеров, вроде Аппиа и
Крэга. И они проводят эту тему со всей возможной «романтической» исповедальностыо, бесспорно делая ее
открыто лирической. Их сценический язык, даже если и выражал определенную волю к объективности (в
случае с Аппиа), тем не менее, никогда не достигал ее. Оба художника не могли творить иначе, как от
первого лица.
Максу Рейнхардту, более чем какому-либо другому режиссеру рубежа веков, требовалось разнообразие
«мест действия» и постоянная, желанная, а не вынужденная смена сценических площадок и театральных
зданий. (Малый театр, Новый театр, Немецкий театр, Каммершпиле).
Его режиссерский гений состоял в умении создать театральную реальность, волшебно уносящую в
вымышленный мир. Этот мир был театрализованной второй реальностью, даже и не стремящейся
уподобиться первой. Этот мир ничего не отражал и ничему не подражал, он просто был. Он совершенно
откровенно звал прочь от жизни, приглашал принять свои утешающие законы и проникнуться своей
фантастической поэзией, нежной и сладостной.
Одной из ролей Рейнхардта был Лука в «На Дне» Горького. Лукавый старый странник тоже пытался
«срежиссировать» другую жизнь для остальных жителей «дна», исцелить, таким образом, душевные раны,
убаюкать блаженным умиротворением вымысла. Для него терпение и смирение были не столько
поводырями в настоящей жизни, сколько химерами, стоящими у врат жизни мнимой.
И желание всех примирить, все согласить, также было свойственно Максу Рейнхардту. В репертуаре его
театров с самого начала идиллически соседствовали натуралисты и символисты, классики и современные
авторы. Его репертуарная всеядность, умение использовать образный язык разных, конфликтовавших друг с
другом художественных направлений, стремление вовлечь в свою орбиту огромную, «ренессансную» массу
людей и вещей, тяготение к мистериям и феериям — все служило чисто режиссерскому стремлению
утвердить, вызвать к жизни вторую реальность. Рейнхардт не прокладывал новых путей, он вовлекал в свой
круг, можно даже сказать, магический круг. «Макс Рейнхардт — это гениальное дарование. Он не
прокладывал пути, а искал их. Он не искал путей новых, а только открывал уже существовавшие. Эти пути
могли быть скрытыми, заросшими, но они существовали ранее. Рейнхардт расчистил их и сделал
проходимыми. Он не открыл истоков какой-либо

71
реки, но построил каналы, с помощью которых, разумеется, можно было устанавливать новые связи и
отношения»
15)
.
Любимый пространственный механизм Макса Рейнхардта — поворотный круг. Круговое вращение
пространства верно служило режиссеру в его замыслах. Причем все объекты, подвергающиеся этому
вечному круговращению, были для него равнозначны, равноценны, не было никакой иерархии в объектном
мире. (Впрочем, круг всегда имеет центр, нечто организующее и обращающее вокруг себя. Если
центрообразую-щей силой не становился ритм действия, то таким магическим свойством овладевал актер-
протагонист. У Рейнхардта были спектакли, где мир вращался вокруг главного героя, а были такие, где
«круг жизни» вращался повинуясь ритму, заданному режиссером.)
То, что Рейнхардт думал о Шекспире, он вполне мог бы сказать о самом себе: «Он воспроизвел волшебный,
совершенный мир: землю со всеми ее цветами, море со всеми его бурями, свет солнца, луны, звезд, огонь со
всеми его ужасами и воздух со всеми его духами, а между ними — людей. Людей со всеми их страстями.
(...) В нем жили Отелло и Яго, Фальстаф и принц Гарри, Шейлок и Антонио, Основа и Титания, и целая
свита веселых и печальных шутов»
16
'.
Два своих знаменитых Шекспировских спектакля Рейнхардт поставил на поворотном круге: «Сон в летнюю
ночь» и «Венецианского купца». В этих спектаклях главным героем становились «места действия», Лес и
Город.
Лес. Лес Рейнхардта произрастал не из театрального планшета, был создан специальный «лесной ковер» из
сплетенной искусственной травы. Стволы этого леса были толстенными, толщины сказочной и эпической,
деревья благородные, величественные — гладкие буки и дубы с корой, изборожденной трещинами. Лесной
ковер вздыбливался холмиками, прогулки в этой «местности» вызывали незаметно подкрадывающуюся
усталость, требовали видимого глазу физического напряжения. Лес подходил прямо к рампе, все персонажи
растворялись в этом волшебном пространстве. Для полноты впечатления большими шприцами
разбрызгивались на сцене хвойные эликсиры, дурманящие голову слишком сильными лесными запахами.
Были и блуждающие огни, лесные химеры. Подвешенные на тонких нитях, подпрыгивали маленькие
лампочки-светляки. Их перемещения и подрагивания в темноте путали расстояния, сбивали с пути. Имелось
и положенное мифическому лесному пространству озеро. На дальнем плане сцена была устлана рамами из
толстого стекла, которые подсвечивались снизу. Над этим озером клубился «русалочий» туман. Единство
леса и его обитателей
"'Ежегодник Института Истории искусств. М., 1958. С.302.
'*' Цит. по: Ежегодник Института Истории искусств. М., 1958. С. 301.
72
осуществлялось через превращение. Все живое легко меняло обличье. «...Подмостки превратились в землю,
игра — в сон, а все кажется только лесом, дыханием леса, веянием леса, оформленным то в образе человека,
то в виде мелькнувшего видения, сотканного из воздуха, овеянного воздухом»
|7
'.
Легкость, с которой совершались эти метаморфозы, была сновид-ческой легкостью, текучесть и
изменчивость этого пространства были избыточны для просто леса. Это был не лес в природно-
космогоничес-ком смысле, это был лес видений, лес-призрак. Эльф выходит из дерева и возвращается
обратно, становясь грубой и шероховатой корой. Лес исторгает и вновь вбирает в себя все живое и неживое.
«Рейнхардт превращает жесты в линию, в орнаменты, подобно струящейся музыке, понимая, что драматург
не рисует здесь какое-либо событие или человека, а всего лишь желает нежно нас убаюкать...»
18
'
Движения и метаморфозы этого леса сопровождала музыка, сладостные ноктюрны, их звуки раздавались
невидимо снизу, из земли, и казалось, что лес покоился на музыкальной основе, а события произрастают из
волнующих, сентиментальных звуков.
В конце «лесного пути» (в последнем действии «Сна в летнюю ночь») возникал полукруг греческой арены с
колоннадой из белого мрамора. Белизна и яркость света в этом финальном пейзаже контрастировали с
сумраком предыдущих сцен. Казалось бы, наставал конец царству лесного морока, возвышался «свет
разума». Но под финал, уже совсем перед занавесом режиссер выпускал лесного духа — Пэка, который
вновь, и на этот раз навсегда, утверждал торжество леса-призрака.
Город. Главный герой в поставленном Рейнхардтом «Венецианском купце» — город Венеция. На
поворотном круге диаметром в 20 метров режиссер сооружает Венецию в миниатюре: узкие улицы, каналы
с изящными мостиками. Туманный, призрачный и в то же время теплый южный свет дает атмосферу,
воздух, дыхание этим городским пейзажам. Каждый поворот круга фиксирует взгляд зрителя на
«индивидуализирующей» детали того или иного места. То на новом цвете городских стен, то на Мадонне, то
на какой-нибудь маленькой статуе на мосту. Художник Орлик, создавая Венецию вместе с Рейнхардтом,
пытался увидеть ее через Карпаччо, Джованни Беллини и Паоло Веронезе. Режиссеру нужен совсем не тот
город, который, пережив расцвет, клонится к упадку, ему требуется праздник, карнавал и «весна
ренессанса». И все же, пусть и вполне полнокровная, героем рейнхардтовского спектакля была именно
Венеция, город-призрак, живущий на водных просторах, как летучий голландец.
"'Ежегодник Института Истории искусств. М., 1958. С.312.
18)
Там же. С 313.
73
Ионме постановочные идеи развивает в начале века и Георг Фукс, рпжшчтр Мюнхенского художественного
театра. Он одержим идеей не-ййиис-и мости сценического искусства, идеей вольной и самодостаточной
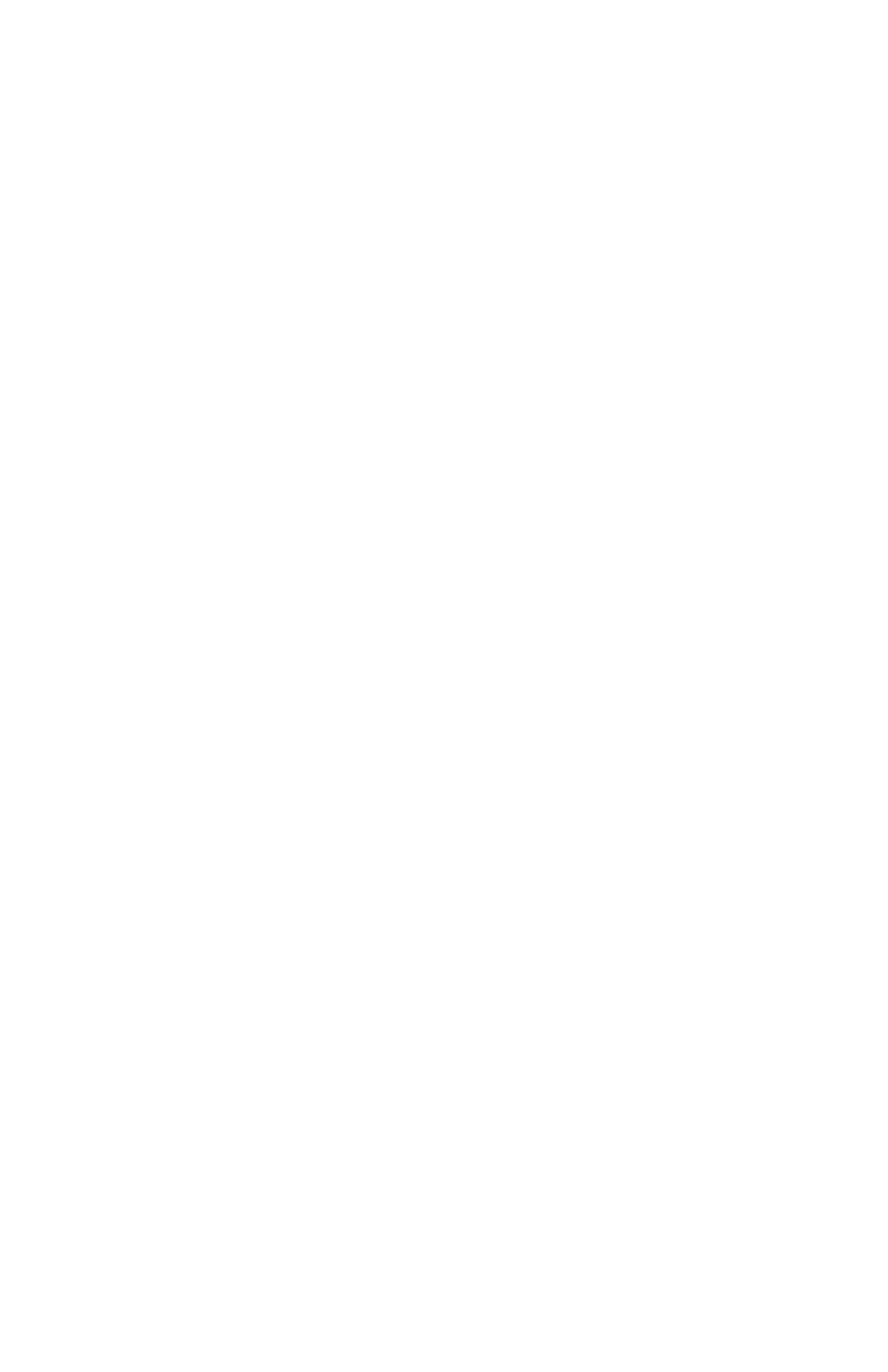
'пчггральности. По мысли режиссера, необходимо «театрализовать» театр, ипбавив от описательное™, от
литературности и от самодовлеющей жинописи.
И его рассуждениях о сценическом месте действия ключевым слоном становится «картина». Эта картина не
существует в объективной реальности, она возникает в восприятии зрителя. Характерно, что Фукс
ныпюГотждает личность художника от каких-либо предустановленных истстических законов. Он равно
отвергает как натуралистический, так и символистский театр. «Требуя, чтобы сцена была точной копией с
дей-гтпительности, натурализм должен был привести к убеждению, что все сценическое фокусничество
прежних театров, возведенное почти на степень науки, не больше как бессмыслица. И если вообще
натурализм мог примести какую-либо пользу, то только этим»
19
'. И далее, «...общим, схематическим
упрощением сцены и игрой при одних гобеленах еще ровно ничего не было достигнуто»
20
'. Что, собственно,
не было достигнуто? Несомненность бытия второй реальности как режиссерского создания, •бсолютная
свобода в распоряжении стилями и манерами.
Сценическая конструкция Фукса — явление открыто субъективно-IX» иидения. Хотя возникновение
основополагающих образов пространственной поэтики Фукса и опирается на традиции (Фукс подхватывает
и развивает некоторые идеи, высказанные Гете в «Вильгельме Мейсте-рг>). Ход времени на сцене выражен
сменой «моментальных рельефов». Фукс находит свое соотношение архитектуры и живописи в театре.
(«Все архитектура, а между тем плоскость».) Художественное видение Фукса сформировал Сецессион. Его
сцена походит на пространство картин Ходлера, с их ступенчатой перспективой и объемными фигурами на
плоском фоне.
Сцена Мюнхенского художественного театра делилась на три «плоскости»: просцениум, средняя часть
сцены и дальний план, который представлял собой природный ландшафт, трактованный в соответствии с
тем или иным драматургическим материалом, а 1а Пюви де Шаванн, Ансельм Фейербах, Ганс фон Маре,
Джанбатистта Тьеполо. Из-за обрамления порталов просцениума, границ этого живописного пространства
не было видно. Таким образом, создавалась иллюзия безграничности Си'з «обманов зрения», но и без
движения в глубину. Просцениум трал как бы фокусирующую, синтезирующую роль, композиционно
"' Фукс Г. Революция театра. Снб., 1911. С. 72.
20)
Там же. С. 139.
74
объединял все элементы сценической картины, а его порталы образовывали «раму». Главным местом
действия становилась средняя часть сцены, где по законам барельефа персонажи пребывали в одной плос-
кости. Эта средняя «плоскость» вмещала минимум сценографического материала, и характер того или иного
места выражался с помощью пространственно-светового решения. Кроме того, живопись дальнего плана и
«скульптурные» группы должны были иметь композиционную связь: горизонтальные и вертикальные линии
живого рельефа дублировались на плоскости живописного холста дальнего плана: «Всегда нужно
стремиться установить связное выразительное отношение между вертикальной линией актерской фигуры и
какой-нибудь определенной горизонтальной линией, выступающей на картине заднего плана сцены. А
живые линии, горизонтально расположенные на сцене, могут быть усилены параллельными
горизонтальными линиями на той же картине»
21
'. Бесконечность вселенной разворачивалась на такой сцене
в движении вширь, но не вглубь. Взгляд зрителя не уносился в фокус перспективы, а отражался от
плоскости сценического фона.
Углубленность сцены Мюнхенского художественного театра зависела, главным образом, от нужд
освещения, выполнявшего задачу растворения материально-бутафорской сущности предмета,
способствовало недосказанности и обобщенности звучания пространственных образов. Сцена приобрела
совершенно необычные для своего времени пропорции и представляла для зрителя разительный и
запоминающийся контраст со всем тем, что он привык видеть в театре. «Свет имеет силу растворять
материальную сущность предметов, дематериализовать их так, что полотно, на которое брошен яркий свет,
превращается в световой фантом неизведанной глубины. Однако для этого требуется не только опреде-
ленная сила света, но и известное расстояние между источником света (...) и освещенной поверхностью. (...)
Свет всегда будет важнейшим носителем тех действий, которые производит на нас пространство»
22
'.
Пространство, по Фуксу, может возвращать зрителю взгляд рикошетом. Все звуки должны отражаться от
близкого «дальнего» плана и с удвоенной силой, при помощи акустических ухищрений, нестись в зал,
сценический мир — «опрокидываться» на зрителя, увлекая к эмоциональному взрыву своим волевым
напором.
Однако иерархия сценических планов остается у Фукса, скорее, формальным приемом, поскольку идея
барельефности предполагает нахождение персонажей единовременно в одной «плоскости», в одном плане
сцены. Передний и дальний планы были нужны художнику для «картины» в целом, но они не
использовались как место действия.
21
> Фукс Г. Революция театра. Спб., 1911. С. 150.
22)
Тамже. С. 140-141.
75
Эта предельно жесткая сценическая композиция требовала тщательной проработки каждого жеста,
движения актера, отказа от свободы движений и даже от иллюзии такой свободы. И естественно, главным
недостатком такого мизансценирования была скованность актера. Путь актера виделся из зала только как
движение слева направо и справа налево. Движение по диагонали становилось неполноценным, прямое
движение в глубь сцены и вовсе невозможным, поскольку разрушало пропорции пейзажа дальнего плана.
Рельефно-образная сцена исключала симуль-танность сценических событий и требовала жесткой

последовательности в смене картин и событий. (Что странным образом входило в прямое противоречие с
идеей мистериальности, ритуальности сценического искусства, так привлекавшей Фукса и его «левых»
последователей. Ведь мистериальность предполагает широкий охват действительности с многих «точек
зрения», осуществление одновременных действий. Но с ней вступала в противоречие пространственная
«раскадровка» режиссера, понимание действия как смены «моментальных рельефов». Моментальные
рельефы предполагали точечную, кульминационную выразительность мизансцены, отрицая ее
органическую кантиленность и текучесть. В чем-то Фукс близок Вагнеру в своих требованиях к
сценическому искусству. Театр, каким он рисуется у Фукса, театр творящий ритуал или мистерию, на самом
деле — все то же субъективное мифотворчество с космогоническим размахом. Проникнувшись идеей
мистерии, художник отверг ее пространственный язык в интересах режиссерского «видения».)
Эра вагнеризма в русском театре наступает в самом начале века. Этот процесс внедрения музыкальной
драмы Вагнера в русскую культуру был обусловлен назначением князя Сергея Волконского директором им-
ператорских театров в 1899 году. В начале века вагнеровские постановки в Мариинском театре следуют
одна за другой (1900 — «Валькирия», 1902 — «Зигфрид», 1903 — «Гибель богов», с 1907 тетралогия испол-
няется полностью). Постановочная часть этих спектаклей была сколком с байрейтских представлений. Но
провинциальный Байрейт не удостоился большого внимания критики и публики, поскольку не нес в себе
никаких новых элементов театрального языка, а с музыкальной точки зрения сильно уступал настоящему
Байрейту.
Первой постановкой, за которую берется Вс. Мейерхольд на оперной сцене Мариинского театра,
оказывается «Тристан и Изольда» Вагнера.
Мейерхольд стремится «театрализовать» оперное представление, ввести в него режиссерское видение, а
значит заставить оперного артиста отказаться от жизнеподобных жеста и мимики, отбросить непосредствен-
ные проявления личного темперамента, быть, скорее, «музыкальным инструментом», нежели персонажем
либретто, избегать костюмированной
76
концертности. Мейерхольд мыслит не психологически разработанными образами, а линиями, объемами,
ритмами, пластическими группами, словом «сценическими картинами». «Режиссеру дана плоскость (пол
сцены), в его распоряжение дано дерево, из которого надо, как это делает архитектор, создать необходимый
запас пратикаблей, дано тело человеческое (актер) и вот задача: скомбинировать все эти данные так, чтобы
получилось гармоничное, цельное произведение искусства — сценическая картина»
23
'. Раз есть комбинация
данных, должен быть и комбинатор, который в данном случае выступает художником сценической картины.
Если проследить, по каким конструктивным и образным принципам Мейерхольд рисует эту картину, легко
заметить, что под покрывалом «стиля», общего языка художественной культуры скрываются идеи
режиссерского театра. Они претендуют стать объективной стилевой реальностью, но в конце концов, не
становятся таковой.
Необходимо заметить, что на Мариинскую сцену Мейерхольд приходит уже после своих экспериментов по
созданию условного театра в студии на Поварской, где он реализует, в том числе, и некоторые идеи Фукса,
касающиеся рельефно-образной сцены.
Из-за отсутствия в Мариинском театре достаточно большой авансцены, пространство у Мейерхольда
делилось на два плана, а не на три, как у Фукса. Дальний план был отдан им под пейзажную живопись.
Передний план должны были заполнить пратикабли и «измять пол». Мейерхольд отказался от движения в
глубину. Установив пратикабли на переднем плане, он вынудил персонажей перемещаться по вертикали или
по горизонтали. Это было движение почти в двухмерном пространстве. Фигуры жили на «плоскости», от
этого их жизненность приобретала оттенок призрачности, а пластика — неестественную малоподвижность.
Сценическая архитектура вынуждала исполнителей быть «экономными» в жестах и движениях. Первая же
сцена этого спектакля потрясла зрителей непривычной статичностью, исходящей из музыки и архитектуры,
идущей вразрез с требованиями либретто и ремарками Вагнера. Скульптурные рельефы рождались из
множества ограничений: ритмических, пространственных, стилистических.
Образный ряд этой постановки очень близок эстетике ранних эскизов Аппиа. Сдержанность цветовой
гаммы, дикая и суровая природа, холодная сумрачность освещения. Грубые камни скал, факелы и море —
центральные образы сценического мира в спектакле Мейерхольда. Несмотря на новаторскую смелость,
Мейерхольд не рассорился с оперными артистами, которые по достоинству оценили предложенную
режиссером и художником А. Шервашидзе сценическую конструкцию. Артисты не терялись в пейзаже и
были максимально придвинуты к зрителю. Режиссер
77
не пошел по пути окончательной символизации места действия (везде и нигде), а, скорее, предложил свой
вариант сценического историзма, представив приметы XIII века и приурочив действие к определенной
исторической эпохе, чем вызвал даже филологический спор, нашедший отражение в статьях А. Смирнова и
Е. Браудо, относивших действие знаменитой легенды, изложенной Готфридом Страссбургским, к XII, а не
XIII веку.
Рельефно-образная сцена Фукса, да и другие картинные композиции сценического пространства рубежа
веков — своеобразный завершающий этап докинематографической эпохи в развитии театрального
искусства. Моментальный рельеф Фукса в своем временном и пространственном содержании сравним с тем,
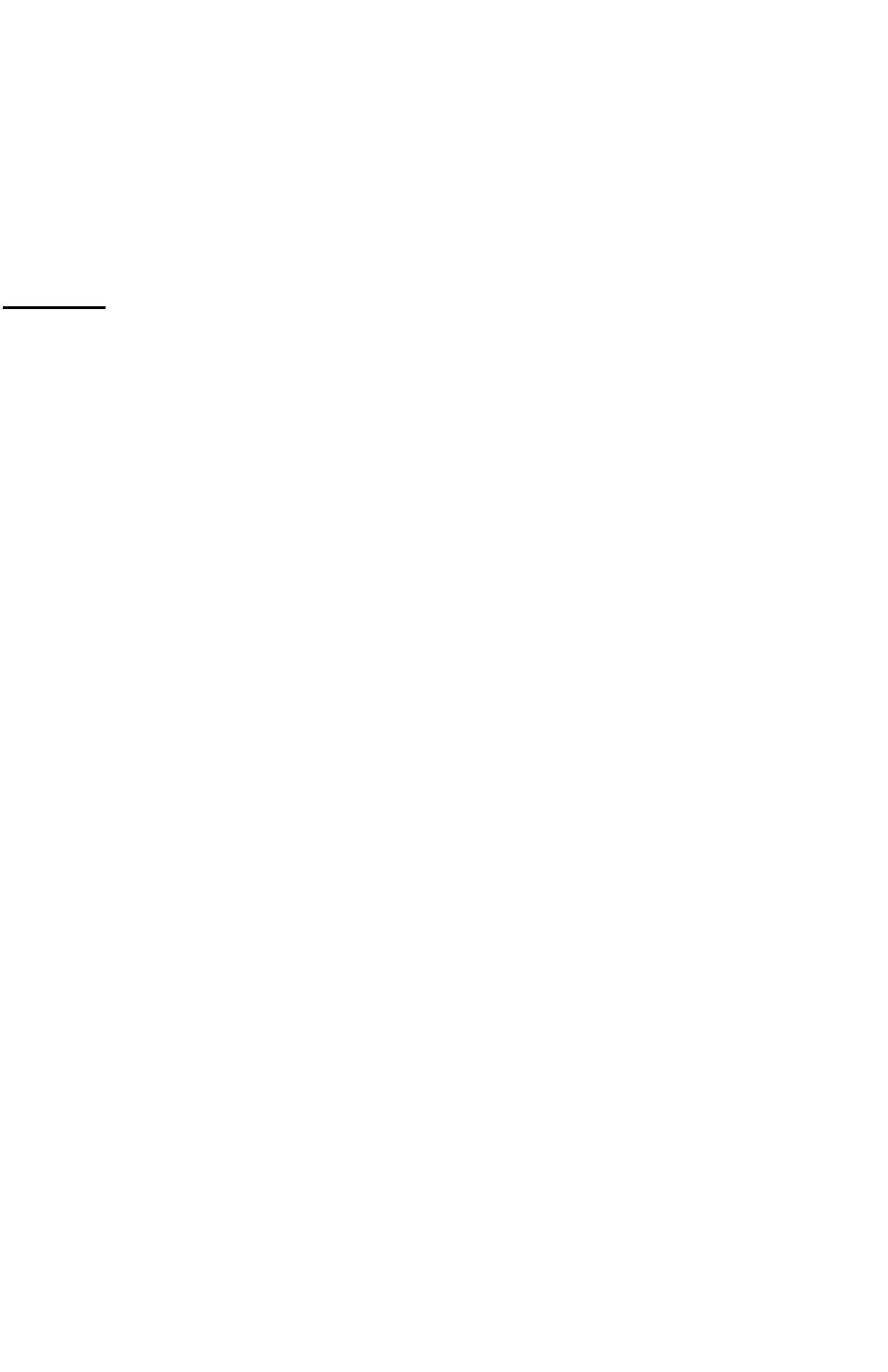
что потом будет называться «кадром». Театральные режиссеры, мыслившие «кадрами», такие как Фукс,
Мейерхольд и гораздо позже их продолжатель Эйзенштейн, появились в момент расставания театра с
архаичной и «патриархальной» сценой перспективных живописных декораций, которые создавали иллюзию
реальности места действия вселенского масштаба, расставания с «миром» условным, но объективным. Они
утверждали искусство видения, где равное композиционное значение приобретали и человеческие фигуры, и
объекты декораций, и цвет, и свет. Искусство композиции всех этих элементов и сознавалось как
режиссерское искусство. К тому же происходящее на сцене нередко выводилось за рамки культурной и
эстетической значимости в сферу «религиозного» священнодействия. Именно сочетание этих тенденций
породило режиссера-демиурга, творца новой реальности, сочинителя нового мира.
Все видимое наэлектризовывалось витальными ритмами этого главного творца — режиссера. Все
соотношения, весь порядок вещей, все гармонии и дисгармонии, все ракурсы, — все имело единственный
источник — субъективную творческую волю художника.
23)
Мейерхольд Вс. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968. Т. 1. С. 155.
Глава 4 Время действия
Как и пространство, время становится средством выразительности режиссерского театра. Естественно,
освоение возможностей работы со временем происходит не сразу, не одномоментно. Накопление «режис-
серских», художественных представлений о времени начинается тогда, когда режиссер более или менее
осознанно творит «вторую реальность», а не просто отвечает за постановку театрального спектакля. Словом,
следует провести грань между теми организаторами театрального действия, которые высчитывали, какую
сцену затянули, а какую сыграли излишне торопливо на сегодняшнем представлении, и собственно
режиссерской работой со временем, или ритмом спектакля.
Заметим: новые веяния в постановочном искусстве, скорее, предшествуют открытиям в области временной
структуры спектакля. И начинается все с возвращения еще романтической идеи об особом духе каждой
исторической эпохи, о том, что у каждого времени - свое неповторимое лицо.
Позитивное искусство археологического стиля внимательно вглядывается в лицо прошлого и воссоздает на
сцене его портрет. Театры Ч. Кина и Л. Кронека еще не пользуются временем как «внутренним
инструментом» постановки, но уже делают попытку создать «другое время», отличное от современности,
уйти от условной «костюмированной современности» постромантического театра.
Не лишенная вкуса историческая картина, на которой правдиво воспроизведены реальные предметы той или
иной эпохи, — вот самый расхожий образ, ассоциирующийся с мейнингенцами. Историческое время
затвердевает и перевоплощается в историческое место действия, главным сценическим персонажем
выступает та или иная эпоха. Постановщиков грандиозного перечня исторических драм и трагедий
Шекспира и Шиллера более всего занимала возможность организации идеальных с художественной точки
зрения живых картин. Сценическое действие, его зрительный ряд в этом театре, скорее, изображали
движение, создавали иллюзию непрерывности этого движения, трактуемого как смена картин. В
композиционной регулярности сценической картины драматическое развитие овеществлялось, становилось
почти материальным.
79
Но уже символизм начинает размывать и подтачивать всякий позитивизм во взглядах на прошлое, перестает
так уж интересоваться качественными внешними отличиями людей различных эпох, и, скажем, такой
«литературный» театр, как театр П. Фора имеет дело прямо с мифологическим временем. А
натуралистический театр — с временем «реальным», совпадающим с временем течения обыденной
человеческой жизни. Можно сказать, что время символистского театра («всегда и никогда») — другое
измерение его пространства («везде и нигде»). А время разворачивающегося на сцене натуралистического
«куска» реальности, соответственно, другое измерение этого конкретного, живого интерьера. Но следует
заметить, что «документальное время» еще не «субъективное время». Ни археологический стиль, ни
натурализм, ни символизм еще не пытаются осмыслить субъективное восприятие времени, его от-
носительность и зависимость от свойств воспринимающего сознания, а мыслят время, скорее, как
объективную и абсолютную данность, в сущности, как четвертое измерение пространства. Поэтому
режиссерское искусство в ранней фазе развития нельзя в полной мере считать творчеством «второй
реальности». Перед глазами зрителей проходят, сменяя друг друга, картины «ушедших исторических
времен», «реальной современной жизни», «потустороннего, сверхчувственного мира», у мейнингенцев,
натуралистов и символистов время нередко выступает «героем» спектакля, но оно еще не становится одним
из инструментов воплощения субъективного видения действительности. Речь не идет о театральном
претворении ритмических образов, рожденных сознанием и подсознанием постановщика.
Момент, когда появляется потребность мыслить пространственные образы в рамках временных координат,
имеющих точкой отсчета субъективное чувство времени, приходится на начало 90-х годов. Именно тогда
рождается идея времени как проживаемой «длительности». 1889 год — год Эйфелевой башни, произведения
нового пространственного динамизма — был и годом выхода в свет работы Бергсона «Essai sur les donnees
immediates de la consience».
Одним из главных интересов Бергсона было изучение закономерностей взаимодействия индивидуального
сознания с пространством и временем. Появляются два вида времени - внешнее и внутреннее,
соответственно, жизнь мыслится как «внешняя» и «внутренняя». Возникает поле действия модернистской

литературы. Двадцатый век не только упивается идеей пространственно-временного континиума, или
единства, но и ужасается стихии борьбы времени и пространства, их стремлению к взаимоуничтожению.
80
Творческий путь Метерлинка — развитие понимания идеи времени от трагического времени субъекта к
эпическому времени человеческого рода.
Пьесы, написанные с 1891 по 1894 годы — «Непрошенная», «Слепые», «Там, внутри», «Смерть Тентажиля»
— пьесы ожидания. Сюжетные построения этих произведений различны, суть же действия одна —
ожидание смерти. В «Непрошенной» родственники роженицы ожидают гостью, приходит смерть. Слепые в
одноименной драме ожидают, что их поведут, но поводырь умер среди них.
По сравнению с романтической спресованностью времени, когда на сцене в течение спектакля происходили
события нескольких месяцев или даже десятков лет, в «статичном театре» Метерлинка ход времени
замедлялся, слова и действия «омывались», обволакивались молчанием и внешним бездействием. Но это
было специфическое бездействие: когда застылость — следствие избыточной активности внутренней жизни.
Так, действие пьесы «Непрошенная» в соответствии с временными указаниями ремарок длится 3 часа. Если
соотнести текст с этими временными указаниями, то получится, что герои почти все время молчат, все их
реплики тонут в молчании. (Слов так мало, что если их произнести в обыденно-бытовом ритме, то 3 часа
сократятся почти до получаса.) Главное событие в «театре смерти» — ожидание. У раннего Метерлинка
поступательное и необратимое движение времени само по себе естьрозвм-тие действия, которое перестает
быть пульсацией от события к событию, а становится текучей и изменчивой картиной душевного состояния
героев. Рок в театре Метерлинка осуществляет свою работу с помощью уходящего времени, неизбежно
приближающего героев к их последнему пределу.
Метерлинк строит свои драматические произведения таким образом, что слово и молчание буквально
борются друг с другом за владение истинным смыслом. Повторы, сложные ритмические конструкции
реплик действующих лиц способствуют возникновению настроения, которое опосредованно связано с
происходящими событиями, обладает своей собственной партитурой, собственной логикой развития.
Ранние одноактные драмы Метерлинка 90-х годов строятся на противопоставлении внутреннего и внешнего
действия. Внутренние переживания, рефлексия, мысленный диалог с роком — все это, по Метерлинку, есть
основное русло, по которому течет человеческая жизнь. Ее внешние события, число которых невелико,
служат лишь проводниками к нему. В этих пьесах на долю героев достается максимум бездействия. Зато
окружающий их мир наделяется угрожающей дееспособностью.
Для важнейших событий своих пьес Метерлинк часто выбирает полдень или полночь, квинтэссенцию дня и
ночи. Время, предстаю-
81
щее в зените и на переломе, открывает двери непознаваемо-прекрасного и необъяснимо-ужасного.
Более поздние пьесы Метерлинка, особенно такая, как «Обручение», написанная много лет спустя после
«Синей птицы», демонстрируют изящно-эстетский, но решительный отход писателя от романтического
индивидуализма. Их главный смысл — философия рода. Субъект в них рассматривается как существо
родовое. Человеческое бессмертие видится как бесконечная череда предков и потомков. Трагизм
индивидуального бытия преодолевается родовым «коллективизмом». В пьесе «Обручение» рок,
возвышающийся вначале, как устрашающая серая громада, в финале превращается в младенца. Он
оказывается не властным над человеком, осуществляющим под контролем бесконечного ряда предков и
потомков свое земное предназначение. Перенос смыслового акцента с трагичности индивидуального бытия
на эпическую гармонию бытия коллективного обусловил трансформацию трагедии в феерию. Время
трагедии есть всегда разворачивающаяся последовательность. В феерии «Обручение» оно уже предстает
изначально развернутым в прошлое и будущее, то есть происходит его своеобразное опространствление. Во
времени, как и в пространстве, можно путешествовать. Если ранние драмы Метерлинка строились как
неостановимое движение времени, то его поздние феерии — как движение во времени.
Когда вышла в свет первая пьеса Метерлинка, критик Мирбо посвятил ей восторженный отзыв в «Фигаро»,
где сравнивал новоявленного автора с Шекспиром. Говоря совсем о другом, он невольно сказал главное — с
Метерлинком возникал новый сценический язык, сам автор выступал в определенной мере «режиссером»,
поскольку «по-режиссерски» фиксировал пространственно-временную структуру своего произведения. Его
пьесы активно востребовали нахождения ритма, тона, умения решить театральными средствами молчание и
внешнее бездействие. А главное, они требовали непрерывности и текучести действия.
Музыкальность драматического строения — свойство и чеховского стиля. У него еще более многокрасочна
картина отношений «субъективного и объективного времен», ритмическая партитура настроений. Чехов,
которому нравились пьесы бельгийского символиста и который рекомендовал их к постановке, уже совсем
не так откровенно, как это делал порой Метерлинк, использовал выразительность паузы, молчания. И хотя
пауза у него и возникает, как у Метерлинка, в кульминационные моменты смены настроения, но она часто
неожиданна, несимметрична, как будто вовсе не является продолжением предшествующего ей
ритмического развития. Чеховская пауза даже не всегда мотивирована психологически, во всяком случае,
такая мотивировка не лежит на поверхности смысла. Чеховские паузы — это моменты, когда обнажается и
становится видимым подводное течение пьесы, дающее зрителю возможность задаться
82

вопросом: что же, собственно, произошло, но не оставляющее времени для ответа. Молчание у Чехова, как и
у Метерлинка, становится самостоятельной образной единицей, оно уже вроде бы и не молчание, а
многозначительное умалчивание, загадочная недосказанность. Таковы пять пауз в пьесе Треплева или
звучащая пауза, заканчивающаяся «отдаленным звуком, точно с неба, звуком лопнувшей струны,
замирающим, печальным». Интенсивность звука, ритмическое чередование громких и тихих сцен
выступают как средства активного воздействия на зрителя. Так, отличающийся ускоренным ритмом
четвертый акт «Вишневого сада» (на все действие автором отпущено 20-30 минут, ровно столько, чтобы
герои успели на поезд) завершается тихой сценой одиночества Фирса и, наконец, «наступает тишина, и
только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву».
Динамические оттенки «подводного течения», партитура изменений настроения не совпадают у Чехова с
сюжетными коллизиями, то предвосхищая, то существенно запаздывая за ними. Настроение у Чехова объ-
единяет персонажей и зрителей. Работа со сложным ритмом смены настроений и стала полем действия
режиссерского театра XX века.
Именно Бергсон впервые заявил об особенностях внутренней жизни человека в его отношениях со
временем. Он исходил из того, что человек — копилка временных отпечатков, сосуд из мягкой глины, соби-
рающий «длительности». Он утвердил мысль, что прошлое ежесекундно присутствует в настоящем в
сознании каждого человека, длительности нанизываются друг на друга как звенья одной цепи, и ни одна не
пропадает безвозвратно. Для Бергсона время предстает и в абсолютном, и в относительном качествах.
Абсолютное время, измеряемое посредством синхронных пространственных изменений, он называет
«четвертым измерением пространства» или «опространствленным» временем. И делает попытку определить
— что такое время «внутреннее», субъективное, относительное. Отправным пунктом его рассуждений
становится следующее: «Невозможно говорить о длящейся реальности, не вводя в свои рассуждения
сознания»''. Иначе говоря, невозможно представить себе движение от «перед» к «после», не вводя при этом
памяти, то есть элемента сознания. По Бергсону выходит, что мир — непрерывный поток, в котором
прошлое сохраняется в настоящем и не может быть вычленено из настоящего вследствие неделимости
изменения.
Сам процесс качественного изменения состояний сознания Бергсон называет «длительностью».
Длительность (единица чистого времени) — неуловимый, нерасчленимый на фазы переход из одного
состояния в другое. Длительность точнее всего воспринимается интуицией, это не то, что можно измерить
механическими часами.
^Бергсон. Длительность и одновременность. Пг, 1923. С.42.
83
Интуиция у Бергсона охватывает «целое» того или иного явления в процессе познания. Ориентация на
художественное освоение действительности, на интуицию обусловила большую популярность его
философии среди теоретиков и практиков искусства рубежа веков.
Из наблюдений Бергсона следовало, что каждый индивидуум встает перед фактом распадения реальности:
одна ее часть — это реальность чувственных качеств, переходящих друг в друга и сосуществующих друг в
друге состояний сознания — то есть время; другая часть — внепо-ложенные друг другу и непроницаемые
друг для друга материальные объекты — то есть пространство. Ту же двойственность бытия человека среди
застывших объектов материи в несущемся временном потоке ощущал и Аппиа, считая ее мучительной и
трагической.
Переливы «живой длительности» в «живое пространство», одушевление пространства пластическим
образом времени (своеобразная мечта о бессмертии) — таковы почти философские требования Аппиа к
театру, навеянные чтением работ Бергсона.
Очевидно, что термин «длительность» Аппиа заимствует у Бергсона, но, своеобразно интерпретируя его,
переводит в сферу эстетики. «Музыка не только дает драме выразительный элемент, но она решительно
фиксирует длительность. Можно, таким образом, утверждать, что с постановочной точки зрения музыка —
есть время, в данном случае, я имею в виду не продолжительность во времени, но само Время»
2
'.
В театральной модели Аппиа музыка — художественно претворенное время внутренней жизни человека.
(Аппиа считает, что только музыкальный театр может добиться непрерывности связи времени и
пространства, человека и мира.) Именно поэтому он не занимается анализом «психологии» героев вне
воплощающего ее музыкального материала. Для его визионерского мышления характерно стремление к
«визуализации» внутренней жизни, претворении ее в пластическом решении роли.
Аппиа требует, чтобы актер вжился не в характер, но в ритм своего героя, утверждая, что ритм — более
существенный ингредиент того сплава индивидуального и сверхчеловеческого, из которого состоят
вагнеровские герои. В своей интерпретации роли Зигфрида он близок к тому, чтобы превратить исполнителя
в гибкий инструмент героических ритмов, воздействующих на подсознание зрителя.
Гипнотическая проникающая способность этих ритмов, по мысли Аппиа, возрастает при гиперболизации
настоящего, при погружении в священную «пустоту», образовавшуюся от сожжения мостов в прошлое и
будущее. Именно такое чувство настоящего делает героя «сверхгероем». Гипнотическое воздействие на
публику должно, по мысли Аппиа,
2
)Appia. CEuvres completes. Paris, 1986. V. 1. P. 264.
84
