Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков
Подождите немного. Документ загружается.


Расщепление «я» и «мир», то есть чисто романтический конфликт, Аппиа пытается разрешить, воплотив в
пространственном образе душев-
42
ное состояние героя и объединив героя и мир в нечто целое. А также выстроить в соответствии с
драматургическим материалом сценический сюжет то бессознательного единения «я» и «мира», то сознательного
отпадения «я» от «мира».
Интересно, что и совсем иначе стилистически ориентированный режиссер Антуан также ведет речь о
бессознательном и в тексте выделяет это слово курсивом: «Разве не является отличительной чертой нового театра
бессознательность действующих лиц, так же, как мы, делающих глупости и чудовищные вещи, сами того не
замечая?» '*
О чем ведут речь эти разные люди и режиссеры, не о том ли, что актеры должны перестать быть комментаторами
своих образов и, чтобы это стало возможно, свободно предаться жизни своего героя, глядясь в «режиссера», как в
зеркало?
Таким образом, интерес к Бессознательному, его роли в творческом процессе, попытки сконструировать,
воспроизвести структуру бессознательного в сценическом и драматическом персонаже, желание особым образом
воздействовать и обращаться к бессознательному зрителя — один из важнейших векторов развития искусства в
конце XIX века.
Рождение режиссерского театра и рождение психоанализа — параллельные процессы. Конечно, было бы
малопродуктивно пытаться установить обусловленность одного явления другим. Можно было бы просто
пошутить на тему о том, что психоаналитики и потребность в них возникли одновременно. Можно, подойдя к
этому вопросу с набором штампов, тривиальных представлений о фрейдистских символах, заняться созданием
обширного перечня метафор раннего режиссерского театра, который состоял бы из лестниц, коробок, зонтиков,
столбов и прочего в том же роде, тем более, что художественный материал почти всегда предоставляет такую
возможность.
Однако в этом вопросе имеются, быть может, и менее яркие, но более интересные повороты.
Режиссер в начале века утверждается как автор «второй реальности». Режиссерское искусство становится
творчеством «индивидуального мира». Психоанализ интересуется «второй реальностью», существующей в жизни
каждого человека — сном, фантазиями или снами наяву, снами под гипнозом.
1. При сопоставлении всех типов сновидений для Фрейда оказывается особенно важной следующая предпосылка:
человек объективно не хозяин в пределах собственного «я». Следовательно, каждому «я» надобен толкователь,
внутренний или внешний (то есть собственный сон или психоаналитик). Бессознательным процессам, одним из
продуктов деятельности которых являются сны, свойственно стремление так или
'* Антуан А. Дневники директора театра. М.—Л., 1939. С. 160.
43
иначе находить путь к реальности, и один из этих путей, естественно, творческий. Постулат общеизвестный, но
можно было бы попробовать его конкретизировать, задавшись вопросом, каков собственно механизм вторжения
бессознательного в творческий процесс и каким целям оно служит.
Тут необходимо процитировать основоположника психоанализа: «работа сновидения заставляет мысли пройти
регрессивный путь, лишает их достигнутого развития, и при этой регрессии должно исчезнуть все то, что было
приобретено в ходе развития от образов воспоминаний к мыслям» или иначе: «психологически самый интересный
результат работы сновидения состоит в превращении мыслей в зрительные образы»
2
'. То есть речь идет об
особенной способности сна визуализировать мысль. Нас же интересует собственно творческий процесс: каким
образом сценически воссозданная цепочка «картинок», зрительных образов (ведь режиссура визионерского типа и
занимается именно сценическим воплощением подобной цепочки образов-картин) служит воплощению
режиссерских идей, не имеющих своим источником только текст или актерские потребности, идей организации
«мира» как целого, идей, характеризующих спектакль как художественное произведение, не сводимое к сумме
составляющих его частей.
Зритель в визионерском театре как бы погружается в «сон», созданный творческой фантазией режиссера. И этот
сон производит работу, в чем-то аналогичную работе настоящего сновидения: он сгущает, смещает и наглядно
изображает.
Сновидение называется Фрейдом формой, в которую переводятся «скрытые» или, если сказать мягче,
неосознанные мысли. Естественно, он имеет в виду ту скрытость, которая вызвана их моральной неприем-
лемостью.
Интересно, что, как бы вступая в спор с психоаналитиками, крупные режиссеры, да и вообще художники,
уклоняются от анализа собственных образов, от облечения заложенных в них мыслей в законченные словесные
формулы, никогда впрямую не ведут речи о том, что как «авторы» они хотели сказать.
(Крайний случай «режиссуры», ее деспотический вариант неизбежно выбирает способ сознательного воздействия
на бессознательное, или манипуляцию. Такая режиссура, естественно, никогда не признается в том, какие
идеологические предпосылки лежат в основе художественного произведения. И такая режиссура как раз всегда
будет иметь четкую и сакральную для нее идеологию.) Интересно, что визионерскому художественному
мышлению будет свойствен особый способ разрешения или снятия противоречий через художественное
обобщение. И если
2
' Фрейд 3. Введение в психоанализ. М., 1989. С. 113.
44
«работа сновидения стремится сгустить две различные мысли таким образом, чтобы найти многозначное
слово, в котором эти мысли могут соединиться»
3
', то и режиссерское искусство пытается создать такие

образы, в которых могут совместиться противоположности. (Совмещение конца света и его начала в финале
сценария «Кольца» Аппиа или неразрешенная двойственность «видения мира» в «смерти Тентажиля»
Мейерхольда.)
2. Второй важный для нас пункт пересечения режиссерского творчества и психоанализа — понимание роли
ритмической организации целого спектакля или роли ритма в восприятии зрителем построенного
режиссером-демиургом «мирового целого». Именно ритм — способ гипнотического воздействия при
погружении в «сон». Интересно, что режиссура обнаруживает собственно два ритма: ритм «засыпания» —
объективный, и ритм пробуждения — субъективный.
К нашему краткому экскурсу в психологию необходимо прибавить следующее. Психоанализ стал
существенным ударом по человеческой мании величия, он, конечно же, явился орудием разоблачения
мелких «демиургов», многие же крупные художники при знакомстве с работами по психоанализу грешили
весьма пристрастным ненавистничанием.
Психоанализ — это еще и глубоко критическое переосмысление романтизма, который сделал
бессознательное, интуитивное, лирическое творчество синонимом гениальности, высшим выражением
индивидуального. Фрейдизм же объяснил, что как раз в бессознательном, в самых тайниках человеческого
«я» вовсе нет ничего индивидуального.
В сущности, никто из больших художников нашего века с этим постулатом не согласился. Забавно, что и
перед психоаналитиками не раз вставала проблема, а нужно ли лечить и можно ли вылечить большого
художника?
В ситуации fin de siecle идеал, с одной стороны, — еще нечто патриархально-общественное, с другой, —
уже субъективно-личное. Героем художественного произведения становится человек не праздничной
исключительности, а повседневной обыденности, или если сказать парадоксально, то это герой
исключительной обыденности. Театр, на целые полвека погрузившийся в море эклектики, когда художники
свободно пользовались «манерами» и «стилями» из наличествовавшего «подбора» в соответствии с
личными пристрастиями, постепенно становится искусством на новых, не романтических основаниях,
искусством свободного индивидуального видения и строительства художественного образа. В своих
вершинах он обретает стилевое единство, переведенное на уровень индивидуального мышления. Это
единство обеспечивает режиссер, взирающий на героя и мир извне и изнутри одновременно: его положение
3)
Фрейд 3. Введение в психоанализ. М., 1989. С. 108.
45
minx ип-льно сценического зрелища таково, что он одновременно и при-гуитиует, и отсутствует в своем
творении. Этого присутсвия-отсутствия, постоянного переключения с субъективно-лирического на
объективно-ргилисгическое видение не было в сценическом искусстве предшествующих периодов, не были
осознаны художественные возможности такой дмойной оптики.
К концу XIX века все чисто внешние силы генерализации и един-гтии дряхлеют, как дряхлеет
патриархальная иерархия общественного устройства.
Мир становится дифференцированно сложным, реальность дробится и распадается в многообразие деталей
и подробностей, ее уже и« вмещает даже самая емкая в человеческой истории идеология — религия. Время
«сумерек богов» с неизбежностью порождает всякое богоборчество, богостроительство, многочисленные и
очень разнообразные формы тоталитарных и в то же время сектантских мировоззрений. (Хотя все они, так
или иначе, разного качества ростки дряхлеющего христианского древа.)
Впрочем, эти общие рассуждения могут подвести к очень конкретному вопросу — вопросу о режиссерской
интерпретации.
Именно перед художниками конца XIX века встает задача изобрести такое «оптическое устройство», с
помощью которого можно увидеть искомую и желанную «истинную» реальность. А потом эту истинную
реальность воссоздать на сцене, и, воссоздавая, объяснить... исказить ее, набросив сеть своих видений, или
раствориться в эмпирическом многообразии ее «фактов». Бесстрашно навязывать свое «я» или со
смирением прислушиваться к тому, что «не я».
Глава 3 Место действия
В своих теоретических работах Эмиль Золя высказывает позитивистскую идею о том, что в литературе
происходит прогресс: усиливается «индивидуализация» персонажей, словом, героини типа Терезы Ракэн
вытесняют Дам с камелиями.
Сочувственное внимание к новому для сценического искусства сословию мелких лавочников, работников,
мясников и прачек, свой «романтический» демократизм в выборе героев Золя не без справедливости считал
крупным достижением на ниве правдивости, серьезной дидактической мысли и миссии. Но в его
специфическом «романтизме» были не только назидательные истории о простых людях, которые раньше не
удостаивались обрисовки в индивидуализировано окрашенных деталях. Писатель предлагал театру
посмотреть на человека с максимально близкой дистанции, увеличив, словно под микроскопом, его
природные качества. Есть одна странная и иррациональная черта в его творчестве: любовь к городскому
пейзажу, интерьеру, органичный урбанизм и нелюбовь к природе. Не случайно убийство совершается в
«Терезе Ракен» за городом, во время пикника. Будто бы стены, рукотворная человеческая среда способны
сдерживать самые разрушительные порывы. Прекрасные, поэтичнейшие страницы Золя посвящает
описанию архитектурных красот «вечного города» — Рима. И этот певец цивилизации видит человека

неким скопищем «природных инстинктов», энергетическим сгустком, рождающим безжалостные порывы
или создающим жестокие и бессмысленные препоны им. Говоря о «месте» действия...
Натуралистический театр Антуана начался с любительского Галльского кружка. Его председатель, папаша
Краус, «старый отставной чиновник лет около семидесяти, очаровательный и весьма вежливый человек,
который, будучи обуреваем неудержимой страстью к театру, овладевшей им на склоне лет, собственными
руками построил крохотную деревянную залу в проезде Элизе де Боз Ар» ". Говоря о «месте» действия...
Антуан впервые увидел Золя на открытии кладбищенского памятника романисту Дюранти (чью короткую
пьеску «Мадемуазель Помм»
' Антуан А. Дневники директора театра. М. -Л., 1939. С. 18.
47
он выбрал для первого дебютного вечера): «По окончании церемонии, в то время как все направляются к
выходу с кладбища, я задерживаюсь и разглядываю Золя, долго созерцающего огромный Париж, раскинув-
шийся у его ног в вечернем сумраке»
2
'.
Антуан — бедный мелкий служащий Газовой компании, подрабатывавший переписыванием бумаг в
Парижском суде, просто какой-то Акакий Акакиевич... И на него все время со злобой и неудовольствием
смотрит грозный начальник.
Название Свободный театр произошло от романтического словосочетания, принадлежавшего Гюго: «Театр
на свободе». И действительно, он был свободный: никаких субсидий, никаких средств, кроме жалких
заработков самих участников предприятия, даже никаких особенных амбиций... Но в то же время и нет
цензуры.
Репетиции четырех коротких пьес современных авторов, из которых был составлен первый спектакль, за
неимением другого помещения проходили в бильярдной комнате небольшого кабачка.
Каким большим казался постановщикам этот бильярд, и какими узкими проходы вокруг него, где,
собственно, и разворачивалось действие. Естественно, что речь даже и не шла о рисованных задниках.
Забавно, что эстетика темного театра родилась в данном случае очень органично, из вполне приземленных
житейских обстоятельств, не то чтобы сознательно хотели сумраку напустить. Репетиции Антуан проводил
по вечерам, все освещение состояло из нескольких скромных газовых рожков. Какая уж тут рампа и софиты.
Газовый рожок сыграл, впрочем, в жизни Антуана роль рождественской елки. На одну из репетиций «Жака
Дамура» (пьески, переделанной из рассказа великого натуралиста) друзья привели Золя: «...мэтр, под-
нявшись на сцену ... загоняет меня в угол, под газовый рожок; я так взволнован, что готов лишиться чувств,
пока его глаза сверлят меня; на его лице отражается удивление, и он довольно резко говорит мне: "Кто вы
такой, а?" Я лепечу что-то, он не мешает мне бормотать под его испытующим взглядом и прибавляет: "Это
очень хорошо, это превосходно, даГ»
3)
.
Описание театрика Галльского кружка было напечатано в фельетоне газеты «Ле Деба»: «Зала, совсем
крохотная и довольно нелепо размалеванная, похожа на концертную залу главного городка какого-либо
кантона. Можно было через рампу подать руку актерам и положить ноги на суфлерскую будку. Сцена так
узка, что на ней можно поставить только простейшие декорации, и она находится так близко, что невоз-
можна какая бы то ни было сценическая иллюзия. Если эта иллюзия рождается в нас, это значит, что мы
сами создаем ее, как, впрочем, это
2
* Антуан А. Дневники директора театра. М.-Л., 1939. С. 17. "Там же. С.23.
48
делали те честные зрители времен Шекспира, которые видели то, что надпись на дощечке предлагала им
увидеть, или — времен Мольера, когда фантазии нисколько не мешало появление человека, снимавшего
нагар со свечей»
4
'.
Другое описание этой сценки оставил поэт-парнасец Катюль Мен-дес: «Та сцена, на которой Вы вместе с
вашими молодыми товарищами разыгрываете пьесы, является утешением старых романтиков, будучи в то
же время надеждой молодых натуралистов» В двух этих описаниях собственно важны две вещи — сцена как
царство фантазии и в то же время свободы от иллюзии и сцена, питающая надежды как натуралистов, так и
романтиков.
Из помещения Галльского кружка Антуана с компанией довольно быстро выпроводили: слишком шумные и
эпатирующие спектакли, со взрывами бурь негодования или восторга в зале, свистом, топотом множества
ног и проч., стали мешать тихим любителям-пенсионерам... Долгие поиски нового помещения привели к
тому, что труппе пришлось перебраться в очень отдаленную и неудобную для театральной публики
местность, и друзья предрекли затее режиссера верную гибель: «...вам ни за что не удастся выманить
публику премьер за мосты, на тот берег»
5
'.
Свободный театр тогда окончательно оформляется как закрытое интеллектуальное пространство:
спектакли идут для абонентов, литераторов, критиков... Именно на отказе от публичности и
общедоступности очень твердо настаивает Антуан. Это освобождает его от сложных отношений с цензурой
и в то же время помогает подогреть интерес. Свободный театр — не коммерческое предприятие, каких
много.
Антуан не побоялся исчезнуть с газетных полос и потерять статус зачинателя модного и прогрессивного
предприятия, хотя он, бесспорно, пошел на большой риск. Артманн, хозяин небольшого зальчика на Мон-
парнасе, приютив Свободный театр у себя, даже пообещал Антуану декорации, в трогательный набор

которых входил «лес, написанный Сисери и доставшийся ему из бывшего дворцового театра в замке Сен-
Клу»
6
'.
Знаменитое определение сценического действия Свободного театра - «кусок из жизни» родилось у критиков
в связи с тем, что пьесы, которые Антуан принимал к постановке, не всегда были собственно длинными,
законченными драматическими произведениями. Ранние спектакли Свободного театра нередко состояли
даже из 5-6 самостоятельных коротких пьес. Его спектакль — сборник новелл, даже необязательно
объединенных общей идеей, но спаянных в целое общим стилем
49
41
Антуан А. Дневники директора театра. М.-Л., 1939. С. 56.
5)
Там же. С. 55.
6)
Там же С. 54.
исполнения. (Литературная аналогия этого театрального конгломерата сюжетов — сборники новелл
Мопассана.)
В июне 1888 года Антуан снова меняет площадку, и сейчас это театр на Страсбургском бульваре.
Начинается период окончательного осознания невозможности пользоваться декорациями «из подбора»,
декорациями старого театра. Тогда же впервые Антуан ведет речь об атмосфере сценической среды:
«Совершенно очевидна невозможность осуществить в старых декорациях пристойную постановку какого-
либо произведения и полностью создать соответствующую ему атмосферу и выявить его характер. Поэтому,
если мне удастся это сделать, специальная и подходящая обстановка для каждой пьесы явится новым
элементом успеха»
7
'.
Очень открытый всему новому в театральном деле, Антуан специально интересовался опытом
мейнингенцев. Он видел «Вильгельма Телля» и «Зимнюю сказку». Кронеку, режиссеру театра герцога
Мейнин-генского, он посвящает панегирик, где восторженно отзывается об организации массовых сцен.
Однако не все принимается им безоговорочно, много «но». «Их декорации — очень крикливые, но занятно
расположенные — написаны несравненно хуже, чем наши. Они злоупотребляют пратикаблями и суют их
повсюду. Костюмы у них великолепны, когда они чисто исторические, хотя и здесь роскошь чрезмерна; но
они почти всегда обнаруживают дурной вкус, когда документальные данные отсутствуют и когда
приходится создавать произведение, исполненное творческого воображения и фантазии.
Их очень удачные световые эффекты чаще всего устроены с эпической наивностью. (...) все это — с
единственной целью создать живописную картину.
Или еще, после изумительно воспроизведенного проливного дождя, который удалось изобразить с помощью
проекции электрического света, я с огорчением увидел, как дождь внезапно прекратился — сразу, без
всякого перехода»
8
'.
Далее Антуан не без иронии ведет речь о фальшиво-театральных швейцарских утесах, и о том, что герцог
набирает актеров как в армию, заботясь более всего о широких плечах и зычных голосах.
Один из самых скандально-знаменитых спектаклей Антуана, шедший в 1888 году, состоял из двух пьес
«Мясники» и «Сельская честь». В «Мясниках» на сцене висели настоящие мясные туши, а в «Сельской
чести» посреди сцены располагался источник и текла вода.
Длинная историческая драма в стихах «Отечество в опасности» Э. де Гонкура вдохновила режиссера на
интересные опыты со светом,
^ Антуан А. Дневники директора театра. М.-Л., 1939. С. 82.
8)
Там же. С. 91.
50
рамповое освещение было уничтожено: «На довольно ограниченное пространство я заставил влиться
через одну единственную дверь около пятисот статистов, которые просачивались медленно, как
мрачный прилив, и, наконец, затопляли всю сцену; полумрак, в котором то тут, то там падали на
колышущуюся толпу пятна света...»'*
В год Парижской Выставки и сооружения Эйфелевой башни режиссер впервые видит спектакли
восточного театра (труппа аннамских актеров). Его восхищает «обстановка»: простые столы и стулья,
отсутствие рампы, «исступленный оркестр», актер, создавший «впечатление стремительного бегства
через рисовые плантации», пластика другого актера, изображавшего получеловека, полуобезьяну —
восточное божество. И этот почти эстетский восторг перед традиционным восточным театром
естественно соседствует с восхищением по поводу железной башни, в которой, кажется, Мопассан
обедал только потому, «что это единственное место, из которого башню не видно».
Сколько копий сломал Антуан в баталиях с критиками и зрителями, стремясь утвердить
реалистическое разнообразие в мизансценах. Самым шокирующим фактом из всех его действий в этом
направлении было, пожалуй, его обращение спиной к публике, которое он позволял себе чуть ли не в
каждом спектакле. Над ним шутили, что у него два лица, одно из которых спина. Ему не разрешали
никаких «котурнов» и «пафоса», за отсутствие которых одновременно поносили. Единственный раз он
попытался сыграть обольстительного мужчину, гипнотизера и Дон Жуана, и критики не простили: тут
же написали, что и сам он жидок, и голос жидок. Тут возможна и такая параллель. Когда в первой
постановке «Чайки» Станиславский, актер совсем другой фактуры, но тоже стремившийся к
«беспафосной» простоте, сыграл Тригорина изнеженным женским поклонением франтом и вялым

ловеласом, на него тоже обрушились многие, и в первую очередь сам Чехов, определивший с большой
злобностью, что Станиславский тут «слащав» и похож на «импотента».
Антуан по-своему любил актеров старой школы, с органичным классическим пафосом, воздавал
должное Го, Муне-Сюлли, Коклену-стар-шему. Но с иронией какого-то богемного представителя
«молодежной культуры» шутил по поводу их стремления быть ежесекундно на виду у публики и
стоять у самого края рампы. В дневнике он рассказывает анекдот об актере, который «упрямо шел
вдоль рампы, упорно отыскивая гвоздь в этой четвертой стене», чтобы повесить на него шляпу. Сара
Бернар в его описаниях является похожей на какую-то куколку: то она завернута в меха, то в ковры или
шали. Вот уж точно режиссер видит характеры через детали, среду, «оболочку».
'Антуан А. Дневники директора театра. М,—Л., 1939. С. 115.
51
Антуан, мастер комнатного театра, все же совсем не всегда ограничивал сценическое пространство
реальным замкнутым интерьером: в пьесе «Каплуны», посвященной переживаниям двух буржуа по
поводу военных событий, пространство делилось на два плана: герои находились в комнате, за окнами
которой двигались вражеские войска и были видны штыки.
Но для создания пейзажей никогда не было средств. А удовлетвориться смешным задником с
нарисованной волной, которая «не падает в течение трех часов» сценического действия Антуан не мог.
Почему натурализм порождает режиссерский театр? Выдвигает фигуру, созидающую «вторую
реальность», пусть и смиренно стремящуюся к тому, чтобы она была «идентична» первой? Пафос
натуралистической режиссуры Антуана состоял в том, чтобы освободить сцену от «условностей» и
«иллюзий», вернуть драматическое произведение к той реальности, из которой оно выросло. С другой
стороны, документальная фиксация картин реальной жизни предполагает, что будут отброшены все
выработанные веками способы художественного обобщения, все априорно существующие нормы
восприятия и воспроизведения реальности, бытующие вне индивидуального видения «фо-
тографирующего» субъекта. Сколь изощренно искусным и по-своему выразительно искажающим
может быть такое, на первый взгляд, «фотографическое» видение, покажет уже искусство XX века, но
именно натурализм впервые актуализировал своеобразную «фотографирующую субъективность»-.
Характерно, что, скажем, сам Антуан, при том, что постоянно, по его же собственным словам,
«борется» за утверждение натурализма как некоей художественной магистрали своего времени, тем не
менее, нуждается в противоборствующей стороне, испытывает потребность в таком культурном
контексте, который питался бы стилистической конфликтностью. Причем наличествующие
реалистические и позднеро-мантические художественные формы этого режиссерского стремления к
бытию в конфликтном стилевом поле удовлетворить не могут. «Организовался Комитет поэтов в целях
создания Художественного театра (имеется в виду театр П. Фора. — А. Б.), который скоро будет
ставить в зале Монпарнас пьесы Пьера Кийара, Рашильд и Стефана Малларме. Это очень хорошо, так
как одного Свободного театра недостаточно, необходимы новые группировки, чтобы играть
произведения, которые мы не можем осуществить у нас. Я вижу в этом не конкуренцию, а допол-
52
нение во все ускоряющейся эволюции»
10>
. «Очень хорошо» режиссера Антуана, безусловно, заслуживает
уважения. Столь же привлекательно и его умение воздать должное оппонентам в мире искусства.
Антуан, будучи «верным солдатом армии Золя», тем не менее, готов признать, что его художественный
идеал не может, да и не должен стать всеобъемлющим для художественной культуры его времени. Более
того, он уже близок к тому, чтобы признать право режиссера пользоваться •«оптическими приборами»,
выработанными разными, конфликтующими эстетическими платформами. Такое самоощущение
оказывается возможным потому, что режиссер уже в полной мере почувствовал себя творцом «реальности»,
свободно использующим любой художественный инструментарий.
Скажем, некая, и даже очень приличная доза натурализма, была свойственна и «археологическому стилю»,
который даже и называется «археологическим натурализмом» (Ч. Кин, мейнингенцы). На сцену выносится
предметный мир той исторической эпохи, которая дана в пьесе. Но это происходит не из внутренних
мотивов постановщиков, а, скорее, является данью общекультурному фону, в некотором смысле даже моде
(Шлиман, Троя, увлечение XIX века археологией, надежды на открытие точно-научных знаний о жизни
далеких предков).
Предметный натурализм Свободного театра уже имеет совершенно другую природу: зачем, собственно,
увешивать сцену реальными мясными тушами, когда по сюжету и так точно известно, что действие
происходит в мясной лавке, тем более, что условности театра того времени вполне допускали наличие
легких живописных намеков, если уж рисовали даже «камины» с зажженными дровами, то почему бы не
изобразить туши (как славный натюрморт из почтенных старых голландцев)?
Предмет начинает играть, то есть он выполняет важную художественную задачу (туши создают не просто
реальность, а реальность сгущенную до того, что потом будет называться гиперреальностью). У
натуралистически подобранных сценических предметов как бы двойственный характер, они реальны и
театральны одновременно, и эта двойственность осознается постановщиком. Например, свет: несколько
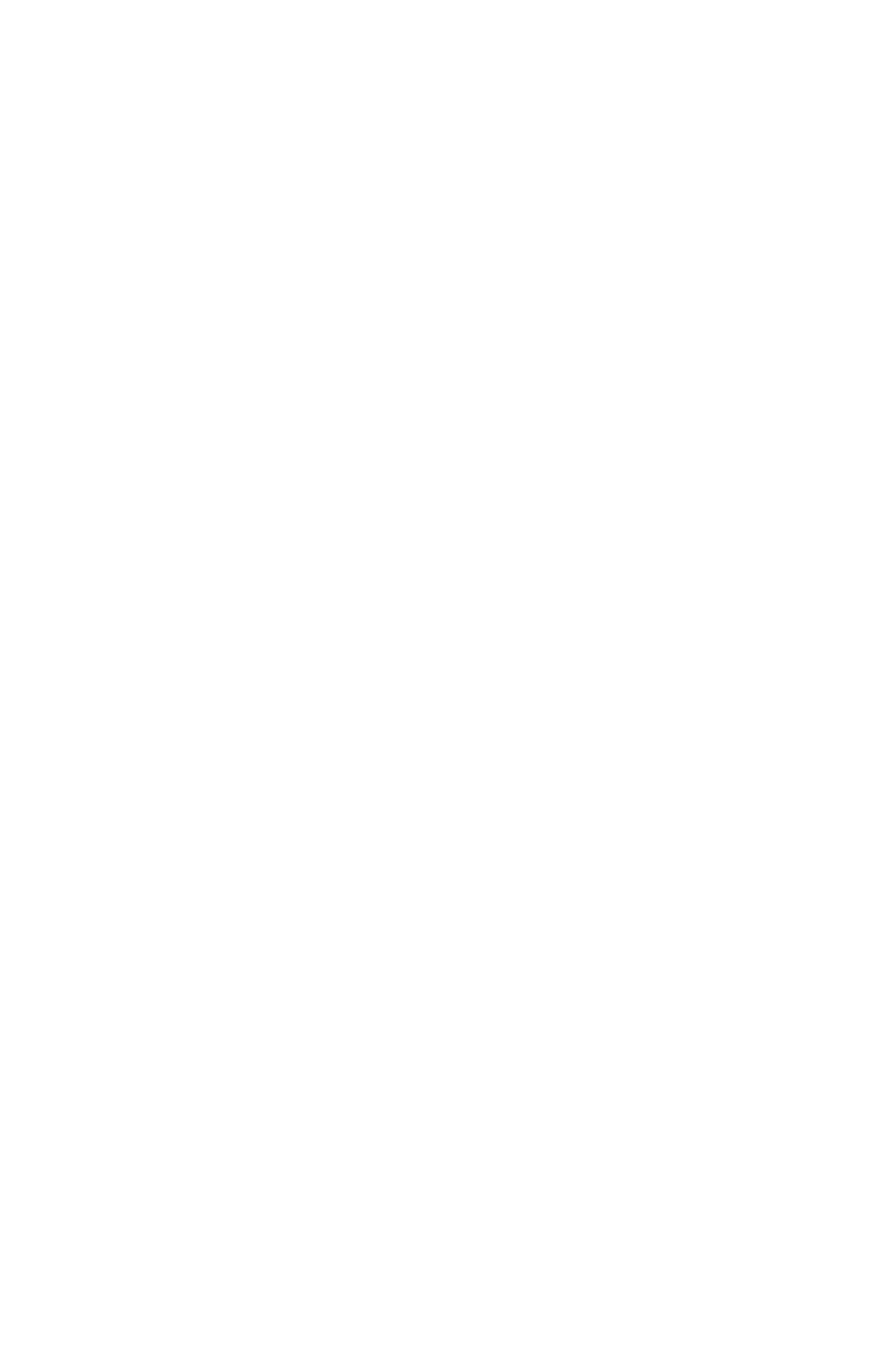
источников света на сцене, настольные лампы, газовые рожки, — с одной стороны, они невычленимая часть
реального интерьера, а с другой — собственно театральный свет. И так каждая составляющая сценической
среды в режиссерском театре театральна и «реальна» одновременно, нет распадения, характерного для
нережиссерского театра, на условно-театральные элементы и элементы «реальные». (Естественно речь идет,
скорее, об общей тенденции, нежели о правилах без исключений.)
10
' Антуан А. Дневники директора театра. М.—Л., 1939. С. 176.
53
Именно с изгнанием иллюзионистских условностей связаны стремления самых разных режиссеров ввести в
сценическую картину длительность. Сценический мир должен меняться постоянно, так, как это происходит
с окружающей человека средой в реальной действительности. Пространство подчиняется власти времени.
Не нужно никаких перестановок, требуется живое изменение.
Речь шла не о том, чтобы добиться максимально частой смены декораций, на этом поприще преуспели и
нережиссерские театры, напротив, речь шла о том, чтобы изменения, причем постоянные, происходили в
одном месте действия, в одной декорации. Как в импрессионистической живописи появляются пейзажи,
изображающие одно и то же место в разное время суток, при разной погоде и разном освещении («Руанский
Собор» Клода Моне), так и театр добивается изменчивости среды не условно-иллюзионистскими
перестановками, а разнообразным набором совершенно новых средств.
Поль Фор, признанный современниками оппонентом Свободного театра, действительно идет другим путем,
пытаясь спиритуализировать «место действия». Но и он не возвращается к иллюзионистскому театру. Уже
нет никакого опосредующего набора приемов, который бы стоял между режиссером и сценическим миром.
Другое дело, что, превращая «место действия» в фон, в созвучие словесному поэтическому миру, он лишает
его несомненности реального. Здесь вновь как будто оживает мечта о романтической беспредельности
пространства — выражения абсолютной духовной свободы. Но у П. Фора и его авторов духовная свобода
настолько герметична, насколько абстрактно решение сценического пространства. «Декорация должна быть
чистым орнаментальным вымыслом, дополняющим иллюзию путем цветовых и линеарных аналогий с
пьесой. Чаще всего вполне достаточно будет некоего фона и нескольких подвижных драпировок, чтобы
создать впечатление бесконечного многообразия времени и места... Театр будет тем, чем ему надлежит
быть: поводом для мечты»"'. Так думал драматург П. Кийар. И этим идеям следовал П. Фор.
Отказ от детализации, конкретизации и вообще, если можно так выразиться, от реального присутствия места
действия здесь и сейчас, был неизбежен для Фора, чьей целью была сценическая реализация
субъективированного поэтического идеала в грандиозном масштабе.
Так или иначе, натуралистические и символистские спектакли расфокусировали оптическую систему
иллюзионистского сценического мира XIX века. То место действия становилось агрессивно, угрожающе ре-
ально, гиперреально, то растворялось в бесплотных драпировках «орнаментальных» пейзажей,
дематериализовывалось. Натуралисты создали
' Quillard P. Revue d'art dramatique. 1 mai 1891.
54
пространство малого масштаба, но предельно возможно насыщенное реальными, «присутствующими»
деталями, а символисты, напротив, развернули пространство огромного масштаба, где реальные
объекты, именно в их реальном, а не условно-символическом значении отсутствуют. И у тех, и у других
появляется уже определенная черта режиссерского театра: пространство приобретает текучую изменчивость
уже без помощи перемен декораций. Оно преображается не механически, а «органически», то есть
сценическая картина в идеале меняется непрерывно. Развитие эта зарождающаяся режиссерская мысль о
пространстве получает в сценографических опытах Аппиа.
Первый спектакль Аппиа (1903) по своей стилистике близок к символизму, хотя этот вариант театрального
символизма совсем не походил на опыты Фора, или, скажем Мейерхольда. Связаны с символизмом и ранние
эскизы художника, его интерпретация вагнеровской тетралогии «Кольцо Нибелунга». Незадолго до Аппиа к
творчеству Вагнера обращают свои взгляды многие художники символистского направления, поэты,
живописцы, деятели театра. Это новое видение вагнеровского мира отражено в литографиях французского
художника Фантен-Латура, в статьях Бодлера и Малларме. Ведь ранний символизм противопоставляет
натуралистическому «праведному гневу» лирическое повышенное горение, лихорадку, род обостренной
восприимчивости ко всему «сверхжизненному», небытовому, нереальному. И именно эту эмоциональную
приподнятость, эту нетождественность героя самому себе в моменты душевного подъема почувствовали
символисты в Вагнере, который в 90-е годы XIX века приобрел всеевропейскую популярность. (Впрочем,
совсем не везде, точнее, даже нигде, кроме Байрейта, он не фигурировал во всей полноте своей
монументальной эстетики, а шел в концертном, даже любительском исполнении в профессиональных и
любительских музыкальных обществах.)
Бесконечная, бескостная мелодия Вагнера — творение, родственное льющимся линиям стиля модерн. Ее
волнообразное движение в чем-то схоже с размытой неклассической метрикой символистской поэзии. Ее
«томление» при постоянно повышенном эмоциональном тонусе, давление и нарастание там, где, казалось
бы, уже некуда нарастать, особого рода непрерывность в развитии эмоционального состояния — именно эти
черты музыки Вагнера обусловили популярность композитора в конце века, именно они были
привлекательны для такого художника, как Аппиа.

Заставить зрителя «увидеть» эту музыку, увлечься погружением в мир тех видений, которые она вызывает, и
сделать этот мир как можно более «реальным» — таков основной творческий импульс художника.
Те произведения Аппиа, которые ближе всего к символизму (рисунки и сценарии 90-х годов), уже не
укладываются в рамки этого художе-
55
ственного направления. Аппиа обуздывает в себе чисто символистскую тягу к бесплотному пространству и
герметизации духовной жизни, при которой эта жизнь подается как «вещь в себе». (Аппиа принадлежит ко
второму поколению символистов, условно говоря, не к поколению Рембо, а к поколению Метерлинка и
Крэга, которое своим творчеством не открывает и предвещает, а подводит итог и двигается дальше.)
В сверхидеи Аппиа выдвигает «бытийную реальность» пространства, он объявляет своими врагами
всяческие «фикции». И эта борьба оказывается тем более трудной, что исходным материалом для своих ре-
жиссерских исканий он выбирает музыкально-драматическое творчество Вагнера. Конечно, можно было бы
сказать, что он просто боготворил эту музыку и стыдился ее театрального воплощения на Байрейтской
сцене.
Из всего, что сделал Вагнер, как раз его театр художник совсем не любил. Аппиа притягивало вагнеровское
титаническое и одновременно опасное мифологизирование на субъективном уровне, соединение
объективности мифа с мощным лирическим началом с целью гипнотического давления на зрительскую
массу.
«Человек — мера всех вещей», — Аппиа нравилось повторять этот афоризм. Не имея стойкой связи с
конкретной сценой, не будучи задействован в театральном процессе, он смело узаконивает право по-
становщика на актуализацию собственных видений. (В Байрейте, воспроизводившем все каноны и правила
старого театра, поставившем декорационное искусство на широкую ногу, подобные амбиции казались
смехотворными.) А режиссер, быстро забыв о том, что его не принимают всерьез, отчаянно утверждает свое
право видеть нечто такое, что не исходит ни от автора, ни от актера, и, тем не менее, как художественный
образ реализуется в спектакле. Режиссер у Аппиа вырисовывается как новая точка зрения (естественно, он
смотрит из зала), вступающая в различные отношения с точками зрения автора и других участников
сценического произведения.
Забавно, что Аппиа с его ярко субъективными видениями все время ищет способы сделать их «объективной
реальностью». Получается, что пространства Аппиа — оптическое совмещение все более призрачных
относительно первой, жизненной реальности видений. Сценический мир художника — не только
воспроизведение среды, созданной автором в драме, но и одновременно его собственное видение этой
среды, а также пространственный образ душевных коллизий героев драмы. Иначе говоря, сценическая среда
Аппиа такова, какой ее видят одновременно композитор, постановщик, персонажи. Причем все эти видения
даются в полифоническом соотношении, ни одно из них не покушается на безусловное первенство. Поэтому
художник отказывается от декораций перспективных сокращений, устремляющих все взгляды в единую
точку, «засасывающих взгляд». (Такие художники рубежа веков, как Сезанн,
56
Ходлер, Матисс при всей их несхожести также отказываются от глубокой перспективы, чтобы воссоздать ту
же множественность точек зрения на реальные объекты.) Видение лепит предмет, и форма предмета пред-
стает как субъективный результат процесса зрения. Объекты начинают преображаться под действием
различных восприятий. Сезанн конструирует объем вне линейной перспективы, Ходлер совмещает на своих
полотнах объемные фигуры с плоским фоном (прямой художественный аналог барельефов Мейерхольда и
Фукса), дает как бы ступенчатую перспективу двух и более планов, вводит множественность «мест
действия». Матисс стремится средствами пространственного искусства запечатлеть не мгновение, но
длительность.
Аппиа считал творческой областью постановщика композицию сценической картины. Он нередко
противоречит сам себе, когда то утверждает, что постановщик полностью подчинен автору, то, напротив,
что сценическому творению нужно завоевать независимость от литературности. И колебания
почтительности по отношению к исходному материалу сценического творчества очень сильны. В главе
«Слияние» книги «Произведение живого искусства» Аппиа пишет: «Театр интеллектуализировался, тело в
нем всего лишь носитель и представитель литературного текста. Оно взывает к нашим глазам только в этом
качестве, жесты и движения не упорядочены текстом, а только вдохновлены им, актер интерпретирует по
своей прихоти то, что написал автор, и величайшая важность самого его присутствия на сцене игнорируется,
он всем обязан своей интерпретации, и дело обстоит даже так, что обычно актер создает свою роль, в то
время как декорации еще пишутся. Единство актера и его декоративного окружения насильственно и почти
всегда случайно». В этом высказывании для нас интересно следующее: театр слишком зависим от текста; в
театре есть избыток актерского своеволия и недостаток такой воли, которая бы обеспечила
одновременность возникновения «мира» и «людей» в раме сценической картины. Но самое важное — это
мелькание мысли о сочетании бытийной несомненности пространства с внутренней мотивированностью
второй сценической реальности для режиссера.
С предшествующими персонажами Аппиа роднит то же кардинальное неприятие условностей, всего строя и
художественного языка старого дорежиссерского театра.
Его даже ужасает собственное отвращение от Байрейта — апофеоза вагнеровского сценического стиля. А

ведь столь любимый им композитор сам создал этот «мир», впитавший в себя почти все традиционные
черты оперного театра середины века. Байрейтская образность просто кишела многочисленными
«фикциями», которые так раздражали Аппиа. Сценические красоты Байрейта казались ему какими-то
накладными волосами, вставными челюстями, румянами и белилами стареющей дамы. Особенно смущало
его в байрейтском убранстве сочетание безвкусной
57
иллюстративности с самодовлеющей пышностью. Впрочем, и сам Вагнер ужаснулся перед театральным
воплощением своих грез: «Я создал невидимый оркестр, если бы я мог создать невидимый театр!» То, что
он не хотел видеть, описал А. Бенуа уже в начале XX века, когда сам работал над декорациями к «Гибели
Богов».
«Всем нам надоели эти развесистые ели, эти безвкусно романтические скалы, эти рогатые каски, древние
германцы, средневековые замки, белокурые дамы, балаганные великаны, балаганные русалки. (...) Неужели
так-таки и останется навеки, что Нотунг в стволе дуба будет гореть точно иллюминация, что крошечная
северная хижина Хундинга будет изображена в виде огромной хоромины, что Вотан и Валькирия будут
гулять какими-то кирасирами (...)
Публика (...) весьма довольна "апофеозом" Валькирии с бенгальским огнем, клубами и шипением пара...
Ничего не говорю: фейерверк изрядный. Но то ли здесь нужно?»
12)
Аппиа пробует понять, чем, собственно,
его не устраивает «фиктивное» или иллюзорное пространство, и находит этому неожиданное объяснение.
Он считает, что количество «знаковых» элементов сценической картины перевешивает количество
элементов «выразительных». (Знаковые ориентируют зрителя в сюжете и обращаются к его рассудку, а
выразительные адресуются к воображению зрителя, его эмоциональной сфере, его бессознательному.) И
естественно, сразу встает вопрос, кто может быть заинтересован в подобных тонкостях. Какой художник в
состоянии скроить сценическое полотно, узор которого складывался бы из взаимодействия знаков с
выразительными элементами? Кому может потребоваться усиление выразительной способности
сценического пространства? Уж конечно, не реально действующему театральному художнику того времени,
озабоченному более всего тем, чтобы изобразить и расположить в трехмерном пространстве, с помощью
многочисленных иллюзионистских ухищрений заказанное автором место действия. Подобный
художественный сюжет может быть интересен только режиссеру, раз «выразительность» именно то, чего он
в первую очередь добивается от сценической реальности. Аппиа считает, что мерой реализма должна
служить мощь переживаний зрителя, а не степень скрупулезности в воссоздании иллюзии реальности места
действия. Он предлагает свести число «знаковых» элементов пространства до минимума и, соответственно,
увеличить число выразительных.
В своей книге «Музыка и постановка» Аппиа пишет законы, регулирующие отношения между тремя китами
его театрального мира: расстановкой, освещением и живописью. В этих формулировках самым
|2)
Мир искусства. 1900. №4. С. 241.
58
причудливым образом сочетаются рассуждения о техническом и материальном с пассажами о
спиритуальном и эзотерическом.
Аппиа первым из режиссеров рубежа веков создает световые партитуры спектакля (в начале 90-х годов XIX
века). Он предпосылает их образным описаниям мест действия. В них не столько идет речь о технике
освещения, конкретных световых аппаратах и их размещении (хотя об этом он тоже писал в одной из своих
книг), сколько о поэтических и смысловых пространственных функциях света.
Единство театрального пространства и времени он полагает осуществить через единство света и звука.
Звуки, точнее их ритмическая последовательность, организуют временную структуру. Подвижный свет
выявляет размещение форм в пространстве. Пространство у Аппиа оживляется, приводится в движение
непрерывной игрой света. Художник, скорее, подчиняет декорацию освещению, а не наоборот, как это
обычно было в современном ему театре. Он даже привносит в театр некоторые технические приемы
зарождающегося кинематографа, предлагая использовать световые проекции для создания постоянно
движущихся объектов (например, облаков).
Взглянем, как Аппиа подбирает соответствующие сценические решения для лирических и эпических
эпизодов вагнеровской драмы. Если речь идет о самораскрытии главного героя (лирический эпизод), то кар-
тина строится по принципу «зритель видит мир глазами героя». Сценический мир превращается в отражение
его душевных движений. А когда приходит время для действий и событий (эпические сцены), пространство
усиливается в своей объективности, реальности.
Интерпретируя Гамлета, Аппиа понимает конфликт этой трагедии в романтическом ключе. Некоторое
отступление в сторону от проблемы «места действия» для объяснения того, какой герой интересует
режиссера, все же необходимо. В тех произведениях, к которым Аппиа написал разной степени подробности
«сценарии» или, режиссерские планы, обязательно существует герой романтического типа. Вернее, он так
понимается режиссером. Зигфрид, Тристан, Гамлет, король Лир — все они, в той или иной мере,
«универсальные» герои, личности, превосходящие духовную норму. Другое дело, что и мир в этих драмах
дан совсем не всегда как лирический фон — он властно присутствует в своей объективно-независимой от
героя реальности.
Аппиа хочет, чтобы зритель получил возможность идентифицироваться с могучим героем, и пытается
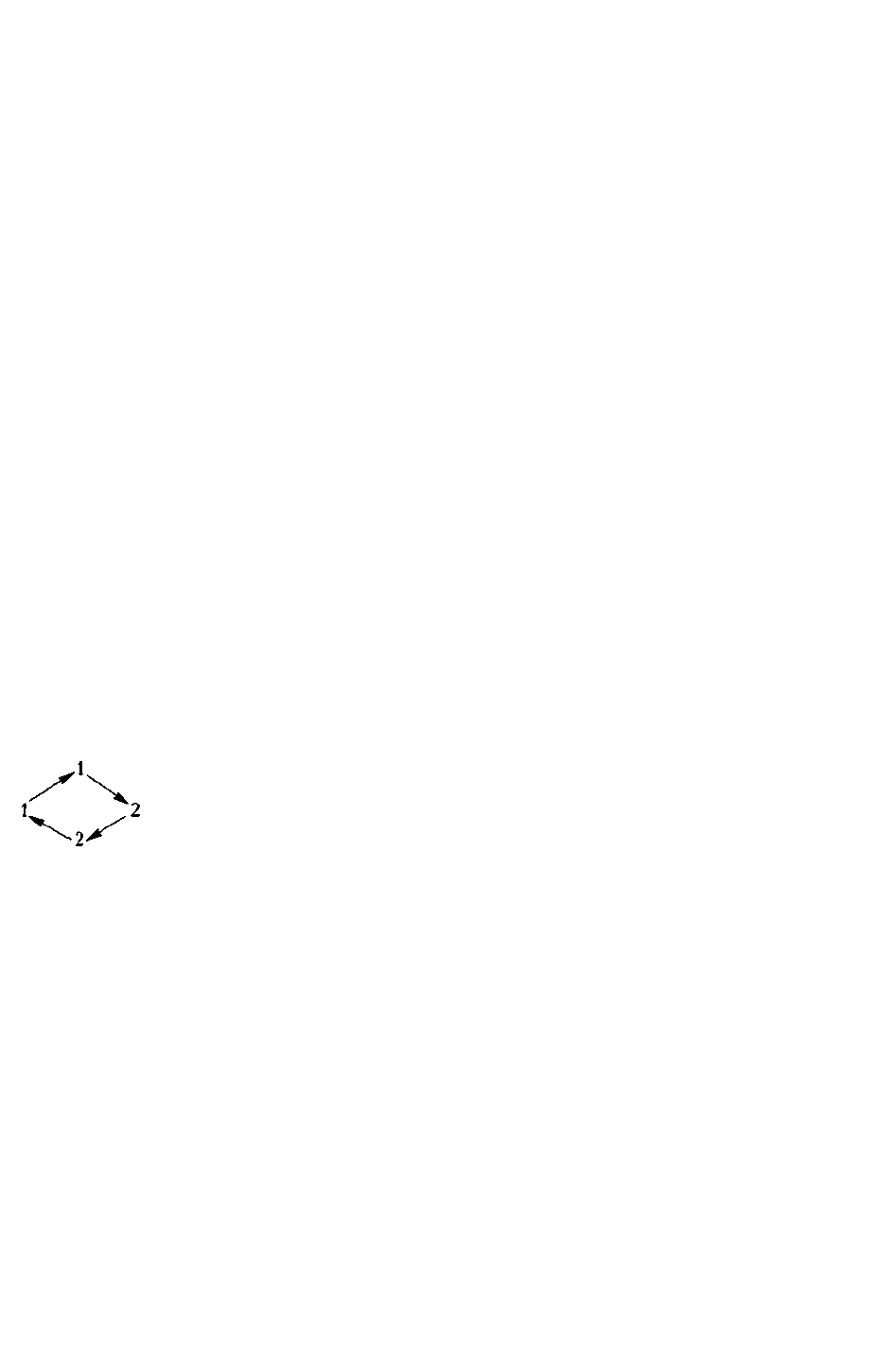
придумать режиссерские приемы, которые могли бы работать на эту цель. В моменты важных лирических
излияний Аппиа растворяет героя в сценическом пейзаже. Мир становится визуальным воплощением
душевного состояния героя. Таким образом, субъективное состояние усиливается и распространяется,
заполняя собой всю сцену и зрительный зал.
59
Аппиа полагает, что именно сюжет развивающихся отношений героя со сценическим миром позволяет
почувствовать внутренние переживания героя. «Психология» действующих лиц всегда отливается у него в
пространственную форму, разворачивается в картине, в позе.
Герой изолируется, выделяется из пейзажа в моменты «внешнего действия» и, наоборот, вписывается в
декор в моменты действия внутреннего.
Степень внутренней углубленности или внешней экспансивности той или иной драматической сцены
должна, по мысли Аппиа, выражаться в пространственной организации, соответственно, то смешивающей
актера с декором, то противопоставляющей их. Между вписанностью персонажа в пространство и
выделением из него — почти неуловимая переходная ступень, характеризующая смену внутреннего
действия внешним и наоборот.
В сценическом действии, описанном Аппиа, можно увидеть такую цикличность:
1.
Внутренняя концентрация героя
Внешний мир на сцене — проекция его настроения
Пластическая неподвижность героя
Кульминация музыкального развития.
2.
Акция (действия по событийному сюжету)
Выделение героя из внешнего мира и объективация этого мира
Ритмичное, организованное музыкой движение
Начало нового музыкального развития
и т.д.
(Эта цикличность, однако, скорее, мягкая сетка, нежели жесткая схема спектакля.) Длительность различных
частей цикла может быть разной. Это цикличное движение смены «внутреннего» и «внешнего» действий
ускоренно раскручивается в финалах опер «Кольца».
При построении мизансцен для Аппиа, естественно, оказывается решающим характер действия (внешнее
или внутреннее). Концентрации внутреннего действия соответствует положение персонажа на переднем
затемненном плане сцены. Пространственные проекции его духовной жизни устремлены в глубину.
Туманность, неопределенность, странность — вот тот набор эпитетов, которыми пользуется художник для
характеристики этой глубины.
60
Вообще затемнение первого плана в сценических картинах Аппиа несет как бы двойную функцию. С одной
стороны, Аппиа следует старинному живописному приему: затемненный первый план выгодно
контрастирует с освещенной далью. С другой стороны, нейтрализует материальную «сочность», телесную
конкретность рефлексирующего субъекта (о Зигфриде ведь речь). Аппиа считает, что если действие про-
исходит в глубине сцены, то зритель воспринимает его «со стороны», как некое объективно происходящее
событие. Только с переднего плана (которым очень опасно злоупотреблять) герои могут взывать к
истинному соучастию, сочувствию.
Таким образом, Аппиа создает иерархическую систему сценических планов, полностью детерминирует
сценическое движение, придает ему символическое значение.
В соответствии с этим, все материальные объекты, элементы декора, необходимые для внешнего действия
(например, пещера с гигантом Фафнером), как правило, располагаются им на дальних планах. Игра объемов,
линий, пропорций представляется Аппиа важнейшей частью драматической игры в целом (он даже
придумывает соответствующий термин — «декоративный сценарий»).
Истинный смысл отношений персонажей выявляется не только размещением, но и светом. В сценарии
«Кольца» для центральных персонажей Аппиа придумывает световые лейтмотивы. (У Вотана — красный
свет, у Брунгильды — «золотой луч» и т. п.) В событийных сценах свет приобретает символическое
значение, может быть «вестником» того или иного персонажа, предвещать беду. Отношения световых
лейтмотивов выявляют иерархию действующих лиц. Скажем, если свет Вотана отбрасывает кровавые
отблески на Брунгильду, то ее золотой луч коснуться громовержца не может. Такое сплетение световых
лейтмотивов характеризует вторичность воли Брунгильды по отношению к воле ее отца.
Еще один мизансценический прием исключительно характерен для Аппиа: использование в стремительных
сценах борьбы, в разного рода поединках богов техники контржура, когда зритель воспринимает событие
только через четко очерченный пластический рисунок. В описании сражения Хундинга и Зигмунда он

подчеркивает «бесплотность» героев, зависимость от высших сил. Когда поединок заканчивается, кровавый
свет Вотана и золотой — Брунгильды гаснут, сцена, как пишет Аппиа, приобретает «естественный вид».
Таким образом, он в своем режиссерском плане фиксирует момент смены сценической атмосферы, которая
характеризуется присутствием или отсутствием сверхъестественных сил. В силуэтной технике Аппиа видит
спасение от извечного противоречия между духовными абстракциями музыки и материальностью сцени-
ческого зрелища, часто излишне конкретизирующего суть музыкальных коллизий. Более всего «силуэты»
используются Аппиа в сценарии
61
к последней опере «Кольца» — «Гибели богов», самой пессимистической и абстрактно-философской из
всего цикла.
Одним из талантов постановщика Аппиа считает умение создавать «декоративное впечатление». Не плодить
детали, а достигать желаемого результата минимумом средств. Допустим, что надо каким-то образом дать
понять зрителю, что действие происходит на горной вершине. Для этого Аппиа предлагает опустить линию
горизонта так, чтобы скала ее полностью загораживала, и невидимый горизонт находился ниже линии
рампы. Таким остроумным способом он хотел бы добиться впечатления «горных высот».
Осветительный аппарат становится кистью в руках художника-режиссера. Содержательное значение света у
Аппиа можно выявить, рассмотрев изменения в освещенности, которые он предлагает к 9-ти актам
«Кольца» (без «Золота Рейна»).
«Валькирия» — драма о любви и власти, анализирует отношения людей, героев и богов. Надежда на
благополучное разрешение конфликта возникает во II акте. Крушение этой надежды завершается страшной
грозой — переходом к мрачному и темному III акту. Свет в этой опере (во II и III действиях) исходит от
горизонта, символизирующего вечность, некую высшую силу по отношению ко всем героям. Космос этой
оперы разомкнут.
«Зигфрид» — самая оптимистическая из опер «Кольца». Она не трагична, в ней много реалистических сцен.
В эскизах к «Зигфриду» нет горизонта, вечность как бы отступает. Свет исходит из леса, и герои находятся в
гармонии с природой. Космос «Зигфрида» замкнут, а сценическая картина максимально освещена.
Уменьшение масштаба конфликта и всеобщности и громадности его движущих сил просветляет
сценический пейзаж с его материальной конкретностью.
В «Гибели богов» космос вновь разомкнут. Горизонт присутствует почти во всех сценических картинах.
Вечность наступает на героев. Крушение миропорядка, «конец света» в этой опере, выраженные
специфическим «музыкальным хаосом», трансформируются у Аппиа в цепь контрастных (с точки зрения
освещения) сценических картин. Неудержимое развитие мировой катастрофы призвано было воплотить
контрастное, постоянно меняющееся, кажущееся хаотичным освещение (в сценарии к «Гибели богов»
Аппиа предлагает максимально увеличить число источников света).
Свет у Аппиа имеет как общие (для всего спектакля в целом), так и частные художественные задачи: он
разделяет или объединяет пространство, создает атмосферу (например, вылепляет «лес» при помощи
световых проекций). Этот свет рельефен, он невесомая масса, громада, может сделать сцену плоской, как
черный лист, или вернуть ей трехмерный объем. Оживление пространства достигается не только
подвижным
62
светом, но и игрой теней. Причем Аппиа пользуется и настоящими, и нарисованными тенями. Тень для
художника — нематериальный двойник того или иного предмета, обладающий определенной
самостоятельностью по отношению к этому предмету. У него в сценариях существуют и объекты без теней,
и тени без объектов. Есть и моменты точного соответствия между объектом и тенью, которое возникает в
реалистических сценах. Аппиа с его эстетикой темного театра исключительно изобретателен в оттенках
«темноты». Так, любовный дуэт Зигмунда и Зиглинды он предлагает поставить «в искусственной темноте»
и характеризует ее так: «освещение не должно формировать тени». А когда Зигфрид «накрывает Миме
своей тенью», это означает обреченность Миме.
Трогательно-сказочное решение находит Аппиа для Вотана, когда тот по сюжету должен появиться в образе
Странника, то есть простого человека. Чтобы зритель мог понять, что перед ним все же громовержец, Аппиа
превращает его в «оптический прибор», фокусирующий «на себе лучи всех источников света»
|3
'.
Только в 40 лет (1903) Аппиа получает возможность осуществить свои идеи. Он ненадолго заполучает
маленькую сцену в праздничном зале особняка графини Рене де Беарн на улице Боске, в Париже. Первую
театральную сцену, на которой удалось проявиться этому не очень счастливому в практике режиссеру, стоит
описать. В каком-то смысле она составит трагикомический контраст со сценами нашего предыдущего
персонажа. С жалкими подмостками Свободного театра ее роднит лишь сам факт неприспособленности для
каких бы то ни было масштабных новаций. А ее точное описание сохранилось в журнале «Счастливая
жизнь», специализировавшемся на рассказах о выдающихся модных интерьерах и аристократическом быте:
«Представьте себе темный и таинственный зал, просторный и торжественный, как храм, у которого он
позаимствовал форму, построенный по планам скульптора Дампта в византийском стиле. Сумрачность этого
зала рассеивается лишь искрами всех сортов золота. Тусклое золото оживляет стены. Потолок роскошно
украшен широкой обивкой из бархата соломенного цвета. Ковры голубого льна придают нежность и
утонченность этой роскоши. Другие ковры, дорогие и старинные, как хоругви, ниспадают с потолка. В
