Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков
Подождите немного. Документ загружается.


Личная правда нередко весьма откровенно идет вразрез с государственными интересами. Человек
оказывается наедине с обстоятельствами личной судьбы. Этот шаг окончательно совершает родившаяся в
романтическую эпоху мелодрама. Почти все крупнейшие актеры-романтики выступали в мелодрамах.
Мелодраматические злодеи-герои в исполнении Кина или Леметра становились вровень с байроновским
Манфредом или Лорензаччо А. де Мюссе. Личность, несшая на своих плечах все противоречия мирового
порядка, оказывалась центром и смыслом сценического искусства. Романтические произведения измерялись
масштабом личности, степенью напряженности конфликта противоположностей. Три страны романтизма —
Англия, Франция и Германия — дали каждая свою характерную выразительность этому художественному
направлению. «Романтизмы» везде обретали национальный характер. Одно дело — «Монастырское
кладбище
21
под снегом» К. Д. Фридриха и совсем другое — «Свобода на баррикадах» Э. Делакруа. Франция — страна
мощного романтического пафоса, действенного, а не стоического героизма, раскаленного революционной
почвой. Французский романтизм — самый агрессивный вариант стиля в отношении к предшественникам
(классицистам). Битвы классиков с романтиками имели во французском театре место отнюдь не только в
сфере идей. Англия — страна романтических отшельников. В Английском романтизме меньше собственно
социального пафоса и больше ужаса и изумления перед открытым противостоянием человека и мира.
Германия создает романтическую иронию. Преобразовательский пафос там сдерживается рефлексией,
погружением во внутренний мир души. Героика и лирика романтизма щедро представлены в Англии и
Франции творчеством Байрона, Шелли, Гюго, Мюссе. Немецкая же драматургия дает другую краску
романтизму: иронично-сказочную фееричность. Гофман, сам не писавший пьес, за исключением
небольшого наброска «Принцесса Бландина», пять лет был директором Бамбергского театра. Он, быть
может, как никто сознавал, что такое актер — хозяин спектакля, и даже сочинил на эту тему диалог
«Необычайные страдания одного театрального директора», где задолго до Гордона Крэга потребовал себе
марионеток. Именно Гофман открыто и искренно считает театр царством фантазии, иным миром,
способным противостоять реальности. Гофман был мастером диссонансов. Если Гюго любил контраст
красоты и уродства, то Гофман предпочитал ему контраст трезвости и безумия, контраст двух состояний
обыденно-разумного и творчески-безумного, повышенно экзальтированного, «энтузиастического».
Современники называли его «исступленным» Гофманом. Понимая, что романтизм тяготеет, скорее, к
доминанте конфликта внутреннего, конфликта в душе героя, Гофман иронически относится к «серьезности»
внешних атрибутов театра. Люки, веревки, искаженные пропорции перспективы — все это Гофман считает
не бедой театра, а его «достоинством» (теми особенностями искусства, которые ему присущи органически).
Гофман настаивает на том, что зрителя никакими ухищрениями невозможно заставить поверить в ре-
альность представляемого на сцене места действия, более того, стремление к этому убивает театр. В то
время, когда было возможно прямое, ничем не опосредованное, пафосно-лирическое актерское изображение
противостояния человека и мира — его сценические опыты не были по настоящему поняты и усвоены
современным театром. Театр не мог овладеть его специфической иронией, или, если угодно, самоиронией,
образующейся не в поле социальной сатиры или драмы, а в поле напряженного конфликта субъекта с самим
собой, а затем уж и с остальным миром. Чем больше индивидуальной творческой свободы завоевывают
собственно театральные элементы спектакля: художник, актер, постановщик, тем более вместительная
драматургия им для этого требуется,
22
то есть драматургия, синтезирующая максимальное многообразие индивидуальных видений. Именно
поэтому Гофману были нужны Шекспир и Моцарт. Их он особенно хотел поставить в Бамбергском театре,
когда был его директором. Гофману важна была историческая дистанция между постановщиком и
драматическим текстом, та дистанция, которая поможет позднее режиссерам-ненатуралистам рубежа веков
ощутить свою власть над пьесой, своего рода «всесилие» режиссера-интерпретатора. Преобразовательский
героизм французского драматического поэта Гюго в творчестве немецких романтиков Клейста и Бюхнера
рисуется своей оборотной, трагически надрывной стороной: гибель героической личности с исторической
точки зрения оказывается бессмысленной жертвой...
Становление титанической личности романтизма через свободное самоосуществление, как правило, всегда
встречает последнее препятствие, преодолеть которое можно лишь ценой жизни. Однако и цена отдельной
жизни, и серьезность препятствия у романтиков исключительно высоки.
Действие, деятельная героическая жизнь по-разному представлены в творчестве романтических
драматургов. Странную, антиромантическую модель романтизма создает Георг Бюхнер. Фетиш героя этого
времени — действие, преображающее мир, — он подвергает какой-то исступленной дискредитации. Причем
его столь разные, но одинаково романтические герои — Дантон и Войцек — оба становятся жертвами
невозможности уклониться от романтических поступков.
Бюхнер уже не может довольствоваться бунтарством, мечтательностью, отшельничеством, иронией
романтических личностей, созданных его предшественниками. С другой стороны, он ощущает трагическую
бесполезность героического деяния, устремленного на переустройство жизни, его бессилие в том случае,
когда оно стремится преодолеть «железный закон». Именно в творчестве Бюхнера внечеловеческие
закономерности исторического развития или просто внечеловеческие силы обретают функцию рока. Бюхнер

с предельной остротой ставит вопрос о самом героизме: материалистическое, трезвое знание не может быть
стимулом к действию, и тогда только романтический дух становится источником и причиной гражданской
жертвенности его героя. (Интересно, что эту драматическую коллизию автору пришлось пережить в
реальной жизни. Его революционное воззвание, знаменитое фразой: «Мир хижинам! Война дворцам!»
крестьяне сами приносили в полицию.) Бюхнер-мате-риалист, ученый, читавший курс анатомии в
Цюрихском университете, сын врача и брат философа-материалиста механистического направления, сознает
обреченность собственных революционных устремлений. Бюхнер-романтик не в состоянии примириться с
этим и обречь себя на бездействие и недовоплощенность. Именно эта духовная ситуация автора отражается
в драме «Смерть Дантона», описывающей события,
23
приведшие крупнейшего деятеля Французской революции на гильотину. Бюхнер разворачивает мрачную
атмосферу революционного террора, подает героя в тот момент, когда энергия его духа начинает угасать
перед сознанием обреченности и крушением иллюзий справедливого общественного порядка и
«естественного права».
Столкновение индивида с роковым ходом исторических событий — главный конфликт драмы, которая
становится похоронным звоном по раннему романтическому антропоцентризму. Отношения героической
личности с народом и историей занимали и Альфреда де Мюссе в трагедии «Лорензаччо». И у Мюссе, и у
Бюхнера герои бунтуют и погибают. Однако между ними существуют кардинальные различия. И Дантон, и
Лорензаччо обречены, но Дантон более осознанно ощущает эту обреченность. Лорензаччо — аристократ-
тираноборец. Дантон — народный герой, вынесенный на вершину власти мощной революционной волной.
Оба героя совершают акт гражданской жертвенности. Однако у Бюхнера сильнее ощущается действие
«железного закона», исторических сил, приобретающих функции рока. Мюссе же до последней минуты
предоставляет герою свободу выбора. «Лорензаччо» — трагедия романтического антропоцентризма, все в
этой пьесе подчинено герою и служит его самораскрытию. Бюхнер тяготеет к драматической хронике, его
герой, осознавший обреченность и лишенный свободы выбора, отступает перед всесильным ходом
исторических событий. Сами названия пьес с этой точки зрения весьма выразительны «Лорензаччо» и
«Смерть Дантона». Мюссе рисует трагическое, но свободное самоосуществление Лорензаччо. Бюхнер
делает самого стихийного героя французской революции несвободным, прибавляет к названию драмы слово
«смерть», и это название становится хроникальной констатацией свершившегося факта. Закон истории
выступает у Бюхнера как предел человеческих возможностей.
Даже Гюго в одной из своих поздних драм совершает своеобразный отход от романтического
антропоцентризма, рисует силы более могущественные, нежели самоосуществляющийся героический
индивид.
В своей последней драме «Бурпрафы» Гюго, по сути, делает место действия — старую крепость на берегу
Рейна — главным героем драмы, живущим своей мрачной и загадочной жизнью. Эта крепость наполнена
духами, зловещими черными птицами, она источена в своем основании подземными лабиринтами и
отпугивает разрушающимися, заброшенными башнями.
Это страшное место обладает загадочной силой. До самого финала драмы кажется, что многовековая распря
бургграфов (германских феодалов) и императора Фридриха Барбароссы, олицетворяющего народную волю
и единство Германии, бесконечная чреда злодейских убийств, соткавшая вокруг замка атмосферу,
истребляющую все живое, никогда не завершится. Отберт, младший сын хозяина замка, чтобы спасти
24
возлюбленную Регану, обречен судьбой и многовековой распрей на отцеубийство, И только волшебное
вмешательство воскресшего Фридриха Барбароссы, по существу, «замкового призрака», полагает предел
затянувшейся феодальной войне.
Замок бургграфов — главный герой драмы и одновременно место действия — символ старой и новой
Германии, место обитания легендарных могучих героев и их измельчавших потомков. Культ прошлого и его
великих свершений - один из основных мотивов этой драмы. С другой стороны, этот замок с его
устрашающей атмосферой, своей неподвижной каменной дланью вершащий судьбы героев, возникнет вновь
у драматурга-символиста Метерлинка, начавшего свою творческую деятельность десятилетие спустя после
смерти Гюго.
Два главных внешних события для самосознания романтического стиля таковы: это Французская революция
(или, точнее, революции, потрясавшие французское общество долгие годы) и немецкая «философская
революция». Кант, Гегель, Фихте были старшими современниками писателей-романтиков. Заложенные
этими философами идеи о единстве законов, управляющих мировым развитием, пафос созидания гранди-
озного и величественного мира в сфере духа, мира, превосходящего пестрой толпой возможностей все
воплощения реальной действительности, стремление учесть первородный хаос в стройном и системном
философском мировоззрении — все эти универсальные построения отнюдь не были удалены от
художественной практики.
Романтики признают главенство замысла над воплощением, бесконечности целого над четкостью и
очерченностью конкретного, объем и масштаб любого художественного образа, реализованного в искусстве,
увеличивается за счет невоплощенных, неопредмеченных духовных сущностей, томящихся за гранью
реального бытия. Любимая романтиками идея бесконечного развития, бесчисленности духовных вопло-

щений, нередко вырастающих из побочных ветвей прошлого, входила в противоречие с христианством,
понимавшим историю как линейный процесс, имеющий необратимый характер, начало и завершение. Имен-
но необратимость реальных процессов, протекающих в материальной действительности, вступала в
неизбывное противоречие с абсолютной духовной свободой, в лоне которой равноправны и равноценны
любые возможности. Кризис романтического миросознания и романтического индивидуализма во многом
воспроизводит кризис ренессансного гуманизма. С продвижением стиля во времени все меньше
возможностей обретает реальное бытие и все больше их томиться в духовной сфере. Кризис романтического
мировоззрения оставляет художникам два пути:
25
первый из них — гармонизация отношений возможного и воплощенного, изображения и объекта
изображения, «предмета» и «тени». То, что потом ляжет в основу понятия реализм, и есть этот путь,
основной смысл которого сформулировал Новалис: «Я так близок к полудню, что тени, отбрасываемые
предметами, стали по величине равны самим предметам, и, таким образом, творения моей фантазии
соответствуют действительному миру» (письмо к Каролине от 27 февраля 1799 года). Второй путь — все
большая герметизация духовной сферы, все более решительное разведение реальной жизни и духовной
действительности. И хотя крупнейшие художники романтизма и обнаруживают в материальном мире
отверстия, в которые мог бы ворваться фантастический карнавал потустороннего, все
индивидуалистические варианты сотворения мира, тем не менее, именно этот путь для большинства
мыслителей оказывался дорогой к безумию, самоубийству, ранней смерти. Трагедия истинно
романтического духа в непереносимости герметичного состояния. Символизм, художественное направление
конца XIX века, унаследовавшее основополагающие идеи романтизма, находит пути и возможности при-
мирения с этой герметичностью духовной свободы, не только не лишая ценности, но и подчас
преувеличивая значение того, что невоплотимо, не может обрести реального бытия.
О том, что такое индивидуальность для романтизма, красноречиво свидетельствует репертуар трагиков и
трагических актрис. Предпочтение отдается характерам сложным, сильным, нередко вполне злодейским.
Таких героев играли и Кин, и Леметр, и Девриент. В творчестве каждого из этих трагиков проявлялись и
национальные особенности романтического стиля. Леметр двусмысленность индивидуалистической морали
переводит в комический регистр (Робер Макер), Девриент тяготеет к изображению иррациональной,
потусторонней природы зла.
Однако для всех актеров-романтиков, в большей или меньшей степени характерно дополнение образа героя
до некоего душераздирающе противоречивого, но универсального целого.
Два немецких актера, предромантик Флекк и романтик Девриент, как бы заново проигрывают историю
гуманизма, проходящего путь от почти благостного восхищения героической личностью к крушению
гуманистического идеала.
В одних и тех же пьесах Флекк играет добродетельных героев, а Девриент — демонических злодеев.
Духовный мир человека, его микрокосм был сравним по масштабам с вселенной: флекковские герои
поражали титанизмом, «сверхчеловечностью», гипнотической мощью целого, когда персонаж не приближен
и разработан в мельчайших деталях, а вознесен и обобщен скульптурной монументальностью.
Предромантик Флекк еще не тяготел к демонстрации противоречивости, буквально раздирающей душу
героя, а скорее высекал цельный, монолитный образ, чьи скупые
26
черты поражали своим величием. Его герои еще крепко стояли на земле, несмотря на бушующие в их душах
страсти (хотя краски этих страстей наносились актером с величайшим неистовством и огромными психо-
физическими затратами: был и зубовный скрежет, и вопли, и рыдания, и леденящие душу крики,
патетическая пластика, не было, быть может, только злодейского сардонического хохота, поскольку
исполняемые герои, как правило, бывали благородны и чисты). Флекк играл у Шекспира короля Лира,
Макбета, Отелло и Шейлока, в драмах Шиллера — Фиеско, Фердинанда, Валленштейна, Карла Моора.
Основным полем действия Девриента стали демонические натуры, которые не обрели своего места в
реальном мире, не «воплотились», и потому их снедает страшная, разрушительная «энергия злобы». Злодеи
Девриента никогда не были скучными и пошлыми прагматиками, творящими зло только из тривиальной
корысти. Они мстили миру за недовоплощенность. Девриент поражал современников степенью затрат своей
личности на сцене. Жизнь артиста в буквальном смысле сжималась, как «шагреневая кожа» из произведения
Бальзака с рождением каждого нового сценического персонажа. Получив роль, Девриент словно бы
переставал быть самим собой, происходил процесс, определенный самим артистом как «вживание», когда
мысли, душа, тело, сердце героя, его облик в буквальном смысле воплощались, обретали материальное
существование.
Забавой и большим удовольствием для друзей Девриента были его показы в трактире «того замечательного
парня», созданием которого он был занят в данный момент. Иллюзия жизни, представавшая в творчестве
Девриента, совсем не была жизнеподобием, актер умел сделать живым, представить во плоти и крови то, что
не может существовать в обыденной жизни, ему был дан редкий талант оживлять творения самой
безудержной фантазии, образы причудливые и гротескные, ночные видения замутненного рассудка. Однако
плата артиста за оживление тех духовных возможностей, которым нет места в реальной действительности,
была исключительно высока. Соревнование художника с Творцом во все эпохи было опасным: по

воспоминаниям Рихарда Вагнера, Девриент, после исполнения крупной роли, страдал полным
расстройством душевных и физических сил. (Когда он играл короля Лира, то в течение всего антракта
пребывал в обморочном состоянии.) О степени вживания Девриента в свои образы говорят и изменения его
внешности, описанные современниками, отразившиеся в гравюрах того времени. Актер, отнюдь не
обладавший благостной внешностью, имевший резкие характерные черты, длинный, заостренный, кривой
нос, острый подбородок, глубоко сидящие глаза, несколько отвислые щеки, умел лепить из этой фактуры
любые физиономии, от адски зловещих до ангельски прекрасных, благодаря редкой подвижности лицевых
мышц. Его король Лир —
27
благородный романтический герой (на гравюре неизвестный художник изобразил благообразного старца),
чей взор затуманен мучительным переживанием мировой несправедливости, его лицевые мышцы спокойны,
лишь во взоре светится безумие. В этом короле Лире совершенно невозможно узнать того актера, который
изображен сидящим вместе с Э. Т. А. Гофманом в трактире: выразительный в энергичной резкости профиль,
«сходящиеся» нос и подбородок. К другим трансформациям можно отнести его Фальстафа: худой и
угловатый Девриент запечатлен на гравюре необъятным толстяком, с лицом круглым и мясистым.
Девриент был приглашен на сцену Берлинского национального театра его руководителем Иффландом. Это
произошло в 1815 году, то есть полтора десятилетия спустя после смерти Флекка. Постаревший Ифф-ланд,
незадолго до собственной смерти, обрел замену своему любимцу. (Любопытно, что Иффланд,
придерживавшийся умеренных просветительских взглядов на театральное искусство, определенно питал
слабость к романтическим трагикам. А ведь при этом обладал совершенно иной творческой
индивидуальностью. Может быть, он видел в них знамение времени, отражение его эмоциональных
«перегрузок».)
На сцене Берлинского театра Девриент дебютировал ролью Франца Моора. Символично, что двух братьев
Моор сыграли на одной и той же сцене два великих трагика романтизма: Флекк — благородно-
демонического Карла, Девриент — злодея Франца. Немецкая сценическая традиция исполнения Франца
Моора была разрушена Девриентом, не пожелавшим играть заурядного мелочного негодяя. Лицо Франца
было красиво и благопристойно, только одна, найденная мимическая деталь выдавала его натуру:
«дьявольская улыбка», неожиданно завладевавшая добродушным ртом. Именно через эту улыбку, улыбку
существа из потустороннего, «не солнечного» мира заявляла о себе в полный голос «страшная энергия
злобы», маскирующаяся в «лицемерное смирение».
Творческая история французского актера-романтика Леметра прочитывается через отношения
романтической драмы со сценой, которую оккупировала мелодрама. Актер начинает свой творческий путь
именно с мелодрамы. Его первые роли не выходят за пределы возможностей жанра. Великим актером он
становится в тот момент, когда видоизменяет традиционный канон изображения мелодраматического
злодея, разрушая его изнутри эстетикой пародии (Робер Макер). Злодей Робер Макер, циничный убийца и
беглый преступник, аферист и хитрый интриган, видимо, и в пьесе Антье уже выглядел не вполне злодеем,
уже не мог испугать всерьез. Леметр совершил следующий шаг и сделал его смешным. И в этом образе во
всей наготе предстала двусмысленность индивидуалистической морали. Публика то смеялась, то
негодовала, а то и откровенно сочувствовала герою, который, если смотреть на него с позиций всех
предшествующих эпох в развитии театра, вообще не достоин
28
внимания искусства, и, в лучшем случае, в несколько облагороженном виде, мог быть только осужден.
Робера 'Макера, этого одновременно ужасного и смешного циника увековечил художник Домье в своем ци-
кле литографий «Сто один Робер Макер». Робер Макер не запугивал публику рычанием и демоническими
взорами, наоборот, его мошеннические проделки вызывали неудержимый хохот. Сам внешний вид его был
упоительно смешон: драный сюртук, явно слишком маленького размера, дырявый цилиндр (который, когда
его пытались привесить на трость, немедленно падал на пол), будто бы белые аристократические перчатки и
монокль в глазу. Эта фигура неизменно вызывала соответствующую реакцию своей претензией на
светскость. Но не только внешние эффекты (хотя их было предостаточно) сделали Робера Макера в
исполнении Леметра любимцем публики. Богатая гамма эмоциональных оттенков в одной пародийной
тональности, легкость, стремительность переходов от драматизма к комизму, умение удерживать
зрительский интерес любыми средствами: нутром, внешними комическими приемами, проявлениями гения,
фиглярством ремесленника, тонкими наблюдениями и, наконец, грубыми фарсовыми шутками, — все эти
особенности дарования Фредерика-Леметра сделали его ведущим актером своей эпохи.
Кажется, никто из актеров первой половины XIX века не был столь разнообразен в своих сценических
опытах, как Леметр, игравший во всех возможных драматургических жанрах: в романтической трагедии,
драме, мелодраме, комедии, пантомиме, водевиле. Обучение основам классицистской актерской техники у
напыщенного, самовлюбленного и бездарного Пьера Лафона отбило у Леметра тягу к традиционализму.
Играя, он почти не пользовался внешними, выработанными культурой классицизма, стилистическими
формулами: скульптурной пластикой, балетным изяществом, изысканными правилами декламации. От всех
этих опор предыдущих столетий он отказался. Творческая судьба Леметра — освобождение от канонов и
предустановленных формул актерского искусства.
В сущности, он и не мог ими воспользоваться, не имея права, как актер бульварных театров, играть Расина,

Корнеля, Мольера (это была привилегия Комеди Франсез).
Отказ пользоваться сценическими приемами классицизма, генерализующим образным строем этого стиля
был не только продиктован внутренними устремлениями, он был также вынужденным.
Зато Леметр первым ощутил и воплотил те требования, которые выдвинули драматурги его времени. Ни
высокая романтическая драма, ни мелодрама не выдержали бы испытания на сцене в лучах рационально
выверенной классицистской красоты. Фредерик-Леметр, славившийся репутацией бунтовщика, артиста с
неуживчивым нравом, играл на всех парижских сценах, а когда директора столичных театров устроили ему
29
бойкот, отправился в провинцию. В 1828 году он играет Мефистофеля в переделке гетевского Фауста,
выполненной драматургами Мерлем и Беро. Поскольку гетевский текст был существенно изменен, и, ве-
роятно, не в лучшую сторону, роль Леметра состояла из пантомимы и раскатов сардонического хохота.
Актер исполнял также в качестве вставного номера «адский танец», неизменно вызывавший бурную ре-
акцию в зале. Этот хохочущий Мефистофель положил начало длинной веренице таких же хохочущих
дьяволов, протанцевавших свои адские танцы на театральных подмостках в течение всего XIX века. И,
наконец, именно после Мефистофеля Фредерик-Леметр стал считаться врагом номер один классицистской
традиции актерского исполнения, отводившей пантомиме всегда второе место вслед за декламацией. В 1830
году, после свержения последнего Бурбона Карла X и с возобновлением бонапартистских общественных
настроений, Леметр окунулся в политическую проблематику и, естественно, сыграл Наполеона в
монументальной драме Дюма «Наполеон Бонапарт или тридцать лет истории Франции».
Патриотический подъем публики имел самые эксцентричные проявления. Под впечатлением увиденного
зрители систематически осыпали проклятиями актера, игравшего тюремщика Наполеона, губернатора
острова Св. Елены — Гудсона Лоу, и однажды дело дошло до того, что несчастного актера с криками: «Да
здравствует император!» — вынесли из театра и бросили в бассейн. Театральная публика тогда еще просто-
душнейшим образом отождествляла персонажа с исполнителем. Нередко и сам исполнитель своим образом
жизни весьма способствовал этому. Наполеон Леметра родился в раскаленной общественной атмосфере. Ак-
тер справился с весьма непростой задачей: сыграл молодого лейтенанта, затем императора и, наконец,
изгнанника, показал эпического героя в течение 30 лет жизни. Наполеон Александра Дюма был невероятно
далек от полководцев и героев классицистских трагедий. Во сколько же раз сжималось время действия (30
лет), чтобы уместиться в реальное время спектакля!
Если в эпоху классицизма и Просвещения драма оставалась главенствующим литературным жанром, то к
середине XIX века ведущим жанром становится роман, в котором жизнь персонажа продлевается от юности
до старости. Сцена классицизма не ведала возрастных изменений, актеру романтической эпохи необходимо
было впервые найти средства для их сценического воплощения. Именно романтическая литература
предложила сцене показать «историю» героя и сильно усложнить отношения реального и сценического
времен. Романтики с особой агрессивностью динамизировали и пространственные, и временные параметры
сценического действия. А главное — абсолютизировали значение сценического события.
30
В 1831 году список злодеев, созданных Фредериком-Леметром пополнился Ричардом Дарлингтоном из
одноименной пьесы Дюма и Дино. Ричард Дарлингтон, злодей из современной жизни, был окрашен дра-
матургами совершенно черной краской. Леметр был увлечен анатомией честолюбия, тем более, что в этой
пьесе оно представало всепоглощающей страстью (современная драма этого типа в какой-то мере унаследо-
вала мольеровский принцип типизации). В черном спектре абсолютных и законченных негодяев Леметра
Дарлингтон занял одно из первых мест. Вскоре после Ричарда Дарлингтона Леметр вновь возвращается к
Роберу Макеру. Он пишет продолжение «Постоялого двора Андре» — пьесу «Робер Макер» в соавторстве с
четырьмя драматургами: Антье, Сент-Аманом, Оверне, Алуа. Это соавторство многочисленных мелких
писателей только подчеркивает тот факт, что истинным автором постановки в полной мере уже выступает
сам актер.
Воскресший мошенник пробирается в высокие финансовые сферы и организует «общество страхования
против воровства», где виртуозно обирает акционеров. (Домье изображает Робера Макера статуей перед
зданием биржи.) После многочисленных авантюр Макер и его сообщник под носом у изумленных
жандармов садятся в воздушный шар и улетают ввысь, оставляя зрителя в уверенности, что их деятельность
будет продолжена. Этот Робер Макер — чуть ли не единственный злодей первой половины XIX века,
который избежал возмездия. Леметр позволил себе смелый шаг, выпустив на сценические подмостки
бессмертного мошенника.
Никто из его современников себе такого не позволял. Тем временем, в сознании зрителя произошла важная
подмена: Макер стал восприниматься бунтовщиком и ниспровергателем основ, тень великого актера
отчасти заслонила бездушного афериста. (Мошенничество было «эстетизировано», приобрело обаятельный,
артистичный облик.) А поскольку этот спектакль еще и пародировал то крайности романтической драмы, то
мелодраму, то классицистскую трагедию, он окончательно погубил актерскую репутацию Леметра. В
сознании зрителя смешались гений и беспутство, герой и актер. Вскоре А. Дюма, видевший в Леметре, как и
большинство современников, взрывчатую смесь благородных качеств и живописных недостатков, написал
для него пьесу «Кии, Беспутство или Гениальность». В этой роли актер мог, с одной стороны, сыграть себя
самого, раствориться в лирических излияниях, а с другой, использовать весь диапазон своих широких

возможностей: с изяществом вести светские беседы, пьянствовать, безумствовать, произносить пламенные
речи и любовные признания.
Несмотря на постоянный успех спектаклей с участием Леметра, коммерческие помыслы театральных
директоров вынуждали его гастролировать и очень часто менять сценические площадки. В 1840 году
31
Т. Готье, ярый приверженец романтического стиля, с горечью вопрошал: «Как могло случиться, что три
величайших актера современности, Фре-дерик-Леметр, Бокаж и мадам Дорваль — не заняты ни в чем новом
и проводят свои самые прекрасные годы, разъезжая по провинции?» Знаменитый же парижский
театральный директор Арель в ответ на подобные вопросы выпускал на сцену Порт-Сен-Мартен более
доходных слонов, собак и «музыкальных зайцев».
Приверженцы романтизма сделали попытку открыть театр романтической драмы. Так появился на свет в
1840 году театр «Ренессанс». Он открылся премьерой пьесы Гюго «Рюи Блаз». Эта сравнительно поздняя
пьеса Гюго была написана драматургом как бы с последней надеждой переломить свой век, изменить ход
событий театральной жизни, вернуть сделавшееся сугубо развлекательным искусство в лоно высокой
романтической литературы. Все невозможные контрасты романтизма были доведены здесь до своего
логического конца.
Романтическая драма не знала доселе подобного гиперболизма социальных контрастов (поэт заставляет
королеву полюбить лакея). Воплотить на сцене героя, подобного Рюи Блазу, бесспорно было по силам лишь
Фредерику-Леметру, только он мог найти внутренние оправдания совершенно невероятным с точки зрения
здравого смысла коллизиям. Характерно, что после Леметра за такую роль долго не решался взяться ни один
актер.
В 40-е же годы Леметр лишается своих основных драматургов (их пьесы больше не ставят театры), «Рюи
Блаз» стал его последней встречей с Гюго. Все мечты сыграть когда-нибудь Мольера разбиваются в прах
монополией Комеди Франсез. Нежелание театров в 40-е годы обращаться к романтической драме обрекало
Леметра на возвращение к тому, с чего он начинал, — к мелодраме. Невозможность создания
исключительных характеров, которую породила идея равенства в соединении с буржуазным
здравомыслием, вынудила Леметра на склоне лет выдвинуть лозунг «Epatez les bourgeoisl» (Эпатируйте
буржуа!). Больше ему ничего не оставалось.
Дон Сезар де Базан из одноименной пьесы Дюмануара и Деннери и парижский тряпичник из мелодрамы Ф.
Пиа, с их горделивой и демонстративной бедностью, действительно эпатировали публику циничными
шутками самого непристойного свойства.
Именно эти герои, сочетавшие живописные пороки с кристально чистой добродетелью, способной вызвать
слезы умиления, стали последними героями романтической эпохи.
Такова характерная история романтического актера. В определенный момент, став автором своих
спектаклей и ролей (которые, собственно, и были главным художественным и идеологическим центром этих
спектаклей) он постепенно, к 40-м годам XIX века уступает свои позиции
32
другой силе. Та трескучая мелодрама, которая его поначалу прославила, которую он преобразовал и над
которой сумел возвыситься, к концу его творческого пути вновь воцарилась над ним. И вновь стала
диктовать свои «каноны» и «правила», законодательствовать не столько в сфере литературы, сколько
именно на сценических подмостках. Обширный слой хорошо сделанных пьес и мелодрам на долгий срок
формирует особую эстетику: такой тип театра уже перестает быть актерским (в романтическом смысле), еще
не является режиссерским. В то же время, это уже и не театр автора, поскольку писание пьес нередко
превращается в «поточное» производство коллектива авторов средней руки. Авторы становятся
«поставщиками».
Глава 2
Колба с гомункулом
1. Актер. Имидж. Скандал
К середине XIX столетия исчерпанность средств лирического театра романтизма приведет к тому, что
титаническая, универсальная личность актера-творца не сможет больше удерживать целостность спектакля,
быть мерилом всех вещей и душой многосложного и многосоставного сценического организма.
Более того, явный, подчас простодушный индивидуализм трагиков a la Кин начнет наталкиваться на
осуждение и неприятие публики, уставшей от революционных бурь и ниспровержения основ. (Особенное
отторжение будут вызывать характеры, не живущие своей сложностью внутри себя, а агрессивно
навязывающие их вовне.) Общество середины XIX века уже не приемлет онтологического противостояния
человека и мира, «глобальные» конфликты в чистом виде, а стремится преодолеть их с помощью
позитивистского рационализма, идей прогресса и медленного, поступательного усовершенствования
человеческой природы. Как и в эпоху Просвещения, идеал вновь становится не индивидуальной, а, скорее,
общественной принадлежностью. И обрести его в «личное» владение, получить право на его утверждение к
концу столетия в театре смог лишь режиссер.
К концу XIX века, с одной стороны, в сценической образности усиливаются классицизирующие элементы, а
с другой стороны, драматизация жизни приобретает оттенок симуляции и имитации. «Образ жизни» или,

иначе говоря, «имидж» заменяет актерам романтического склада внешние общекультурные силы
стилеобразования. Актеры теряют непосредственность, взирают на своих героев сверху вниз, выступают их
комментаторами, готовят публику к «эффектам», постоянно выглядывают из-за «четвертой стены».
Соответствующая драматургия — «хорошо сделанные пьесы» — способствует подобной иллюстративности.
Чуть ли не единственным структурообразующим элементом театров такого типа становится система амплуа,
и жесткая, со своими законами жанровая система, поддерживаемая драматургами.
Скандал становится средством создания звезд и работает на «имидж». Сара Бернар отнюдь не была первой
актрисой в истории театра, убежденной в решающем значении «рекламы», но она была совершенно
34
уникальна в умении прожить всю жизнь в расчете на эффект. Согласно ходившим легендам, Сара спала в
настоящем гробу и летала на воздушном шаре. Даже внешние данные актрисы стали поводом для бурных
дискуссий. Сара умело разрушила вековые представления о женской красоте. Она была первой по-
настоящему худой актрисой. И на нее как из рога изобилия сыпались едкие эпиграммы и карикатуры, а
портрет Сары Бернар с собакой кто-то злобно озаглавил «Собака и ее кость».
Но, несмотря на удивительную скандальность самой личности Сары, на спектаклях с ее участием зрители,
как правило, вели себя вполне буржуазно. И только знаменитое переодевание уже немолодой актрисы в
романтических юных «меланхоликов», Гамлета и Орленка, смогло всерьез шокировать публику.
Расчетливый эпатаж актеров-индивидуалистов романтического склада привел в конце века к легкому
истощению этой некогда обильной и плодородной почвы — почвы скандалов. Но главное, зрители уже
больше не смешивали наивно героя и актера, не пытались увидеть в самой личности исполнителя того, что
являлось им на сцене. Для ранне-романтических времен было весьма характерно перенесение совокупности
личностных качеств персонажа на исполнителя: и Кин (не чуждый, впрочем, таких внешних эффектов, как
катание на лодке в обществе львов), и Леметр, и Девриент, и Мочалов определяли «вживание» в образ почти
как процесс органический. Но к концу века риторика и искусство то и дело брали верх над органикой, чему,
парадоксальным образом, не в малой степени способствовала скандализация актерского имиджа.
(Настоящие художники романтического типа были скандалистами поневоле, в их поведении было немного
расчета. Скажем Г. Клейст, с его дикими странствиями, в результате которых он то оказывался во фран-
цузской тюрьме в качестве шпиона, то в психиатрической лечебнице в качестве пациента, его мания
самоубийства вдвоем, попытки убить ненавистного Наполеона, а также превзойти на драматургическом
поприще всех предшественников, желания, загонявшие его ввиду непосильное™ исполнения в тягчайшие
состояния, — все эти проявления мятущегося духа отнюдь не были «искусством», ставкой на успех, столь
странные действия, наоборот, как раз успеху-то и не способствовали.)
Герой и героическое действие — как мы помним — основная романтическая тема. Идеальный «героем»
французского романтизма, в конечном счете, стал Наполеон, идеальными героями немецкого романтизма —
принц Гомбургский Г. Клейста и Дантон Бюхнера.
Героическая тема, уживавшаяся с мелодрамой, размягчилась и ослабела под натиском идеи «имиджа».
Актерский по преимуществу, театр первой половины XIX века с кризисом романтизма постепенно приходит
в упадок, поддерживается немногими гениальными актерскими индивидуальностями. Утвердившееся на
антитезе классицистской традиции,
35
актерское искусство романтизма опиралось на индивидуальную выразительность, предстающую в
масштабных, героических формах. Выражением этой тенденции движения от нормативности к творческой
свободе самоутверждающегося романтического духа и явился образ «беспутного гения». Различия между
актерами «романтического» типа первой и второй половины XIX века — кардинальны. Все больше
усиливается «обаяние искусственности». (Хотя, естественно, еще и речи нет ни о каких «открытиях
приемов», иронических обнажениях театральных условностей.) Иллюзия по-прежнему всеобязательна и
неприкосновенна, трагики всерьез взыскуют искренности сопереживания. Тем временем условность, а
порой и техничная холодность «представления», становится очевидной для все большей части публики. К
концу века уже сама романтическая исповедальность перестала занимать зрителя и волновать, как прежде.
Достижения науки и позитивистской философии, сам практицистский дух эпохи положили конец
своеобразному романтическому «эгоцентризму», который к 70-м годам XIX века стал восприниматься как
дурное воспитание или даже как душевная болезнь. Актерам романтического склада пришлось
существовать в рамках умеренной респектабельности. Два таких близких по типу дарования артиста, как
Эдмунд Кин и Генри Ирвинг в то же время решительно различаются, и дело тут не только в чисто
индивидуальных отличиях: У Ирвинга безудержная страстность «романтического» темперамента
ослабляется налетом сентиментальности, в то же время, обогащаясь обилием нюансов; усиливается
дидактическое начало, постановочный процесс рационализируется. Мир спектаклей таких актеров, как
Ирвинг или Моисеи становится конкретной, осязаемой средой, которой герой может быть и противостоит,
но одновременно является ее частью, порождением. С другой стороны, эта среда — хоть и иллюзорная, но в
той или иной степени объективированная реальность. И этот герой уже слишком слаб, слаб неотразимо-
обаятельной слабостью перед давлением внешнего мира. Импульс, данный великими трагиками
романтической эпохи (которые, в свою очередь, отталкивались от нормативной эстетики классицизма), к 90-
м годам XIX века почти иссякает. И если великие театральные произведения романтизма строились вокруг
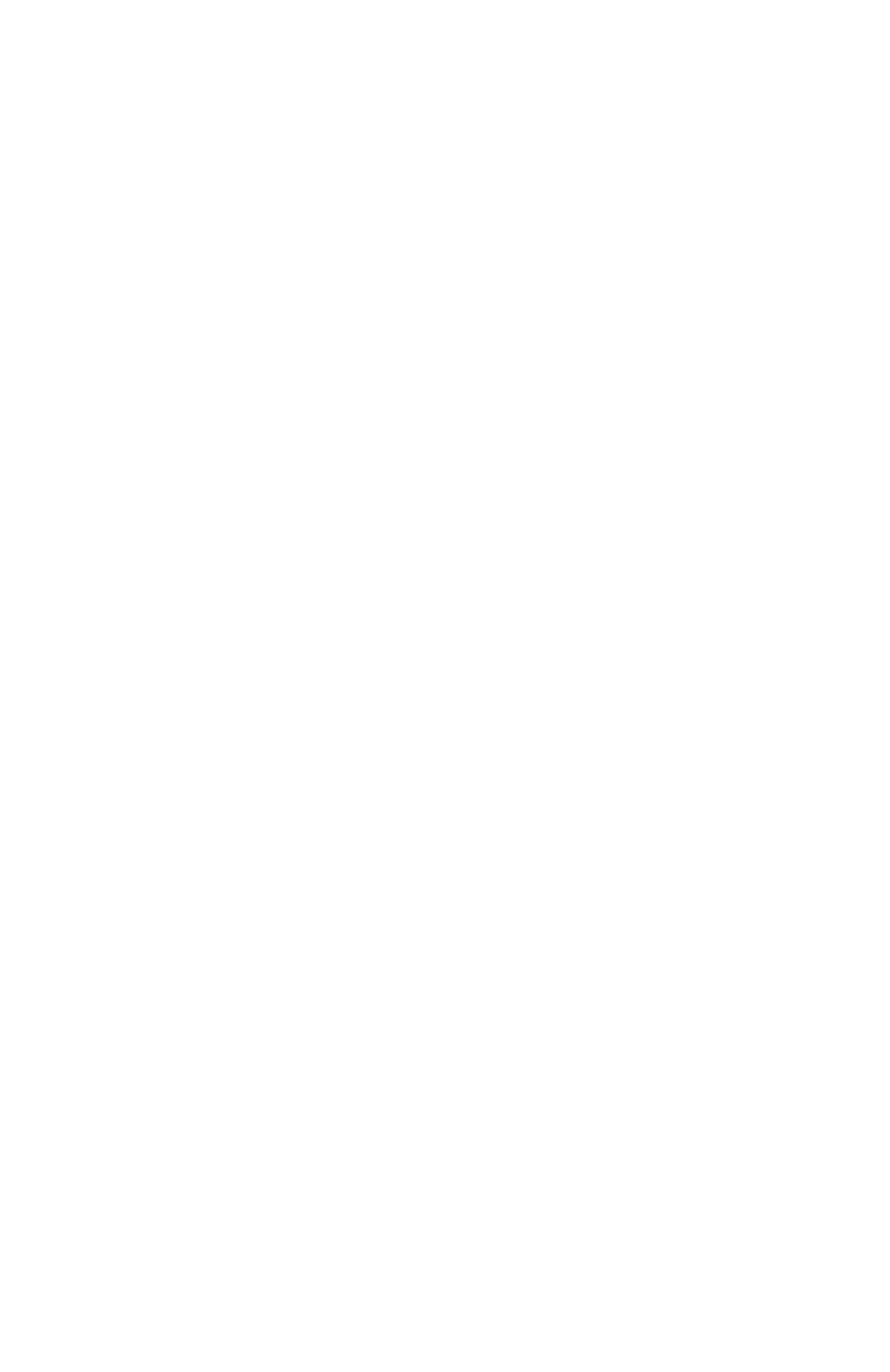
одной, ведущей актерской индивидуальности, собиравшей разрозненные элементы постановки в единое
целое, то к концу века резко усиливаются центробежные тенденции. (Весьма знаменателен тот факт, что
крупные актеры конца XIX века делали попытки объединиться с режиссерами, однако эти объединения не
всегда оказывались прочны и обрывались очень драматично).
36
2. Субъект-миротворец
В произведениях Вагнера поздний романтизм XIX века вернул себе угасавшую было мощь. Вагнеру удалось
перевести мифотворчество на уровень индивидуальной творческой задачи. Мифотворцем отныне
становится субъект, а не коллектив. Причем угрожающе титанический размах этого мифотворчества
(театрализация мифа) особенно любопытен с точки зрения генезиса режиссерского театра И хотя сам
Вагнер, разумеется, все же не был режиссером, тем не менее, его грандиозно-субъективное мифотворчество
сыграло в процессе становление режиссуры не последнюю роль. Соблазны и опасности ситуации, когда
такое надиндивидуальное, отрицающее всяческий субъективизм, и потому обладающее особой силой
воздействия на зрителей явление как миф получает конкретного автора, тогда еще не были осознаны в
полной мере.
Особенности позднего романтизма Вагнера таковы: сюжет не лиричен, а эпичен при сохранении и даже,
можно сказать, усилении «романтического томления» (по сути, всегда имевшего в своей основе
субъективную эмоциональность).
Вагнер утверждает по-своему понятый театроцентристский тип культуры. А его самым сильным
оппонентом по этому пункту теории музыкального искусства становится Дебюсси. Юный Дебюсси был
более чем трепетным вагнерианцем, но позже он почему-то заявляет о том, что «Карфаген должен быть
разрушен». Его не устраивает избыточный театрсцентризм Вагнера, намертво связывающий музыку с
видением, с визуальной образностью сцены. А также тот факт, что у Вагнера, как ему кажется, искусство —
религия, роскошь и суета одновременно. Система, системное мышление, претензии на абсолютную
универсальность представляются ему родом обмана. Дебюсси непрестанно называет Вагнера колдуном,
Клингзором и упрекает в недостатке человечности. (То же не устраивает философов начала XX века в
Гегеле.) Двусмысленностью он считает и проведение идеологии через мифологию. Чем сложнее или, можно
сказать, синтетичнее тот тип искусства, к которому стремится художник описываемого времени, тем в
меньшей степени он прибегает к натуралистической терминологии и идеологии. Демократический пафос
раннего, настоящего романтизма (когда при всем конфликте с миром художник жаждет быть для этого мира
доступным) абсолютно не свойствен символизму, и особенно художникам, тяготеющим к синтезу. Вагнер
последний, кто хотел быть романтическим художником, что называется, для народа, испытывал потребность
в крупной форме, большой сцене и т. д. Художественное мышление Дебюсси было уже сугубо
недемократическим, но и одновременно небуржуазным. (Скорее, это похоже на стоическое ощущение
обреченности какого бы то ни было рафинированного искусства в исторической перспективе.)
37
3. Освобожденное движение
Многочисленные теории о синтетическом искусстве — конечно, и не в последнюю очередь отражение тех
реформ, которые происходили в самых синтетических видах искусства: балете и опере.
Рождение современного танца в более ускоренном темпе напоминает рождение режиссерского театра.
Возникают танцовщицы-одиночки Дункан, Фуллер, Сен-Дени, гастролирующие, как и актеры романти-
ческого склада. Затем, то есть фактически одновременно, рождается коллективный танец Далькроза, чуть
позже Мария Рамберт, Нижин-ский, Стравинский ставят «Весну священную», и факт рождения балета
модерн, свободного танца уже налицо.
Дебюсси и Нижинский в двух дягилевских балетах - «Фавне» и «Играх» — продемонстрировали, насколько
может стать «размытой» метрическая структура классического балета (каким он сложился в романтическую
эпоху).
Далькроз с его школой повлиял на рождение новых пластических форм. Танец высвободился от «драмы»,
литературности и нарративности, которые были характерны для позднеромантического балета. К тому же
эти новые формы «свободного» танца отрицали всякую внешнюю силу стилеобразования,
традиционалистские формулы, открывали пути индивидуалистического формотворчества в области
движения. Пластическая образность отрывалась от корней старых школ и отдавалась на волю по-
становщика. В то же время, все родоначальники танцевального модерна, убоявшись хаоса субъективизма,
стремились обосновать объективность законов нового вида творчества и даже, скажем, в случае Айседоры
Дункан обратились к архаическим, античным стилевым формулам. Ан-тикизация свободного танца, туники,
движения и позы, скопированные с греческой вазописи, соответствующая обстановка с лестницами и бело-
снежными колоннадами — все эти средства служили не столько неоромантическому оживлению духа
далекой культуры, сколько своеобразной объективации субъективного, облечению нового индивидуального
видения в узнаваемые и глубоко чтимые в культуре «одеяния».
4. Два <Я> романтизма
и дальнейшая судьба этой идеи
Один из важнейших конфликтов эпохи — конфликт варварство-эстетизм — можно увидеть и в

произведениях философов, и у литераторов, и у деятелей театра, в особенности у тех, на кого оказал влияние
Ницше.-Впрочем, и этот конфликт имеет романтические корни. Ницше, с его идеей жертвенного заклания
сложного искусства ради простого,
38
но жизненного, невольно вступает в перекличку с романтизмом. Он противопоставляет культуру, которая,
по его мнению, стала служанкой цивилизации, жизни как таковой.
Ницше и Шпенглер предлагают свое, но во многом наследующее йенским романтикам понимание культуры
и искусства.
Романтический художник был погружен в стихийную игру постоянной подмены субъективного
объективным и наоборот. Основа для этой игры — в первую очередь фантазия художника, который в то же
время, как полагал Новалис, общается с неким высшим *Я», объективированным и универсальным
воплощением субъективности. Этим воззрениям близки и идеи Гофмана о том, что творчество — выход в
иную реальность, реальность встречи двух «Я»: высшего, абсолютного, и обыденного, житейского. Ницше,
со своей стороны, изничтожив низшее «я», по сути дела, «отрывает голову» у объективного, высшего «Я»
романтизма. Ведь истинно романтический энтузиаст вполне может быть робким неудачником в обыденной
реальности, и даже, скорее всего, таким и является. Ему недоступна «цельность» Заратустры.
Романтическое расщепление «Я» усложняется за счет другой оппозиции — «я» и «мир». Романтический
герой свободно и бессознательно ставит себе препятствие в мире, необходимое для самоопределения и обо-
значения границ с этим миром. Поэтому, скажем, у Фихте творческий акт — победа над собой в
преодолении свободно избранного препятствия. Само противоречие (человек—мир) — то болезненное
состояние, которое романтический герой должен преодолеть. Элемент подобного долженствования в
романтизме очень силен. А О. Шпенглер полагает, что человеческий страх перед миром и не следует
преодолевать, потому что это невозможно. Зато этот самый страх — лучший стимул к творчеству и
созиданию. Так акцент несколько смещается. От чисто романтического «творить и преодолевать
одновременно» художник Шпенглера приходит к тому, что сначала боится, затем осознает свой страх, а
затем творит. И творчество становится плодом страха смерти, а не игры и борьбы. Такие метаморфозы
претерпели на рубеже веков важнейшие составляющие романтического мировоззрения, послужив желанию
некоторых мыслителей взорвать ту спокойную рассудительность, к которой, как только угас
революционный пыл романтизма, склонилось искусство.
Критика позитивистской рассудочности есть у многих художников-символистов, в том числе, естественно, и
из стана «вагнерианцев», но они не видят в Зигфриде звероподобного сверхчеловека. И даже сознают
тревожащую странность такой крайности. Видят опасность возвышения героя, действующего
«бессознательно», повинующегося порывам, избавленного от тормозов ставшей в конце XIX века тонкой и
дифферренцированно-сложной, а иной раз и болезненно избыточной и оторванной от реальности
рефлексии.
39
В связи с этим делаются попытки эллинизировать Вагнера, придать его искусству «аполлонический» облик
и стереть почти совсем облик «дионисийский». А, скажем, Томас Манн в послевоенные годы и вовсе с
ядовитой иронией вспоминает о нападках на «рассудочность» и утверждает, что миру вряд ли «суждено
погибнуть от избытка разума».
5. Направление реформ сценического устройства
Со второй половины XIX века удивительные метаморфозы, связанные с научными открытиями,
меняющимися представлениями о реальности, (рождающимися представлениями об искусстве как второй,
или параллельной, реальности, имеющей своим жизненным источником субъективное сознание),
претерпевает театральное пространство. Доставшиеся в наследство от театрального барокко, классицизма и
эпохи Просвещения живописные декорации, предлагавшие драме абстрактный пейзаж с неизменными
дворцами, арками, гротами, скалами, своей иллюзорностью, устаревшей условностью,
неприспособленностью к нуждам конкретной пьесы начинают раздражать значительную часть театральных
практиков второй половины XIX века.
К середине века европейские постановочные принципы существенно дифференцировались. Так, например,
во Франции, в эпоху романтизма, в Комеди Франсез и Одеоне придерживались еще барочных и класси-
цистких принципов постановки. Сцены же бульварных театров, таких как Порт-Сен-Мартен, Амбипо
Комик, «Ренессанс» и др., постепенно выработали идею павильона, условно обозначавшего светские
гостиные, в которых протекало действие «репертуарных» драм (Дюма-фиса, Скри-ба, Ожье, Сарду). Однако
все постановочные варианты первой половины века подвергаются критическому переосмыслению и
реформированию с конца 50-х годов.
Начало этих реформ — археологический стиль Чарльза Кина, стоявшего во главе театра Принцессы в
Лондоне, байрейтские постановки, осуществлявшиеся под руководством Вагнера, и, наконец, спектакли
мейнингенской труппы. Вторым этапом этих реформ следует считать театральный символизм и натурализм,
представленные во Франции творчеством Антуана и Фора, в Германии — творчеством Брама. Однако это
распадение художественного идеала времени на символический и натуралистический было не столь уж
долгим в искусстве конца века. В творчестве крупнейших драматургов этого времени, а также режиссеров и

актеров претворяются в единое целое противоположные стилистические направления. К третьему этапу
постановочного реформирования относится деятельность Аппиа, Крэга, Фукса и Рейнхардта.
40
6. Новый хозяин?
Когда актер перестает быть хозяином спектакля, его персонаж уже не представляет и не сознает, а тем
более не играет своего места в «мировом целом». Это мировое целое отныне будет рождаться из
претворенного режиссерского видения, а иерархия смысловой значимости сценических образов
выстраиваться постановщиком, новым «невидимым» хозяином спектакля. Роль слова в искусстве fin de
siecle и начала 20 века становится иной, нежели была раньше. Живопись и музыка освобождаются от
нарративности и программности, слово теряет в своей непосредственной информативности. Становится
особенно значимым то, как оно звучит, как слова организованы ритмически, насколько этот ритм
проникающ и суггестивен. (Мейерхольдовская идея слова-капли, падающей в колодец, итожит путь,
пройденный искусством в сторону усиления визуальности.) Идея образного и смыслового подтекста на
рубеже веков связывалась поначалу с символизмом. Эта идея со всей возможной бесспорностью
предполагала наличие у всякого художественного высказывания неких скрытых, невыразимых до конца
значений, которые нужно найти и воспринять. В дальнейшем эта идея, высвободившись из сферы
притяжения определенного стилистического направления, отзовется той мощной экспансией режиссерских
сюжетов в авторский текст, которая окажется характерной чертой режиссуры вообще. Другое дело, как и
почему, в соответствии с какими сценическими задачами в творчестве разных постановщиков будут
расходиться авторский и режиссерский сюжеты, и насколько утратит конкретный объем смысла слово,
будучи использовано как знак, как звуковая и ритмическая единица образности сцены. Одни режиссеры,
уверовав в могущество «невербальных» средств театра, оставляют слово-знак пребывать наедине со своими
бесконечными значениями, другие же, напротив, подхватив слово-значение, лепят форму его подтекстов.
Открытие самых общих законов театра как самостоятельного вида искусства, эмансипация театра от
литературы — все эти явления сосредоточили интересы многих художников сцены на расширении
возможностей актера. Отношения мысли и эмоции, зарождающихся под влиянием драматического текста с
жестом, движением и интонацией, которые их воплощают вовне, — именно эти отношения начинают
осмысливаться всеми великими режиссерами конца XIX - начала XX веков. Многие из них, каждый по-
своему, решают проблему разделения театрального действия на «внешнее» и «внутреннее», а также
проблему несовпадения длительности эмоции и тех средств, которые ее воплощают в пространстве. Следует
отметить, что интерпретация драматического текста отнюдь не сводилась первыми в истории театра
режиссерами к идейному истолкованию. Понятие интерпретации трактовалось в конце XIX века
исключительно
41
широко. В сферу понятия театральной интерпретации включалось со-аданис низуальной, пространственно-
временной формы драматического произведения. Таким образом, задача постановщика состояла в переводе
драматургического текста на язык театральной образности.
Ксли придерживаться хронологической последовательности, то ста-ионлсние режиссерского театра
начинается с исканий сфере пространственной образности сцены, в сфере отношений героя и мира, актера и
гп> декоративного окружения. В начале XX века направление поисков существенно меняется и сворачивает
в сторону актерского искусства.
Герои, которых вводили режисеры в свою реальность, были особыми героями. Перестав быть
романтическими, они сохраняли «масштаб». Этих же «универсальных» героев искал и такой драматург, как
Ибсен. Но следует сказать о важном различии между «универсальным героем» режиссерского театра и
героем такого размаха у Ибсена. Может быть, это различие в какой-то мере объяснит сложную судьбу
Ибсена и режиссерском театре.
Героические фигуры Ибсена, наследующие героям ранее-романтическим и претендующие на
свехчеловеческую мощь и предназначение, предстают, как правило, со своей историей, раскрываются через
прошлое, о котором эпически повествуется, рассказывается в нужный момент. Именно неожиданное
вторжение прошлого, рассказы о нем, анализ его роли в будущем служили в Ибсеновских драмах
основными стимулами к обострению конфликтов.
Но уже, скажем, у Стриндберга роль этого прошлого сведена почти к нулю. Герой раскрывается здесь и
сейчас и существует в настоящем времени с максимальной интенсивностью.
Именно в таком герое начинают испытывать потребность первые представители режиссерской профессии.
Персонаж, не знающий о своей судьбе, проживающий в «реальном» времени, а не повествующий о
прошлом, — идеальный герой режиссерского спектакля. Весьма примечательна та трактовка действующего
героя, которую Аппиа предлагает к сценарию «Кольца Нибелунга»: в композиции роли Зигфрида необхо-
димо «учитывать... существенное значение Бессознательного... необходимо дать здесь и сейчас максимум
интенсивности». По мысли режиссера, знание актера о своем герое и его судьбе не должно выливаться в
цепочку эффектов и подводов к ним зрителя умело выстроенным, но избыточным количеством скрытых и
явных апартов. Именно воссоздание непосредственно реального бытия персонажа, когда он живет и
действует, как бы не зная следующего «соединения» обстоятельств и назидательного смысла своего исхода,
становится так или иначе режиссерской задачей.
