Бергсон Анри. Избранное: Сознание и жизнь
Подождите немного. Документ загружается.

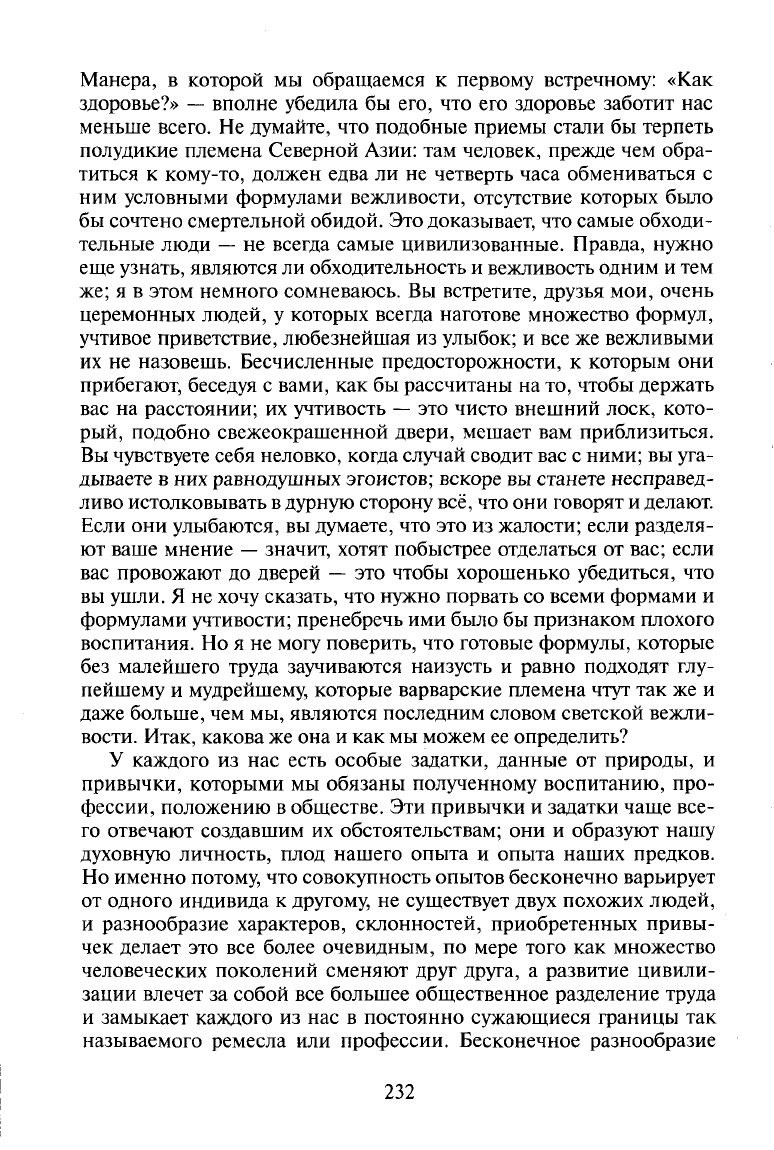
Манера,
в
которой
мы
обращаемся
к
первому
встречному:
«Как
здоровье?»
-
вполне
убедила
бы
его,
что
его
здоровье
заботит
нас
меньше
всего.
Не
думайте,
что
подобные
приемы
стали
бы
терпеть
полудикие
племена
Северной
Азии:
там
человек,
прежде
чем
обра
титься
к
кому-то,
должен
едва
ли
не
четверть
часа
обмениваться
с
ним
условными
формулами
вежливости,
отсутствие
которых
бьmо
бы
сочтено
смертельной
обидой.
Это
доказывает,
что
самые
обходи
тельные
люди
-
не
всегда
самые
цивилизованные.
Правда,
нужно
еще
узнать,
являются
ли
обходительность
и
вежливость
одним
и
тем
же;
я в
этом
немного
сомневаюсь.
Вы
встретите,
друзья
мои,
очень
церемонных
людей,
у
которых
всегда
наготове
множество
формул,
учтивое
приветствие,
любезнейшая
из
улыбок;
и
все
же
вежливыми
их
не
назовешь.
Бесчисленные
предосторожности,
к
которым
они
прибегают,
беседуя
с
вами,
как
бы
рассчитаны
на
то,
чтобы
держать
вас
на
расстоянии;
их
учтивость
-
это
чисто
внешний
лоск,
кото
рый,
подобно
свежеокрашенной
двери,
мешает
вам
приблизиться.
Вы
чувствуете
себя
неловко,
когда
случай
сводит
вас
с
ними;
вы
уга
дываете
в
них
равнодушных
эгоистов;
вскоре
вы
станете
несправед
ливо
истолковывать
в
дурную
сторону
всё,
что
они
говорят
и
делают.
Если
они
улыбаются,
вы
думаете,
что
это
из
жалости;
если
разделя
ют
ваше мнение
-
значит,
хотят
побыстрее
отделаться
от
вас;
если
вас
провожают
до
дверей
-
это
чтобы
хорошенько
убедиться,
что
вы
ушли.
Я
не хочу
сказать,
что
нужно
порвать
со
всеми
формами
и
формулами
учтивости;
пренебречь
ими
было
бы
признаком
плохого
воспитания.
Но
я
не могу
поверить,
что
готовые
формулы,
которые
без
малейшего
труда
заучиваются
наизусть
и
равно
подходят
глу
пейшему
и
мудрейшему,
которые
варварские
племена
чтут
так
же
и
даже
больше,
чем
мы,
являются
последним
словом
светской
вежли
вости.
Итак,
какова
же
она
и
как
мы
можем
ее
определить?
у
каждого
из
нас
есть
особые
задатки,
данные
от
природы,
и
привычки,
которыми
мы
обязаны
полученному
воспитанию,
про
фессии,
положению
в
обществе.
Эти
привычки
и
задатки
чаще
все
го
отвечают
создавшим
их
обстоятельствам;
они
и
образуют
нашу
духовную
личность,
плод
нашего
опыта
и
опыта
наших
предков.
Но
именно
потому,
что
совокупность
опытов
бесконечно
варьирует
от
одного
индивида
к
другому,
не
существует
двух
похожих
людей,
и
разнообразие
характеров,
склонностей,
приобретенных
привы
чек
делает
это
все
более
очевидным,
по
мере
того
как
множество
человеческих
поколений
сменяют
друг
друга,
а
развитие
цивили
зации
влечет
за
собой
все
большее
общественное
разделение
труда
и
замыкает
каждого
из
нас
в
постоянно
сужающиеся
границы
так
называемого
ремесла
или
профессии.
Бесконечное
разнообразие
232
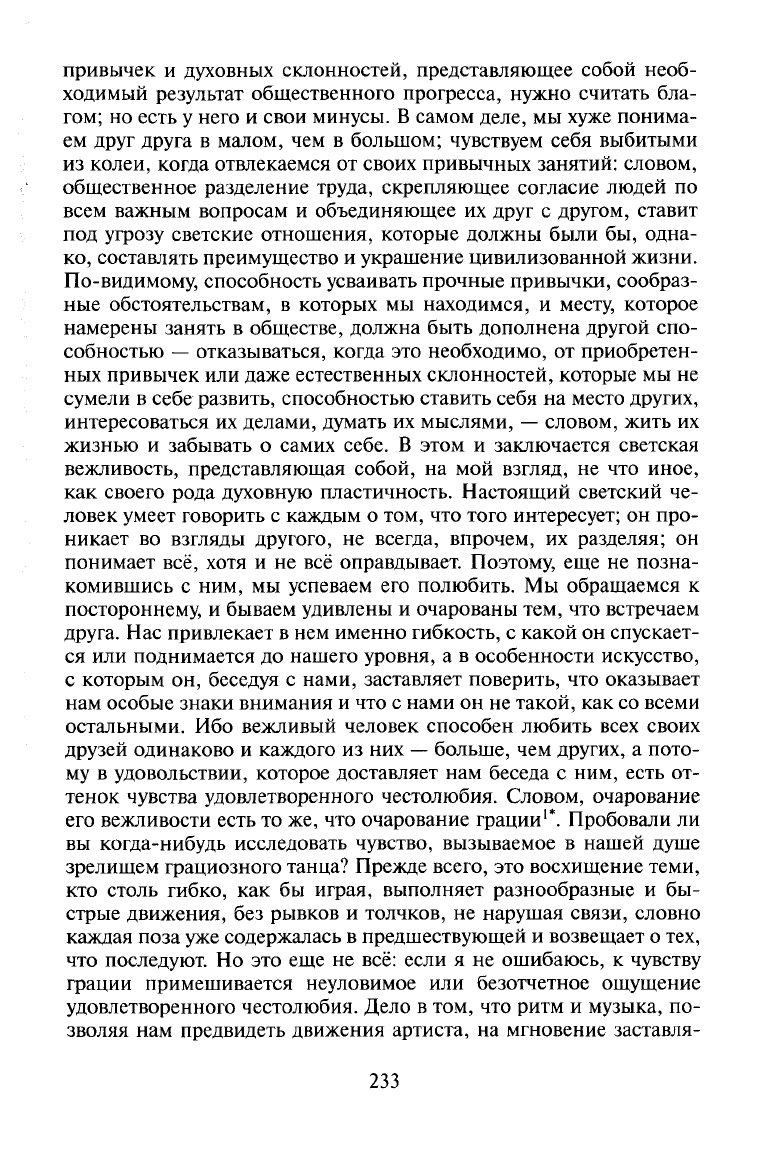
привычек
и
духовных
склонностей,
представляющее
собой
необ
ходимый
результат
общественного
прогресса,
нужно
считать
бла
гом;
но
есть
у него
и
свои
минусы.
В
самом
деле,
мы
хуже
понима
ем
друг друга
в
малом,
чем
в
большом;
чувствуем
себя
выбитыми
из
колеи,
когда
отвлекаемся
от
своих
привычных
занятий:
словом,
общественное
разделение
труда,
скрепляющее
согласие
людей
по
всем
важным
вопросам
и
объединяющее
их
друг
с
другом,
ставит
под
угрозу
светские
отношения,
которые
должны
бьши
бы,
одна
ко,
составлять
преимущество
и
украшение
цивилизованной
жизни.
По-видимому,
способность
усваивать
пр
очные
привычки,
сообраз
ные
обстоятельствам,
в
которых
мы
находимся,
и
месту,
которое
намерены
занять
в
обществе,
должна
быть
дополнена
другой
спо
собностью
-
отказываться,
когда
это
необходимо,
от
приобретен
ных
привычек
или
даже
естественных
склонностей,
которые
мы
не
сумели
в
себе
развить,
способностью
ставить
себя
на
место
других,
интересоваться
их
делами,
думать их
мыслями,
-
словом,
жить
их
жизнью
и
забывать
о
самих
себе.
В
этом
и
заключается
светская
вежливость,
представляющая
собой,
на
мой
взгляд,
не
что
иное,
как
своего
рода
духовную
пластичность.
Настоящий
светский
че
ловек
умеет
говорить
с
каждым
о
том,
что
того
интересует;
он
про
никает
во
взгляды
другого,
не
всегда,
впрочем,
их
разделяя;
он
понимает
всё,
хотя
и не
всё
оправдывает.
Поэтому,
еще
не
позна
комившись
с
ним,
мы
успеваем
его
полюбить.
Мы
обращаемся
к
постороннему,
и
бываем
удивлены
и
очарованы
тем,
что
встречаем
друга.
Нас
привлекает
в
нем
именно
гибкость,
с
какой
он
спускает
ся
или
поднимается
до
нашего
уровня,
а в
особенности
искусство,
с
которым
он,
беседуя
с
нами,
заставляет
поверить,
что
оказывает
нам
особые
знаки
внимания
и
что
с
нами
он
не
такой,
как
со
всеми
остальными.
Ибо
вежливый
человек
способен
любить
всех
своих
друзей
одинаково
и
каждого
из
них
-
больше,
чем
других,
а
пото
му
в
удовольствии,
которое
доставляет
нам
беседа
с
ним,
есть
от
тенок
чувства
удовлетворенного
честолюбия.
Словом,
очарование
его
вежливости
есть
то
же,
что
очарование
грации
l
'.
Пробовал
и
ли
вы
когда-нибудь
исследовать
чувство,
вызываемое
в
нашей
душе
зрелищем
грациозного
танца?
Прежде
всего,
это
восхищение
теми,
кто
столь
гибко,
как
бы
играя,
выполняет
разнообразные
и
бы
стрые
движения,
без
рывков
и
толчков,
не
нарушая
связи,
словно
каждая
поза
уже
содержалась
в
предшествующей
и
возвещает
о
тех,
что последуют.
Но
это
еще
не
всё:
если
я не
ошибаюсь,
к
чувству
грации
примешивается
неуловимое
или
безотчетное
ощущение
удовлетворенного
честолюбия.
Дело
в
том,
что
ритм
и
музыка,
по
зволяя
нам
предвидеть
движения
артиста,
на
мгновение
заставля-
233
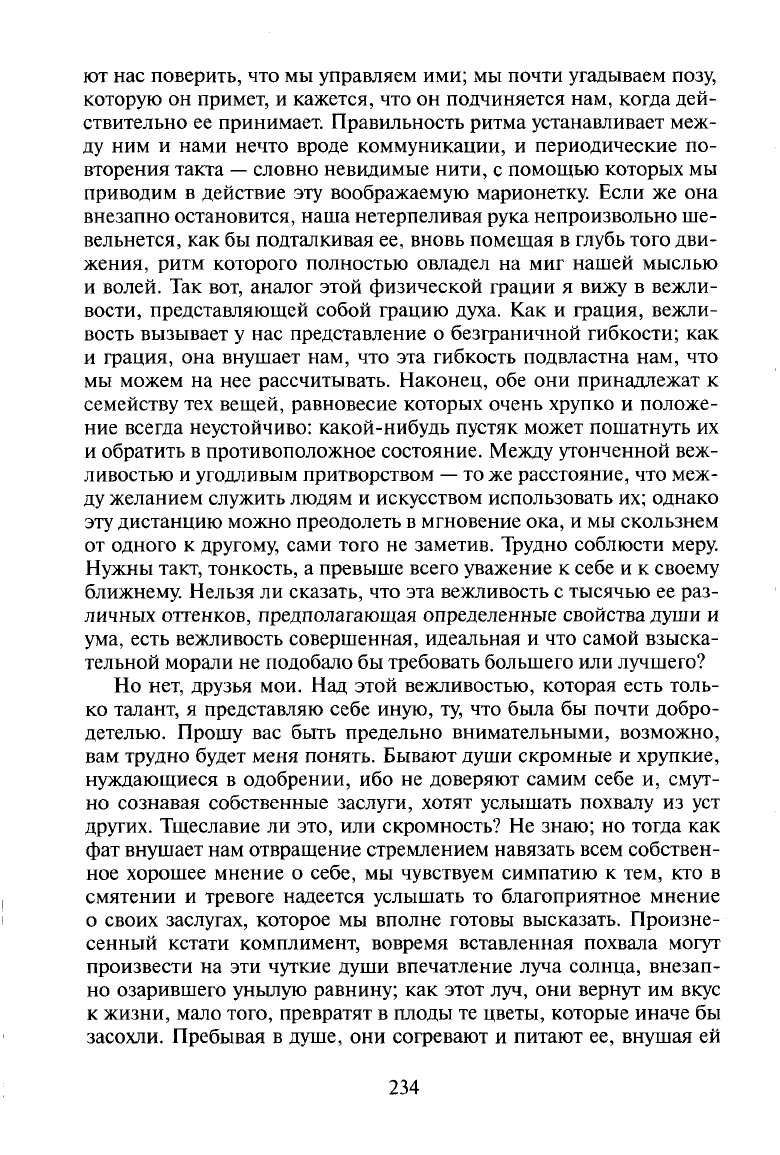
ют
нас
поверить,
что
мы
управляем
ими;
мы
почти
угадываем
позу,
которую
он
примет,
и
кажется,
что
он
подчиняется
нам,
когда
дей
ствительно
ее
принимает.
Правильность
ритма
устанавливает
меж
ду
ним
и
нами
нечто
вроде
коммуникации,
и
периодические
по
вторения
такта
-
словно
невидимые
нити,
с
помощью
которых
мы
приводим
В
действие
эту
воображаемую
марионетку.
Если
же
она
внезапно
остановится,
наша
нетерпеливая
рука
непроизвольно
ше
вельнется,
как
бы
подталкивая
ее,
вновь
помещая
в
глубь
того
дви
жения,
ритм
которого
полностью
овладел
на
миг
нашей
мыслью
и
волей.
Так
вот,
аналог
этой
физической
грации
я
вижу
в
вежли
вости,
представляющей
собой
грацию
духа.
Как
и
грация,
вежли
вость
вызывает
у
нас
представление
о
безграничной
гибкости;
как
и
грация,
она
внушает
нам, что
эта
гибкость
подвластна
нам,
что
мы
можем
на
нее
рассчитывать.
Наконец,
обе
они
принадлежат
к
семейству
тех
вещей,
равновесие
которых
очень
хрупко
и
положе
ние
всегда
неустойчиво:
какой-нибудь
пустяк
может
пошатнуть
их
и
обратить
в
противоположное
состояние.
Между
утонченной
веж
ливостью
и
угодливым
притворством
-
то
же
расстояние,
что
меж
ду
желанием
служить
людям
и искусством
использовать
их;
однако
эту
дистанцию
можно
преодолеть
в
мгновение
ока,
и
мы
скользнем
от
одного
к
другому,
сами
того
не
заметив.
Трудно
соблюсти
меру.
Нужны
такт,
тонкость,
а
превыше
всего
уважение
к
себе
и
к
своему
ближнему.
Нельзя
ли
сказать,
что
эта
вежливость
с
тысячью
ее
раз
личных
оттенков,
предполагающая
определенные
свойства
души
и
ума,
есть
вежливость
совершенная,
идеальная
и
что
самой
взыска
тельной
морали
не
подобало
бы
требовать
большего
или
лучшего?
Но
нет,
друзья
мои.
Над
этой
вежливостью,
которая
есть
толь
ко
талант,
я
представляю
себе
иную,
ту,
что
бьmа
бы
почти
добро
детелью.
Прошу
вас
быть
предельно
внимательными,
возможно,
вам
трудно
будет
меня
понять.
Бывают
души
скромные
и
хрупкие,
нуждающиеся
в
одобрении,
ибо
не
доверяют
самим
себе
и,
смут
но
сознавая
собственные
заслуги,
хотят
услышать
похвалу
из
уст
других.
Тщеславие ли
это,
или
скромность?
Не
знаю;
но
тогда
как
фат
внушает
нам
отвращение
стремлением
навязать
всем
собствен
ное
хорошее
мнение
о
себе,
мы
чувствуем
симпатию
к
тем,
кто
в
смятении
и
тревоге
надеется
услышать
то
благоприятное
мнение
о
своих
заслугах,
которое
мы
вполне
готовы
высказать.
Произне
сенный
кстати
комплимент,
вовремя
вставленная
похвала
могут
про
извести
на
эти
чуткие
души
впечатление
луча
солнца, внезап
но
озарившего
уньmую
равнину;
как
этот
ЛУЧ,
они
вернут
им
вкус
к
жизни,
мало
того,
превратят
в
плоды
те
цветы,
которые
иначе
бы
засохли.
Пребывая
в
душе,
они
согревают
и
питают
ее,
внушая
ей
234
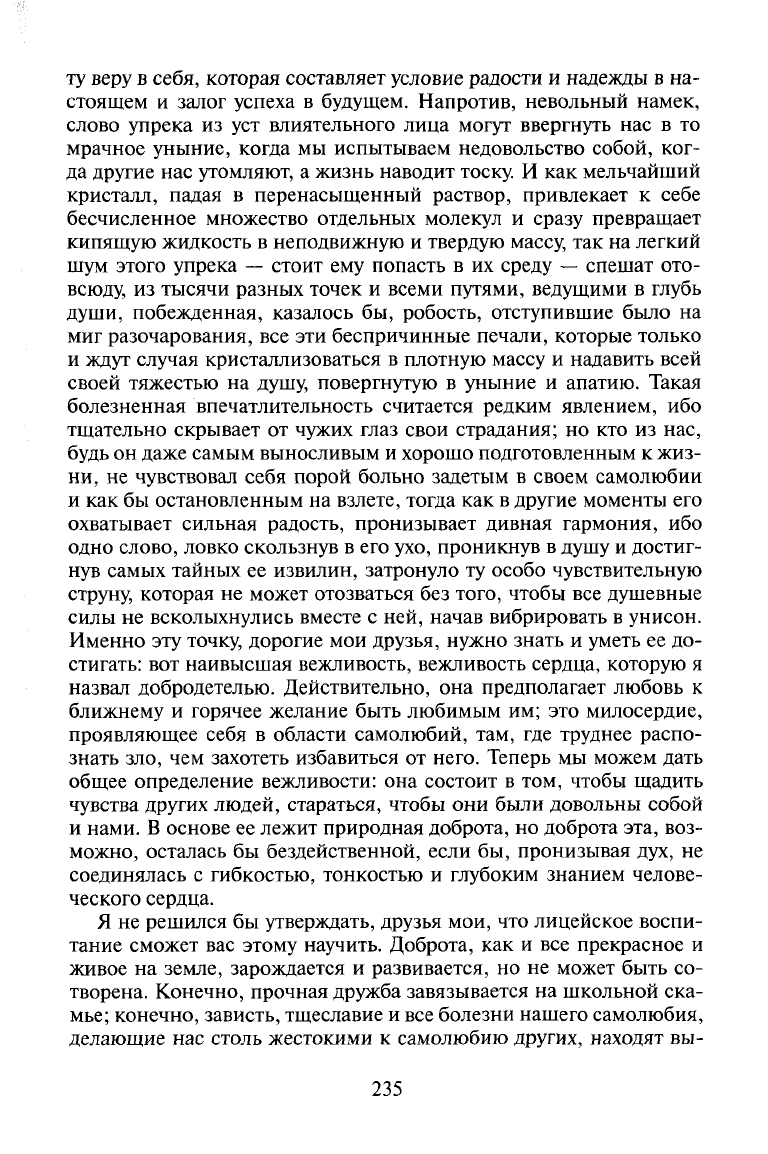
ту
веру
в
себя,
которая
составляет
условие
радости
и
надежды
в
на
стоящем
и
залог
успеха
в
будущем.
Напротив,
невольный
намек,
слово
упрека
из
уст
влиятельного
лица
могут
ввергнуть
нас
в то
мрачное
уныние,
когда
мы
испытываем
недовольство
собой,
ког
да
другие
нас
утомляют,
а
жизнь
наводит
тоску.
И
как
мельчайший
кристалл,
падая
в
перенасыщенный
раствор,
привлекает
к
себе
бесчисленное
множество
отдельных
молекул
и
сразу
превращает
кипящую
ЖИдкость
в
неподвижную
и
твердую
массу,
так
на
легкий
шум
этого
упрека -
стоит
ему
попасть
в
их
среду
-
спешат
ото
всюду,
из
тысячи разных
точек
и
всеми
путями,
ведущими
в
глубь
души,
побежденная,
казалось
бы,
робость,
отступившие
бьшо
на
миг
разочарования,
все
эти
беспричинные
печали,
которые
только
и
ждут
случая
кристаллизоваться
в
плотную
массу
и
надавить
всей
своей
тяжестью
на
душу,
повергнутую
в
уныние
и
апатию.
Такая
болезненная
впечатлительность
считается
редким
явлением,
ибо
тщательно
скрывает
от
чужих
глаз
свои
страдания;
но
кто
из
нас,
будь
он
даже
самым
выносливым
и
хорошо
подготовленным
к
жиз
ни,
не
чувствовал
себя
порой
больно
задетым
в
своем
самолюбии
и
как
бы
остановленным
на
взлете,
тогда
как
в
другие
моменты
его
охватывает
сильная
радость,
пронизывает
дивная
гармония,
ибо
одно
слово,
ловко
скользнув
в
его
ухо,
проникнув
в
душу
И
достиг
нув
самых
тайных
ее
извилин,
затронуло
ту
особо
чувствительную
струну,
которая
не
может
отозваться
без
того,
чтобы
все
душевные
силы
не
всколыхнулись
вместе
с
ней,
начав
вибрировать
в
унисон.
Именно
эту
точку,
дорогие
мои
друзья,
нужно
знать
и
уметь
ее
до
стигать:
вот
наивысшая
вежливость,
вежливость
сердца,
которую
я
назвал
добродетелью.
Действительно,
она
предполагает
любовь
к
ближнему
и
горячее
желание
быть
любимым
им;
это
милосердие,
проявляющее
себя
в
области
самолюбий,
там,
где
труднее
распо
знать
зло,
чем
захотеть
избавиться
от
него.
Теперь
мы
можем
дать
общее
определение
вежливости:
она
состоит
в
том,
чтобы
щадить
чувства
других
людей,
стараться,
чтобы
они
бьmи
довольны
собой
и
нами.
В
основе
ее
лежит
природная
доброта,
но
доброта
эта,
воз
можно,
осталась
бы
бездейственной,
если
бы,
пронизывая
дух,
не
соединялась
с
гибкостью,
тонкостью
и
глубоким
знанием
челове
ческого
сердца.
Я
не
решился
бы
утверждать,
друзья
мои,
что
лицейское
воспи
тание
сможет
вас
этому
научить.
Доброта,
как и
все
прекрасное и
живое
на
земле,
зарождается
и
развивается,
но
не
может
быть
со
творена.
Конечно,
прочная
дружба
завязывается
на
школьной
ска
мье;
конечно,
зависть,
тщеславие
и
все
болезни
нашего
самолюбия,
делающие
нас
столь
жестокими
к
самолюбию
других,
находят
вы-
235
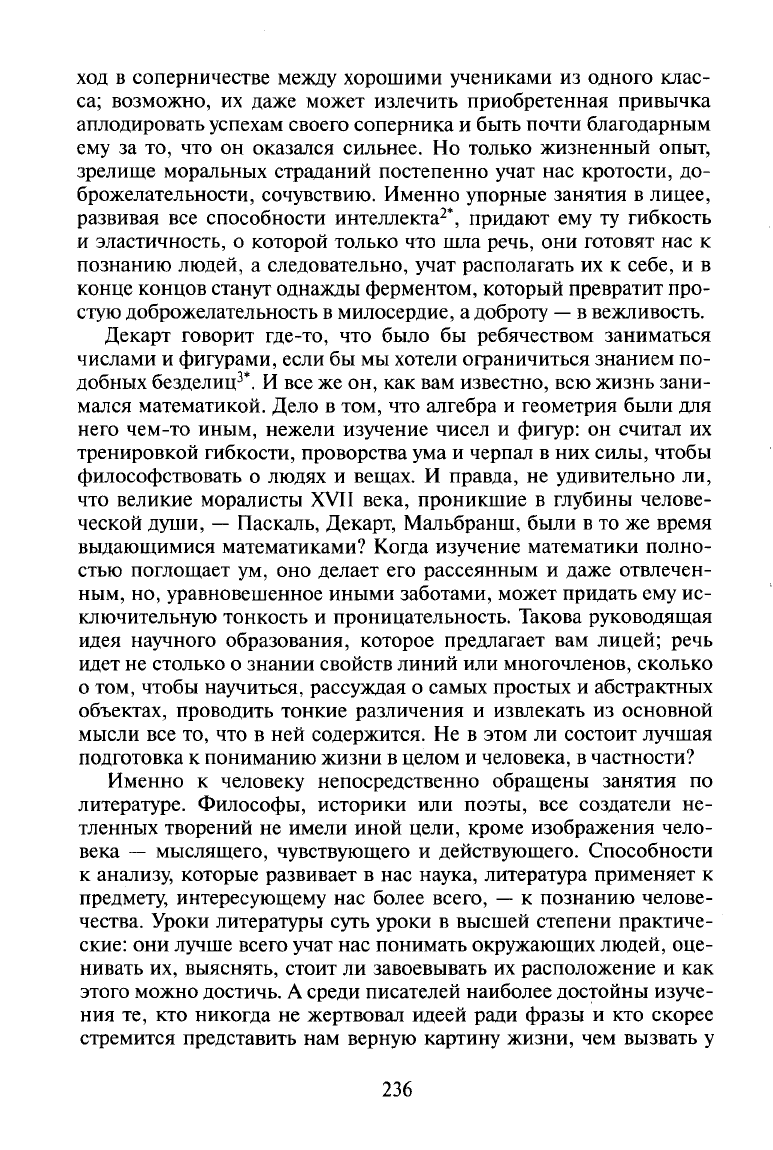
ход
в
соперничестве
между
хорошими
учениками
из
одного
клас
са;
возможно,
их
даже
может
излечить
приобретенная
привычка
аплодировать
успехам
своего
соперника
и
быть
почти
благодарным
ему
за
то,
что
он
оказался
сильнее.
Но
только
жизненный
опыт,
зрелище
моральных
страданий
постепенно
учат
нас
кротости, до
брожелательности,
сочувствию.
Именно
упорные
занятия
в
лицее,
развивая
все
способности
интеллекта
2
*,
придают
ему
ту
гибкость
и
эластичность,
о
которой
только
что
шла
речь,
они
готовят
нас
к
познанию
людей,
а
следовательно,
учат
располагать
их
к
себе,
и
в
конце
концов
станут
однажды
ферментом,
который
превратит
про
стую
доброжелательность
в
милосердие,
а
доброту
-
в
вежливость.
Декарт
говорит
где-то,
что
бьmо
бы
ребячеством заниматься
числами
и
фигурами,
если
бы
мы
хотели
ограничиться
знанием
по
добных
безделиц3*.
И
все
же
он,
как
вам
известно,
всю
жизнь
зани
мался
математикой.
Дело
в
том,
что
алгебра
и
геометрия
бьmи
для
него
чем-то
иным,
нежели
изучение
чисел
и
фигур:
он
считал
их
тренировкой
гибкости,
проворства
ума
и
черпал
в
них
силы,
чтобы
философствовать
о
людях
и
вещах.
И
правда,
не
удивительно
ли,
что
великие
моралисты
ХУП
века,
проникшие
в
глубины
челове
ческой
души,
-
Паскаль,
Декарт,
Мальбранш,
бьmи
в
то
же
время
вьщающимися
математиками?
Когда
изучение
математики
полно
стью
поглощает
УМ,
оно
делает
его
рассеянным
и
даже
отвлечен
ным,
но,
уравновешенное
иными
заботами,
может
придать
ему
ис
ключительную
тонкость
и
проницательность.
Такова
руководящая
идея
научного
образования,
которое
предлагает
вам
лицей;
речь
идет
не
столько
о
знании
свойств
линий
или
многочленов,
сколько
о
том,
чтобы
научиться,
рассуждая
о
самых
простых
и
абстрактных
объектах,
про
водить
тонкие
различения
и
извлекать
из
основной
мысли
все
то,
что
в
ней
содержится.
Не
в
этом
ли
состоит
лучшая
подготовка
к
пониманию
жизни
в
целом
и
человека,
в
частности?
Именно
к
человеку
непосредственно
обращены
занятия
по
литературе.
Философы,
историки
или
поэты,
все
создатели
не
тленных
творений
не
имели
иной
цели,
кроме
изображения
чело
века
-
мыслящего,
чувствующего
и
действующего.
Способности
к
анализу,
которые
развивает
в
нас
наука,
литература
применяет
к
предмету,
интересующему
нас
более
всего,
-
к
познанию
челове
чества.
Уроки
литературы
суть
уроки
в
высшей
степени
практиче
ские:
они
лучше
всего
учат
нас
понимать
окружающих
людей,
оце
нивать
их,
выяснять,
стоит
ли
завоевывать
их
расположение
и
как
этого
можно
достичь.
А
среди
писателей
наиболее
достойны
изуче
ния
те,
кто
никогда
не
жертвовал
идеей
ради
фразы
и
кто
скорее
стремится
представить
нам
верную
картину
жизни,
чем
вызвать
у
236
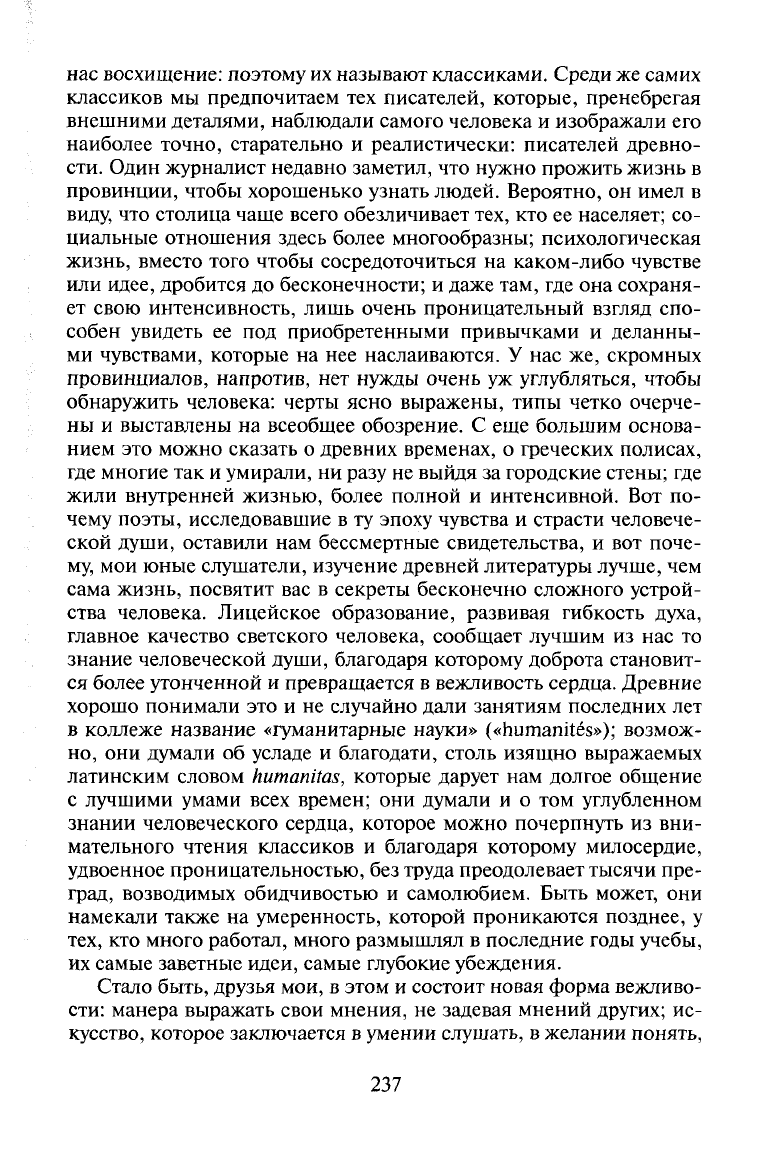
нас
восхищение:
поэтому
их
называют
классиками.
Среди
же
самих
классиков
мы
предпочитаем
тех
писателей,
которые,
пренебрегая
внешними
деталями,
наблюдали
самого
человека
и
изображали
его
наиболее
точно,
старательно
и
реалистически:
писателей
древно
сти.
Один
журналист
недавно
заметил,
что
нужно
прожить
жизнь
В
провинции,
чтобы
хорошенько
узнать
людей.
Вероятно,
он
имел
в
виду,
что
столица
чаще
всего
обезличивает
тех,
кто
ее
населяет;
со
циальные
отношения
здесь
более
многообразны;
психологическая
жизнь,
вместо
того
чтобы
сосредоточиться
на
каком-либо
чувстве
или
идее,
дробится
до
бесконечности;
и
даже
там,
где
она
сохраня
ет
свою
интенсивность,
лишь
очень
проницательный
взгляд
спо
собен
увидеть
ее
под
приобретенными
привычками
и
деланны
ми
чувствами,
которые
на
нее
наслаиваются.
У
нас
же,
скромных
провинциалов,
напротив,
нет
нужды
очень
уж
углубляться,
чтобы
обнаружить
человека:
черты
ясно
выражены,
типы
четко
очерче
ны
и
выставлены
на всеобщее
обозрение.
С
еще
большим
основа
нием
это
можно
сказать
о
древних
временах, о
греческих
полисах,
где
многие
так
и
умирали,
ни
разу
не
выЙдЯ
за
городские
стены;
где
жили
внутренней
жизнью,
более
полной
и
интенсивной.
Вот
по
чему
поэты,
исследовавшие
в
ту
эпоху
чувства
и
страсти
человече
ской
души,
оставили
нам
бессмертные
свидетельства,
и
вот
поче
му,
мои
юные
слушатели,
изучение
древней
литературы
лучше,
чем
сама
жизнь,
посвятит
вас
в
секреты
бесконечно
сложного
устрой
ства
человека.
Лицейское
образование,
развивая
гибкость
духа,
главное
качество
светского
человека,
сообщает
лучшим
из
нас
то
знание
человеческой
души,
благодаря
которому
доброта
становит
ся
более
утонченной
и
превращается
в
вежливость
сердца.
Древние
хорошо
понимали
это
и
не
случайно
дали
занятиям
последних
лет
в
коллеже
название
«гуманитарные
науки»
«<huтanites»);
возмож
но,
они
думали
об
усладе
и
благодати,
столь
изящно
выражаемых
латинским
словом
humanitas,
которые
дарует
нам
долгое
общение
с
лучшими
умами
всех
времен;
они
думали
и
о
том
углубленном
знании
человеческого
сердца,
которое
можно
почерпнуть
из
вни
мательного
чтения
классиков
и
благодаря
которому
милосердие,
удвоенное
проницательностью,
без
труда
преодолевает
тысячи
пре
ГРад,
возводимых
обидчивостью
и самолюбием.
Быть
может,
они
намекали
также
на
умеренность,
которой
проникаются
позднее,
у
тех,
кто
много
работал,
много
размышлял
в
последние
годы
учебы,
их
самые
заветные
идеи,
самые
глубокие
убеждения.
Стало
быть,
друзья
мои,
в
этом
и
состоит
новая
форма
вежливо
сти:
манера
выражать
свои
мнения,
не
задевая
мнений
других; ис
кусство,
которое
заключается
в
умении
слушать,
в
желании
понять,
237
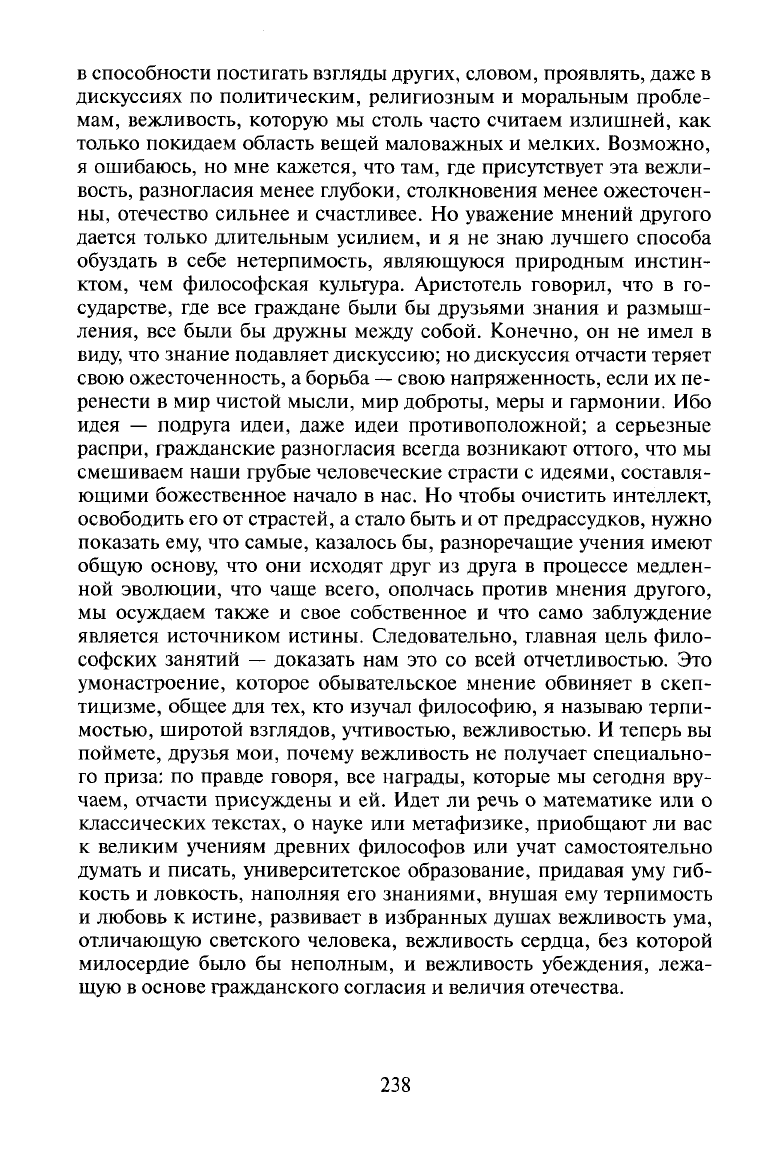
в
способности
постигать
взгляды
других,
словом,
проявлять,
даже
в
дискуссиях
по
политическим,
религиозным
и
моральным
пробле
мам,
вежливость,
которую
мы
столь
часто
считаем
излишней,
как
только
покидаем
область
вещей
маловажных
и
мелких.
Возможно,
я
ошибаюсь,
но
мне
кажется,
что
там,
где
присутствует
эта
вежли
вость,
разногласия
менее
глубоки,
столкновения
менее
ожесточен
ны,
отечество
сильнее
и
счастливее.
Но
уважение
мнений
другого
дается
только
длительным
усилием,
и
я
не
знаю
лучшего
способа
обуздать
в себе
нетерпимость,
являющуюся
природным
инстин
ктом,
чем
философская
культура.
Аристотель
говорил,
что
в
го
сударстве,
где
все
граждане
бьmи
бы
друзьями
знания
и
размыш
ления,
все
были
бы
дружны
между
собой.
Конечно,
он
не
имел
в
виду,
что
знание
подавляет
дискуссию;
но
дискуссия
отчасти
теряет
свою
ожесточенность,
а
борьба
-
свою
напряженность,
если
их
пе
ренести
в
мир
чистой
мысли,
мир
доброты,
меры
и
гармонии.
Ибо
идея
-
подруга
идеи,
даже
идеи
противоположной;
а
серьезные
распри,
гражданские
разногласия
всегда
возникают
оттого,
что
мы
смешиваем
наши
грубые
человеческие
страсти
с
идеями,
составля
ющими
божественное
начало
в
нас.
Но
чтобы
очистить
интеллект,
освободить
его
от
страстей,
а
стало
быть
и
от
предрассудков,
нужно
показать
ему,
что
самые,
казалось
бы,
разноречащие
учения
имеют
общую
основу,
что
они
исходят
друг
из
друга
в
процессе
медлен
ной
эволюции,
что
чаше
всего,
ополчась
против
мнения
другого,
мы
осуждаем
также
и
свое
собственное
и
что
само
заблуждение
является
источником
истины.
Следовательно,
главная
цель
фило
софских
занятий
-
доказать
нам
это
со
всей
отчетливостью.
Это
умонастроение,
которое
обывательское
мнение
обвиняет
в
скеп
тицизме,
общее
для
тех,
кто изучал
философию,
я
называю
терпи
мостью,
широтой
взглядов,
учтивостью,
вежливостью.
И
теперь
вы
поймете,
друзья
мои,
почему
вежливость
не
получает
специально
го
приза:
по
правде
говоря,
все
награды,
которые
мы
сегодня
вру
чаем,
отчасти
присуждены
и
ей.
Идет
ли
речь
о
математике
или
о
классических
текстах,
о
науке
или
метафизике,
приобщают
ли
вас
к
великим
учениям
древних
философов
или
учат
самостоятельно
думать
и
писать,
университетское
образование,
придавая
уму
гиб
кость
и
ловкость,
наполняя
его
знаниями,
внушая
ему
терпимость
и
любовь
к
истине,
развивает
в
избранных
душах
вежливость
ума,
отличающую
светского
человека,
вежливость
сердца,
без
которой
милосердие
бьmо
бы
неполным,
и
вежливость
убеждения,
лежа
щую
в
основе
гражданского
согласия
и
величия
отечества.
238
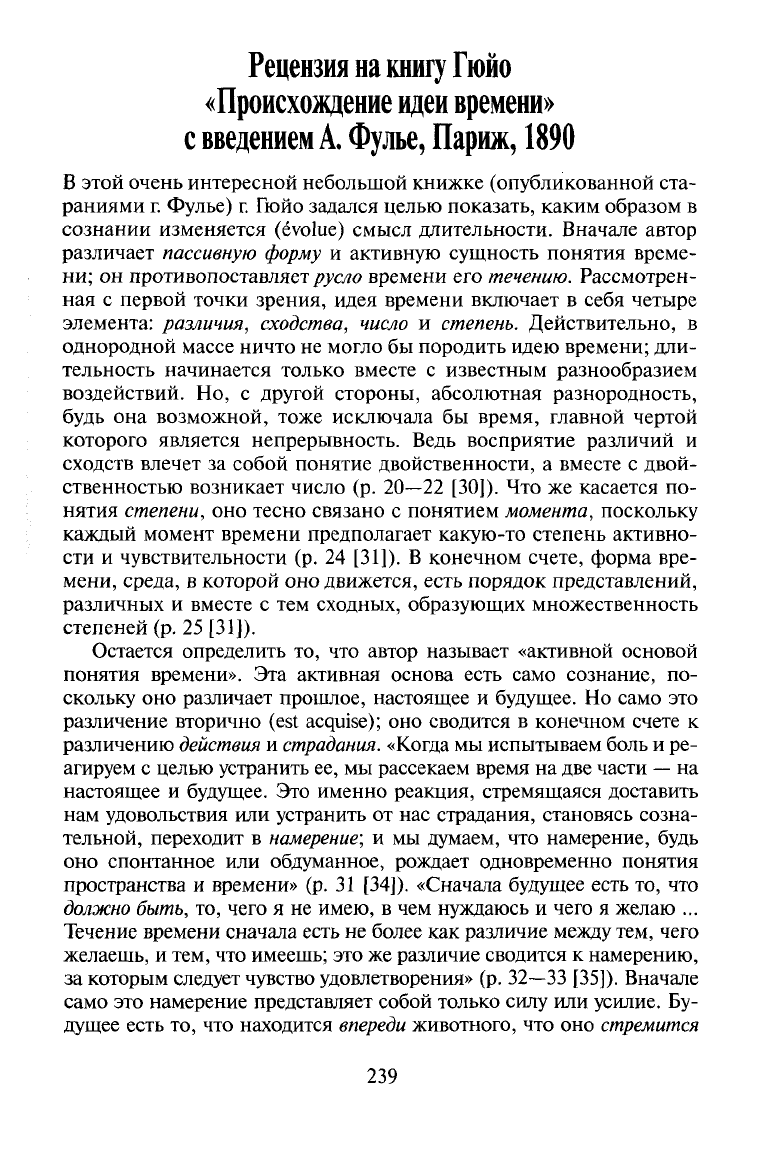
Рецензия на
книгу
Гюйо
«Происхождение
идеи
времени»
с
введением
А.
Фулье,
Париж,
1890
В
этой
очень
интересной
небольшой
книжке
(опубликованной
ста
раниями
г.
Фулье)
г.
Гюйо
задался
целью
показать,
каким
образом
в
сознании
изменяется
(evolue)
смысл
длительности.
Вначале
автор
различает
пассивную
форму
и
активную
сушность
понятия
време
ни;
он
противопоставляет
русло
времени
его
течению.
Рассмотрен
ная
с
первой
точки
зрения,
идея
времени
включает
в
себя
четыре
элемента:
различия,
сходства,
число
и
степень.
Действительно,
в
однородной
массе
ничто
не
могло
бы
породить
идею
времени;
дли
тельность
начинается
только
вместе
с
известным
разнообразием
воздействий.
Но,
с
друтой
стороны,
абсолютная
разнородность,
будь
она
возможной,
тоже
исключала
бы
время,
главной
чертой
которого
является
непрерывность.
Ведь
восприятие
различий
и
сходств
влечет
за
собой
понятие
двойственности,
а
вместе
с
двой
ственностью
возникает
число
(р.
20-22
[30]).
Что
же
касается
по
нятия
степени,
оно
тесно
связано
с
понятием
момента,
поскольку
каждый
момент
времени
предполагает
какую-то
степень
активно
сти
и
чувствительности
(р.
24
[31]).
В конечном
счете,
форма
вре
мени,
среда,
в
которой
оно
движется,
есть
порядок
представлений,
различных
и
вместе
с
тем
сходных,
образующих
множественность
степеней
(р.
25
[31]).
Остается
определить
то,
что
автор
называет
«активной
основой
понятия
времени».
Эта
активная
основа
есть
само
сознание,
по
скольку
оно
различает
прошлое,
настоящее
и
будущее.
Но
само
это
различение
вторично
(est acquise);
оно
сводится
в
конечном
счете
к
различению
действия
и
страдания.
«Когда
мы
испытываем
боль
и
ре
агируем
с
целью
устранить
ее,
мы
рассекаем
время на
две
части
-
на
настоящее
и
будущее.
Это
именно
реакция,
стремящаяся
доставить
нам
удовольствия
или
устранить
от
нас
страдания,
становясь
созна
тельной,
переходит
в
намерение;
и
мы
думаем,
что
намерение,
будь
оно
спонтанное
или
обдуманное,
рождает
одновременно
понятия
пространства
и
времени»
(р.
31
[34]).
«Сначала
будущее
есть
то,
что
должно
быть,
то,
чего я
не
имею,
в
чем
нуждаюсь
и
чего я
желаю
...
Течение
времени
сначала
есть
не
более
как
различие
между
тем,
чего
желаешь,
и
тем,
что
имеешь;
это
же
различие
сводится
к
намерению,
за
которым
следует
чувство
удовлетворения»
(р.
32-33
[35]).
Вначале
само
это
намерение
представляет
собой
только
силу
или
усилие.
Бу
дущее
есть
то,
что
находится
впереди
животного,
что
оно
стремится
239
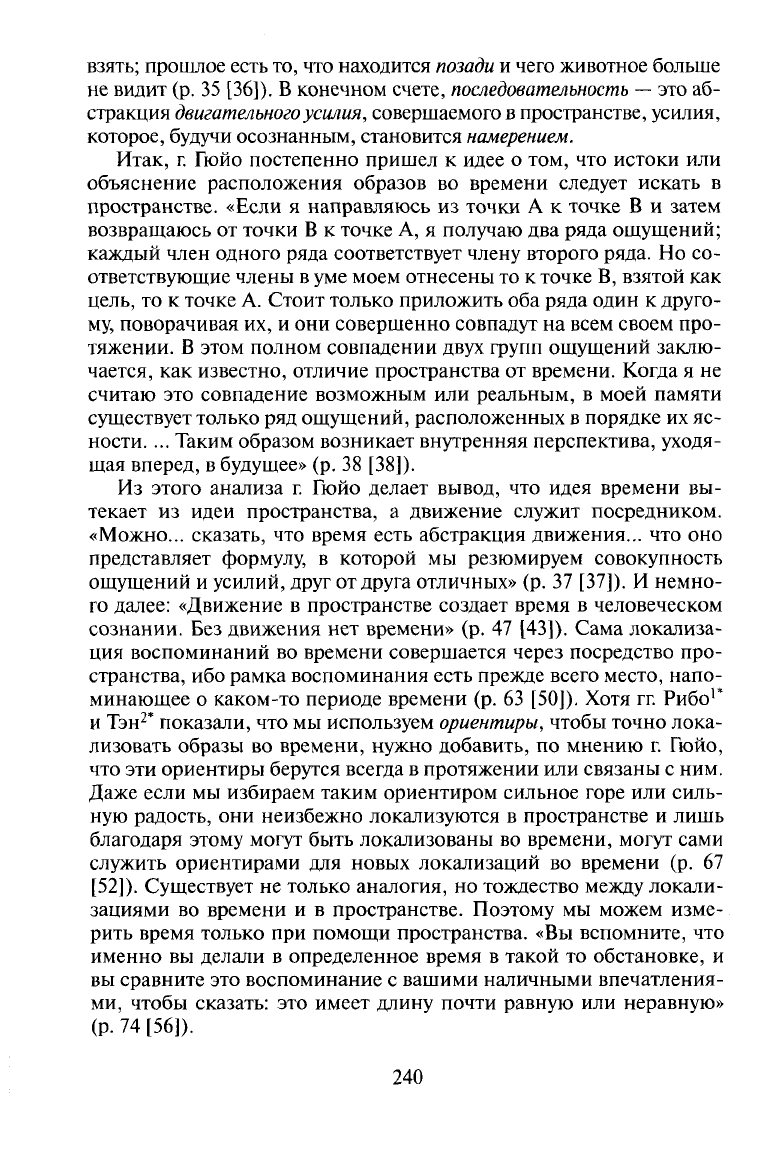
взять;
ПРОllШое
есть
то,
что
находится
позади
и
чего
животное
больше
не
видит
(р.
35
[36]).
В
конечном
счете,
последовательность
-
это
аб
стракция
двигательного
усилия,
совершаемого
в
пространстве,
усилия,
которое,
будучи
осознанным,
становится
намерением.
Итак,
г.
Гюйо
постепенно
пришел
к
идее о
том,
что
истоки
или
объяснение
расположения
образов
во
времени
следует
искать
в
пространстве.
«Если
я
направляюсь
из
точки
А
к
точке
В
и
затем
возвращаюсь
от
точки
В
к
точке
А,
я
получаю
два
ряда
ощущений;
каждый
член
одного
ряда
соответствует
члену
второго
ряда.
Но
со
ответствующие
члены
в
уме
моем
отнесены
то
к
точке
В,
взятой
как
цель,
то
к
точке
А.
Стоит
только
пр
ИЛ
ожить
оба
ряда
один
к
друго
му,
поворачивая
их,
и
они
совершенно
совпадут
на
всем
своем
про
тяжении.
В
этом
полном
совпадении
двух
групп
ощущений
заклю
чается,
как
известно,
отличие
пространства
от
времени.
Когда
я
не
считаю
это
совпадение
возможным
или
реальным,
в
моей
памяти
существует
только ряд
ощущений,
расположенных
в
порядке
их
яс
ности
....
Таким
образом
возникает
внутренняя
перспектива,
уходя
щая
вперед,
в
будущее»
(р.
38
[38]).
Из
этого
анализа
г.
Гюйо
делает
вывод,
что
идея
времени
вы
текает
из
идеи
пространства,
а
движение
служит
посредником.
«Можно
...
сказать,
что
время
есть
абстракция
движения
...
что
оно
представляет
формулу,
в
которой
мы
резюмируем
совокупность
ощущений
и
усилий,
друг
от
друга
отличных»
(р.
37
[37]). И
немно
го
далее:
«Движение
В
пространстве
создает
время
в
человеческом
сознании.
Без
движения
нет
времени»
(р.
47
[43]).
Сама
локализа
ция
воспоминаний
во
времени
совершается
через
посредство
про
странства,
ибо
рамка
воспоминания
есть
прежде
всего
место,
напо
минающее
о
каком-то
периоде
времени
(р.
63
[50J).
Хотя
п.
Рибо!*
И
Тэн
2
*
показали,
что
мы
используем
ориентиры,
чтобы
точно
лока
лизовать
образы
во
времени,
нужно
добавить,
по
мнению
г.
Гюйо,
что эти
ориентиры
берутся
всегда
в
протяжении
или
связаны
с
ним.
Даже
если
мы
избираем
таким
ориентиром
сильное
горе
или
силь
ную
радость,
они
неизбежно
локализуются
в
пространстве
и
лишь
благодаря
этому
могут
быть
локализованы
во
времени,
могут
сами
служить
ориентирами
для
новых
локализаций
во
времени
(р.
67
[52]).
Существует
не
только
аналогия,
но
тождество
между
локали
зациями
во
времени
и
в
пространстве.
Поэтому
мы
можем
изме
рить
время
только
при
помощи
пространства.
«Вы
вспомните,
что
именно
вы
делали
в
определенное
время
в
такой
то
обстановке,
и
вы
сравните
это
воспоминание
с
вашими
наличными
впечатления
ми,
чтобы
сказать:
это
имеет
длину
почти
равную
или
неравную»
(р.
74
[56]).
240
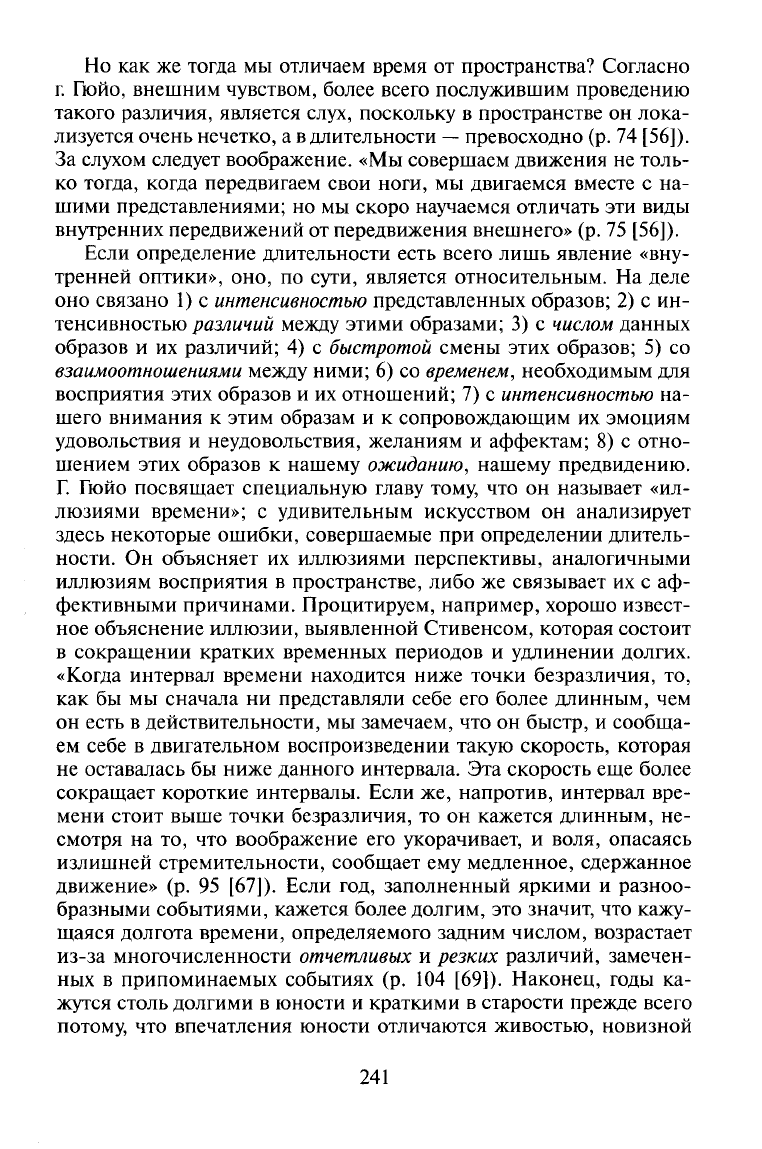
Но
как
же
тогда
мы
отличаем
время
от
пространства?
Согласно
г.
Гюйо,
внешним
чувством,
более
всего
послужившим
проведению
такого
различия,
является
слух,
поскольку
в
пространстве
он
лока
лизуется
очень
нечетко,
а в
длительности
-
превосходно
(р.
74
[56]).
За
слухом
следует
воображение.
«Мы
совершаем
движения
не
толь
ко
тогда,
когда
передвигаем
свои
ноги,
мы
двигаемся
вместе
с
на
шими
представлениями;
но
мы
скоро
научаемся
отличать
эти
виды
внутренних
передвижений
от
передвижения
внешнего»
(р.
75
[56]).
Если
определение
длительности
есть
всего
лишь
явление
«вну
тренней
оптики»,
оно,
по
сути,
является
относительным.
На
деле
оно
связано
1)
с
интенсивностью
представленных
образов;
2)
с
ин
тенсивностью
различий
между
этими
образами;
3)
с
числом
данных
образов
и
их
различий;
4)
с
быстротой
смены
этих
образов;
5)
со
взаимоотношениями
между
ними;
6)
со
временем,
необходимым
для
восприятия
этих
образов
и их
отношений;
7)
с
интенсивностью
на
шего
внимания
к
этим
образам
и
к
сопровождающим
их
эмоциям
удовольствия
и
неудовольствия,
желаниям
и
аффектам;
8)
с
отно
шением
этих
образов
к
нашему
ожиданию,
нашему
предвидению.
г.
Гюйо
посвящает
специальную
главу
тому,
что
он
называет
«ил
люзиями
временю>;
с
удивительным
искусством
он
анализирует
здесь
некоторые
ошибки,
совершаемые
при
определении
длитель
ности.
Он
объясняет
их
иллюзиями
перспективы,
аналогичными
иллюзиям
восприятия
в
пространстве,
либо
же
связывает
их
с
аф
фективными
причинами.
Процитируем,
например,
хорошо
извест
ное
объяснение
иллюзии,
выявленной
Стивенсом,
которая
состоит
в
сокращении
кратких
временных
периодов
и
удлинении
долгих.
«Когда
интервал
времени
находится
ниже
точки
безразличия,
то,
как
бы
мы
сначала
ни
представляли
себе
его
более
длинным,
чем
он
есть
в
действительности,
мы
замечаем, что
он
быстр,
и
сообща
ем
себе
в
двигательном
воспроизведении
такую
скорость,
которая
не
оставалась
бы
ниже
данного
интервала.
Эта
скорость
еще
более
сокращает
короткие
интервалы.
Если
же,
напротив,
интервал
вре
мени
стоит
выше
точки
безразличия,
то
он
кажется
длинным,
не
смотря
на
то,
что
воображение
его
укорачивает,
и
воля,
опасаясь
излишней
стремительности,
сообщает
ему
медленное,
сдержанное
движение»
(р.
95
[67]).
Если
год,
заполненный
яркими
и
разноо
бразными
событиями,
кажется
более
долгим,
это
значит,
что
кажу
щаяся
долгота
времени,
определяемого
задним
числом,
возрастает
из-за
многочисленности
отчетливых
и
резких
различий,
замечен
ных
в
припоминаемых
событиях
(р.
104
[69]).
Наконец,
годы
ка
жутся
столь
долгими
в
юности
и
краткими
в
старости
прежде
всего
потому,
что
впечатления
юности
отличаются
живостью,
новизной
241
