Бергсон Анри. Избранное: Сознание и жизнь
Подождите немного. Документ загружается.

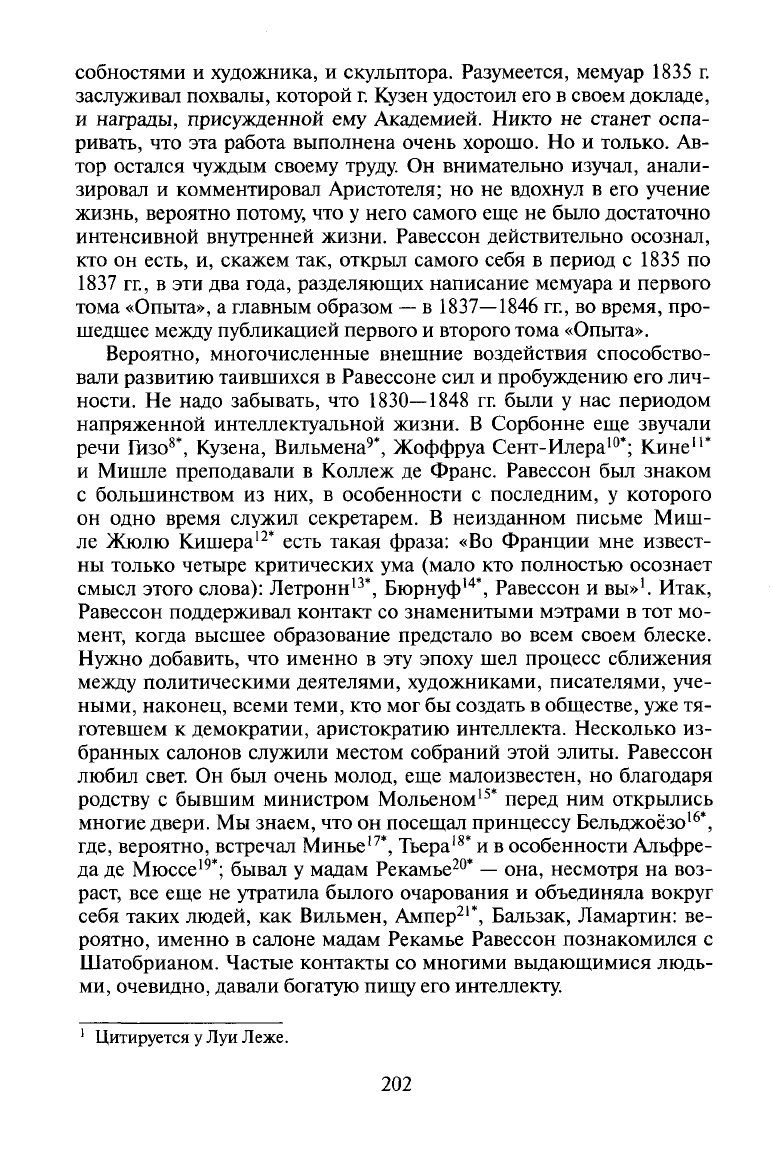
собностями
И
художника,
и
скульптора.
Разумеется,
мемуар
1835
г.
заслуживал
похвалы,
которой
г.
Кузен
удостоил
его
в
своем
докладе,
и
награды,
присужденной
ему
Академией.
Никто
не
станет
оспа
ривать,
что
эта
работа
выполнена
очень
хорошо.
Но
и
только.
Ав
тор
остался
чуждым
своему
труду.
Он
внимательно
изучал,
анали
зировал
и
комментировал
Аристотеля;
но
не
вдохнул
в
его
учение
жизнь,
вероятно
потому,
что
у
него
самого
еще
не
бьmо
достаточно
интенсивной
внутренней
жизни.
Равессон
действительно
осознал,
кто
он
есть,
и,
скажем
так,
открьm
самого
себя
в
период
с
1835
по
1837
гг.,
в
эти
два
года,
разделяющих
написание
мемуара
и
первого
тома
«Опыта»,
а
главным
образом
-
в
1837-1846
П.,
во
время,
про
шедшее
между
публикацией
первого
и
второго
тома
«Опыта».
Вероятно,
многочисленные
внешние
воздействия
способство
вали
развитию
таившихся
в
Равессоне
сил
и
пробуждению
его
лич
ности.
Не
надо
забывать,
что
1830-1848
п.
были
у
нас
периодом
напряженной
интеллектуальной
жизни.
В
Сорбонне
еще
звучали
речи
Гиз0
8
*,
Кузена,
Вильмена
9
*,
Жоффруа
Ceht-Илера
lО
*;
Кине
ll
*
и
Мишле
преподавали
в
Коллеж
де
Франс.
Равессон
бьm
знаком
с
большинством
из
них,
в
особенности
с
последним,
у
которого
он одно
время
служил
секретарем.
В
неизданном
письме
Миш
ле
Жюлю
Кишера
l2
*
есть
такая
фраза:
«Во
Франции
мне
извест
ны
только
четыре
критических
ума
(мало
кто
полностью
осознает
смысл
этого
слова):
Летронн
lЗ
*,
Бюрнуфl4*,
Равессон
и
вы»l.
Итак,
Равессон
поддерживал
контакт
со
знаменитыми
мэтрами
в
тот
мо
мент,
когда
высшее
образование
предстало
во
всем
своем
блеске.
Нужно
добавить,
что
именно
в
эту
эпоху
шел
процесс
сближения
между
политическими
деятелями,
художниками,
писателями,
уче
ными,
наконец,
всеми
теми,
кто
мог
бы
создать
в
обществе,
уже
тя
готевшем к
демократии,
аристократию
интеллекта.
Несколько
из
бранных
салонов
служили
местом
собраний
этой
элиты.
Равессон
любил
свет.
Он
бьm
очень
молод,
еще
малоизвестен,
но
благодаря
родству
с
бывшим
министром
Мольеном
lS
*
перед
ним
открьmись
многие
двери.
Мы
знаем,
что
он
посещал
принцессу
Бельджоёзо
l6
*,
где,
вероятно,
встречал
Минье
l7
*,
Tbepa
l8
*
и
в
особенности
Альфре
да
де
Мюссе
l9
*;
бывал
у
мадам
Рекамье
2О
*
-
она,
несмотря
на
воз
раст,
все
еще
не
утратила
бьmого
очарования
и
объединяла
вокруг
себя
таких
людей,
как
Вильмен,
Ам
пер
2l*,
Бальзак,
Ламартин:
ве
роятно,
именно
в
салоне
мадам
Рекамье
Равессон
познакомился
с
Шатобрианом.
Частые
контакты
со
многими
вьщающимися
людь
ми,
очевидно,
давали
богатую
пищу
его
интеллекту.
I
Цитируется
у
Луи
Леже.
202
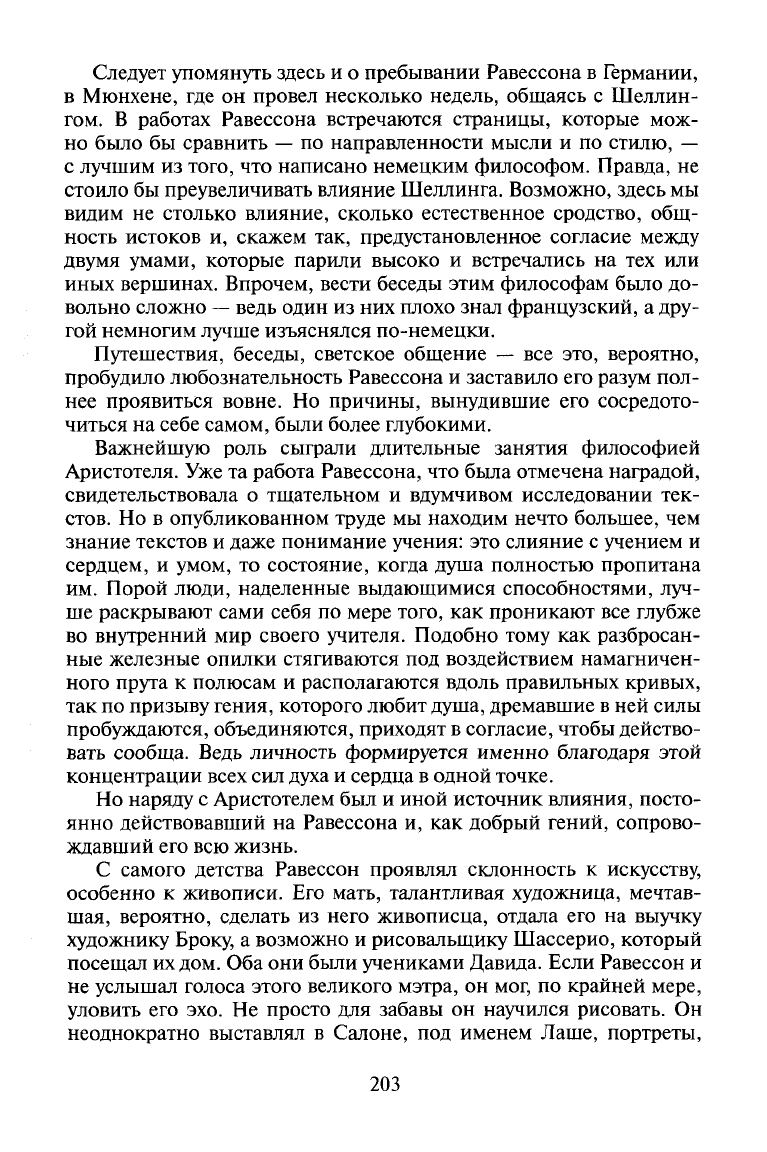
Следует
упомянуть
здесь
и
о
пребывании
Равессона
в
Германии,
в
Мюнхене,
где
он
провел
несколько
недель,
общаясь
с
Шеллин
гом.
В
работах
Равессона
встречаются
страницы,
которые
мож
но
бьmо
бы
сравнить
-
по
направленности
мысли
и
по
стилю,
-
с
лучшим
из
того,
что
написано
немецким
философом.
Правда,
не
стоило
бы
преувеличивать
влияние
Шеллинга. Возможно,
здесь
мы
видим
не
столько
влияние,
сколько
естественное
сродство,
общ
ность
истоков
и,
скажем
так,
предустановленное
согласие
между
двумя
умами,
которые
парили
высоко
и
встречались
на
тех
или
иных
вершинах.
Впрочем,
вести
беседы
этим
философам
бьmо
до
вольно
сложно
-
ведь
один
из
них
плохо
знал
французский,
а
дру
гой
немногим
лучше
изъяснялся
по-
немецки.
Путешествия,
беседы,
светское
общение
-
все
это,
вероятно,
пробудило
любознательность
Равессона
и
заставило
его
разум
пол
нее
проявиться
вовне.
Но
причины,
вынудившие
его
сосредото
читься
на
себе
самом,
бьmи
более
глубокими.
Важнейшую
роль
сыграли
длительные
занятия
философией
Аристотеля.
Уже
та
работа
Равессона,
что
бьmа
отмечена
наградой,
свидетельствовала
о
тщательном
и
вдумчивом
исследовании
тек
cToB.
Но
В
опубликованном
труде
мы
находим
нечто
большее,
чем
знание
текстов
и
даже
понимание
учения:
это
слияние
с
учением
и
сердцем,
и
умом,
то
состояние,
когда
душа
полностью
пропитана
им.
Порой
люди,
наделенные
вьщающимися
способностями,
луч
ше
раскрывают
сами
себя
по
мере
того,
как
проникают
все
глубже
во
внутренний
мир
своего
учителя.
Подобно
тому
как
разбросан
ные
железные
опилки
стягиваются
под
воздействием
намагничен
Hoгo
прута
к
полюсам
и
располагаются
вдоль
прав
ильных
кривых,
так
по
призыву
гения,
которого
любит
душа,
дремавшие
в
ней
силы
пробуждаются,
объединяются,
приходят
в
согласие,
чтобы
действо
вать
сообща.
Ведь
личность
формируется
именно
благодаря
этой
концентрации
всех
сил
духа
и
сердца
в
одной
точке.
Но
наряду
сАристотелем
бьm
и
иной
источник
влияния,
посто
янно
действовавший
на
Равессона
и,
как
добрый
гений,
сопрово
ждавший
его
всю
жизнь.
С
самого
детства
Равессон
проявлял
склонность
к
искусств~
особенно
к
живописи.
Его
мать,
талантливая
художница,
мечтав
шая,
вероятно,
сделать
из
него
живописца,
отдала
его
на
выучку
художнику
Броку,
а
возможно
и
рисовальщику
Шассерио,
который
посещал
их
дом.
Оба
они
бьmи
учениками
Давида.
Если
Равессон
и
не
услышал
голоса
этого
великого
мэтра,
он
мог,
по
крайней
мере,
уловить
его
эхо.
Не
просто
для забавы
он
научился
рисовать.
Он
неоднократно
выставлял
в
Салоне,
под
именем
Лаше,
портреты,
203
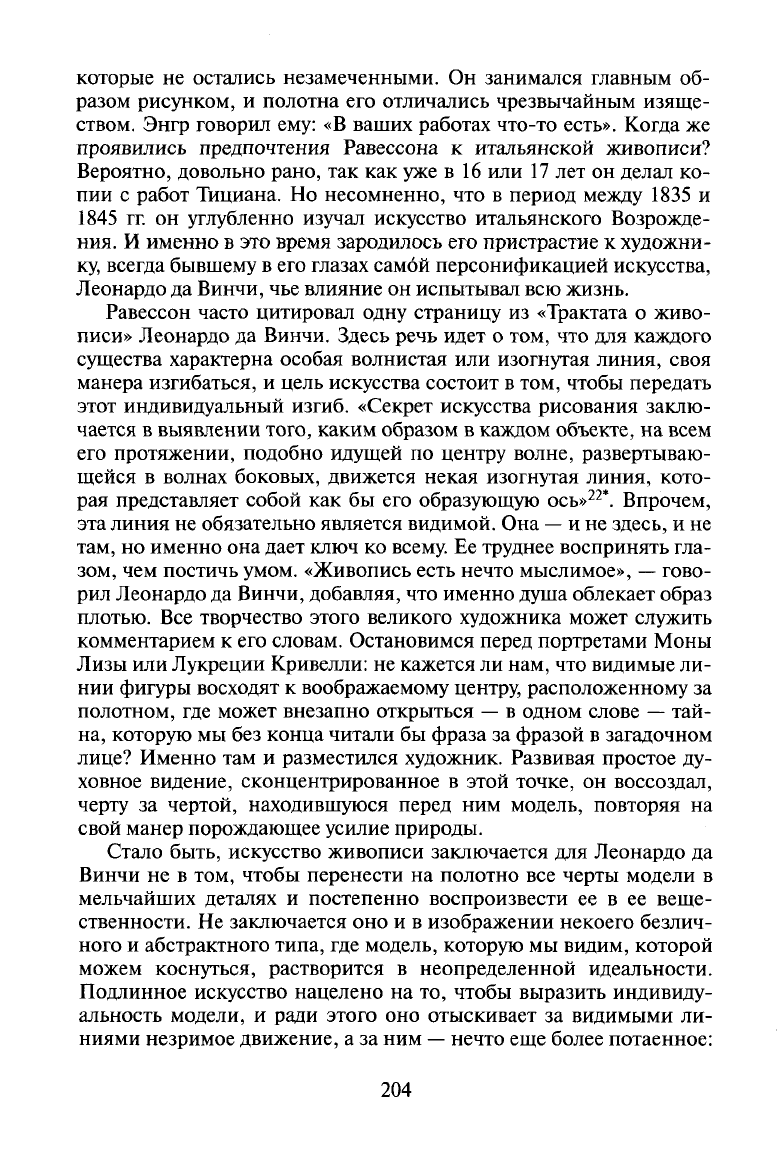
которые
не
остались
незамеченными.
Он
занимался
главным
об
разом
рисунком,
и
полотна
его
отличались
чрезвычайным
изяще
ством.
Энгр
говорил
ему:
«В
ваших
работах
что-то
есть».
Когда
же
проявились
предпочтения
Равессона
к
итальянской
живописи?
Вероятно,
довольно
рано,
так
как
уже
в
16
или
17
лет
он
делал
ко
пии
с
работ
Тициана.
Но
несомненно,
что
в
период
между
1835
и
1845
п.
он
углубленно
изучал
искусство
итальянского
Возрожде
ния.
И
именно
в
это
время
зародилось
его
при
страсти
е
к
художни
ку,
всегда
бывшему
в
его
глазах
самой
персонификацией
искусства,
Леонардо
да
Винчи,
чье
влияние он
испытывал
всю
жизнь.
Равессон
часто
цитировал
одну страницу
из
«Трактата
о
живо
писи»
Леонардо
да
Винчи.
Здесь
речь идет
о
том,
что
для
каждого
существа
характерна
особая
волнистая
или
изогнутая
линия,
своя
манера
изгибаться,
и
цель
искусства
состоит
в
том,
чтобы
передать
этот
индивидуальный
изгиб.
«Секрет
искусства
рисования
заклю
чается
в
выявлении
того,
каким
образом
в
каждом
объекте,
на
всем
его
протяжении,
подобно
идущей
по
центру
волне,
развертываю
щейся
в
волнах
боковых,
движется
некая
изогнутая
линия,
кото
рая
представляет
собой
как
бы
его
образующую
ось»22*.
Впрочем,
эта
линия
не
обязательно
является
видимой.
Она
-
и
не
здесь,
и
не
там,
но
именно
она
дает
ключ
ко
всему.
Ее
труднее
воспринять
гла
зом,
чем
постичь
умом.
«Живопись
есть
нечто
мыслимое»,
-
гово
рил
Леонардо
да
Винчи,
добавляя,
что
именно
душа
облекает
образ
плотью.
Все
творчество
этого
великого
художника
может
служить
комментарием
к
его
словам.
Остановимся
перед
портретами
Моны
Лизы
или
Лукреции
Кривелли:
не
кажется
ли
нам,
что
видимые
ли
нии
фигуры
восходят
к
воображаемому
центру,
расположенному
за
полотном,
где
может
внезапно
открыться
-
в
одном
слове
-
тай
на,
которую
мы
без
конца
читали
бы
фраза
за
фразой
в
загадочном
лице?
Именно
там
и
разместился
художник.
Развивая
простое
ду
ховное
видение,
сконцентрированное
в
этой
точке,
он
воссоздал,
черту
за
чертой,
находившуюся
перед
ним
модель,
повторяя
на
свой
манер
порождающее
усилие
природы.
Стало
быть,
искусство
живописи
заключается
для
Леонардо
да
Винчи
не
в
том,
чтобы
перенести
на
полотно
все
черты
модели
в
мельчайших
деталях
и
постепенно
воспроизвести
ее в ее
веще
ственности.
Не
заключается
оно
и
в
изображении
некоего
безлич
ного
и
абстрактного
типа,
где
модель,
которую
мы
видим,
которой
можем
коснуться,
растворится
в
неопределенной
идеальности.
Подлинное
искусство
нацелено
на
то,
чтобы
выразить
индивиду
альность
модели,
и
ради
этого
оно
отыскивает
за
видимыми
ли
ниями
незримое
движение,
а
за
ним
-
нечто
еще
более
потаенное:
204
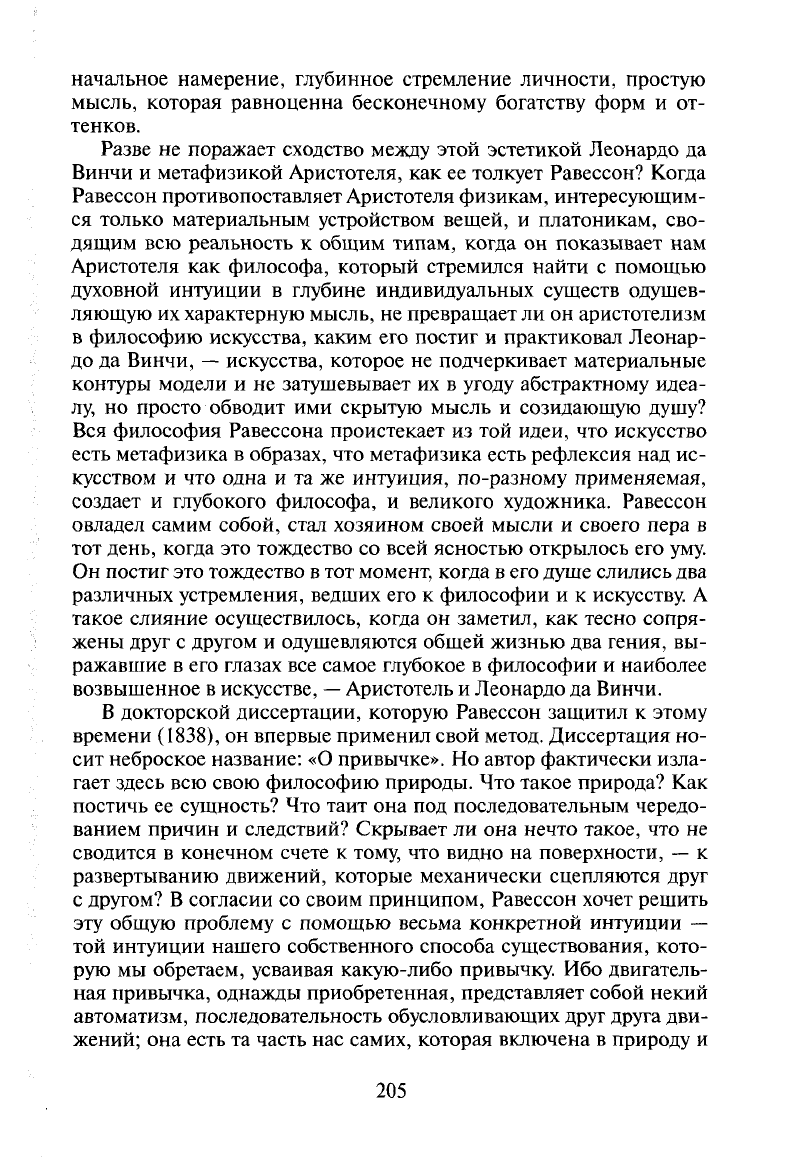
начальное
намерение,
глубинное
стремление
личности,
простую
мысль,
которая
равноценна
бесконечному
богатству
форм
и
от
тенков.
Разве
не
поражает
сходство
между
этой
эстетикой
Леонардо
да
Винчи
и
метафизикой
Аристотеля,
как
ее
толкует
Равессон?
Когда
Равессон
противопоставляет
Аристотеля
физикам,
интересующим
ся
только
материальным
устройством
вещей,
и
платоникам,
сво
дящим
всю
реальность
к
общим
типам,
когда
он
показывает
нам
Аристотеля
как
философа,
который
стремился
найти
с
помощью
духовной
интуиции
в
глубине
индивидуальных
существ
одушев
ляющую
их
характерную
мысль,
не
превращает
ли
он
аристотелизм
в
философию
искусства,
каким
его
постиг
и
практиковал
Леонар
до
да
Винчи,
-
искусства,
которое
не
подчеркивает
материальные
контуры
модели
и
не
затушевывает
их
в
угоду
абстрактному
идеа
лу,
но
просто
обводит
ими
скрытую
мысль
и
созидающую
душу?
Вся
философия
Равессона
проистекает
из
той
идеи,
что
искусство
есть
метафизика
в
образах,
что
метафизика
есть
рефлексия
над
ис
кусством
и
что
одна
и
та
же
интуиция,
по-разному
применяемая,
создает
и
глубокого
философа,
и
великого
художника.
Равессон
овладел
самим
собой,
стал
хозяином
своей
мысли
и
своего
пера
в
тот
день,
когда
это
тождество
со
всей
ясностью
открылось
его
уму.
Он
постиг
это
тождество
в
тот
момент,
когда
в
его
душе
слились
два
различных
устремления,
ведших
его
к
философии
и
к
искусству.
А
такое
слияние
осуществилось,
когда
он
заметил,
как
тесно
сопря
жены
друг
с
другом
и
одушевляются
общей
жизнью
два
гения,
вы
ражавшие
в
его
глазах
все
самое
глубокое
в
философии
и
наиболее
возвышенное
в
искусстве,
-
Аристотель
и
Леонардо
да
Винчи.
В
докторской
диссертации,
которую
Равессон
защитил
к
этому
времени
(1838),
он
впервые
применил
свой
метод.
Диссертация
но
сит
неброское
название:
«О
привычке».
Но
автор
фактически
изла
гает
здесь
всю
свою
философию
природы.
Что
такое
природа?
Как
постичь
ее
сущность?
Что
таит
она под
последовательным
чередо
ванием
причин
и
следствий?
Скрывает
ли
она
нечто
такое,
что
не
сводится
в
конечном
счете
к
тому,
что
видно
на
поверхности,
- к
развертыванию
движений,
которые
механически
сцепляются
друг
с
другом?
В
согласии
со
своим
принципом,
Равессон
хочет
решить
эту
общую
проблему
с
помощью
весьма
конкретной
интуиции
-
той
интуиции
нашего
собственного
способа
существования,
кото
рую
мы
обретаем,
усваивая
какую-либо
привычку.
Ибо
двигатель
ная
привычка,
однажды
приобретенная,
представляет
собой
некий
автоматизм,
последовательность
обусловливающих
друг
друга
дви
жений; она
есть та
часть
нас
самих,
которая
включена
в
природу
и
205
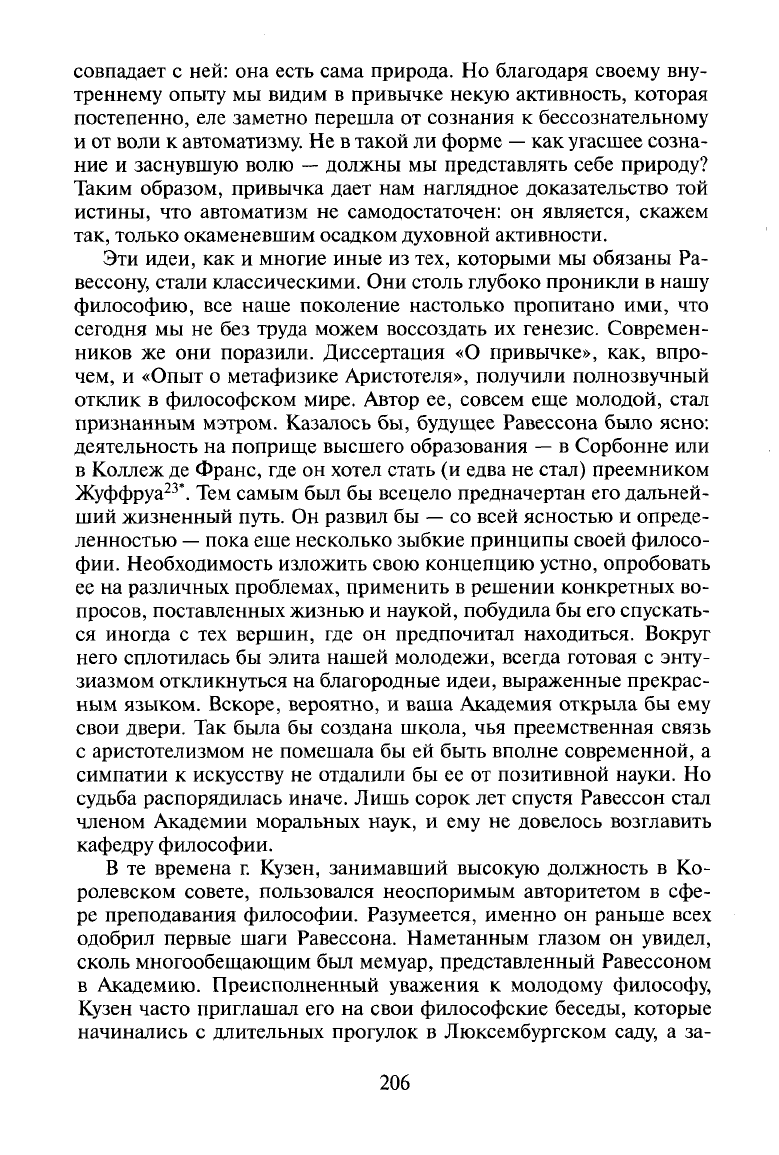
совпадает
с
ней:
она
есть
сама
природа.
Но
благодаря
своему
вну
треннему
опыту
мы
видим
в
привычке
некую
активность,
которая
постепенно,
еле
заметно
перешла
от
сознания
к
бессознательному
и
от
воли
к
автоматизму.
Не
в
такой
ли
форме
-
как
угасшее
созна
ние и
заснувшую
волю
-
должны
мы
представлять
себе
природу?
Таким
образом,
привычка
дает
нам
наглядное
доказательство
той
истины,
что
автоматизм
не
самодостаточен:
он
является,
скажем
так,
только
окаменевшим
осадком
духовной
активности.
Эти
идеи,
как
и многие
иные
из
тех,
которыми
мы
обязаны
Ра
вессону,
стали
классическими.
Они
столь
глубоко
про
никли
в
нашу
философию,
все
наше
поколение
настолько
пропитано
ими,
что
сегодня
мы
не
без
труда
можем
воссоздать
их
генезис.
Современ
ников
же
они
поразили.
Диссертация
«О
привычке»,
как,
впро
чем,
и
«Опыт
О
метафизике
Аристотеля»,
получили
полнозвучный
отклик
в
философском
мире.
Автор
ее,
совсем
еще
молодой,
стал
признанным
мэтром.
Казалось
бы,
будущее
Равессона
бьшо
ясно:
деятельность
на
поприще
высшего
образования
-
в
Сорбонне
или
в
Коллеж
де
Франс,
где
он
хотел
стать
(и
едва
не
стал)
преемником
Жуффруа
2З
*.
Тем
самым
бьш
бы
всецело
предначертан
его
дальней
ший
жизненный
путь.
Он
развил
бы
-
со
всей
ясностью и
опреде
ленностью
-
пока
еще
несколько
зыбкие
принципы
своей
филосо
фии.
Необходимость
изложить
свою
концепцию
устно,
опробовать
ее
на
различных
проблемах,
применить
в
решении
конкретных
во
просов,
поставленных
жизнью
и
наукой,
побудила
бы
его
спускать
ся
иногда
с
тех
вершин,
где
он
предпочитал
находиться.
Вокруг
него
сплотилась
бы
элита
нашей
молодежи,
всегда
готовая
с
энту
зиазмом
откликнуться на
благородные
идеи,
выраженные
прекрас
ным
языком.
Вскоре,
вероятно,
и
ваша
Академия
открьша
бы
ему
свои
двери.
Так
была
бы
создана
школа,
чья
преемственная
связь
с
аристотелизмом
не
помешала
бы
ей
быть
вполне
современной,
а
симпатии
к
искусству не
отдалили
бы
ее
от
позитивной
науки.
Но
судьба
распорядилась
иначе.
Лишь
сорок
лет
спустя
Равессон
стал
членом
Академии
моральных
наук,
и
ему
не
довел
ось
возглавить
кафедру
философии.
В
те
времена
г.
Кузен,
занимавший
высокую
должность
в
Ко
ролевском
совете,
пользовался
неоспоримым
авторитетом
в
сфе
ре
преподавания
философии.
Разумеется,
именно
он
раньше
всех
одобрил
первые
шаги
Равессона.
Наметанным
глазом
он
увидел,
сколь
многообещающим
бьш
мемуар,
представленный
Равессоном
в
Академию.
Преисполненный
уважения
к
молодому
философу,
Кузен
часто
приглашал
его
на
свои
философские
беседы,
которые
начинались
с
длительных
про
гулок
в
Люксембургском
саду,
а
за-
206
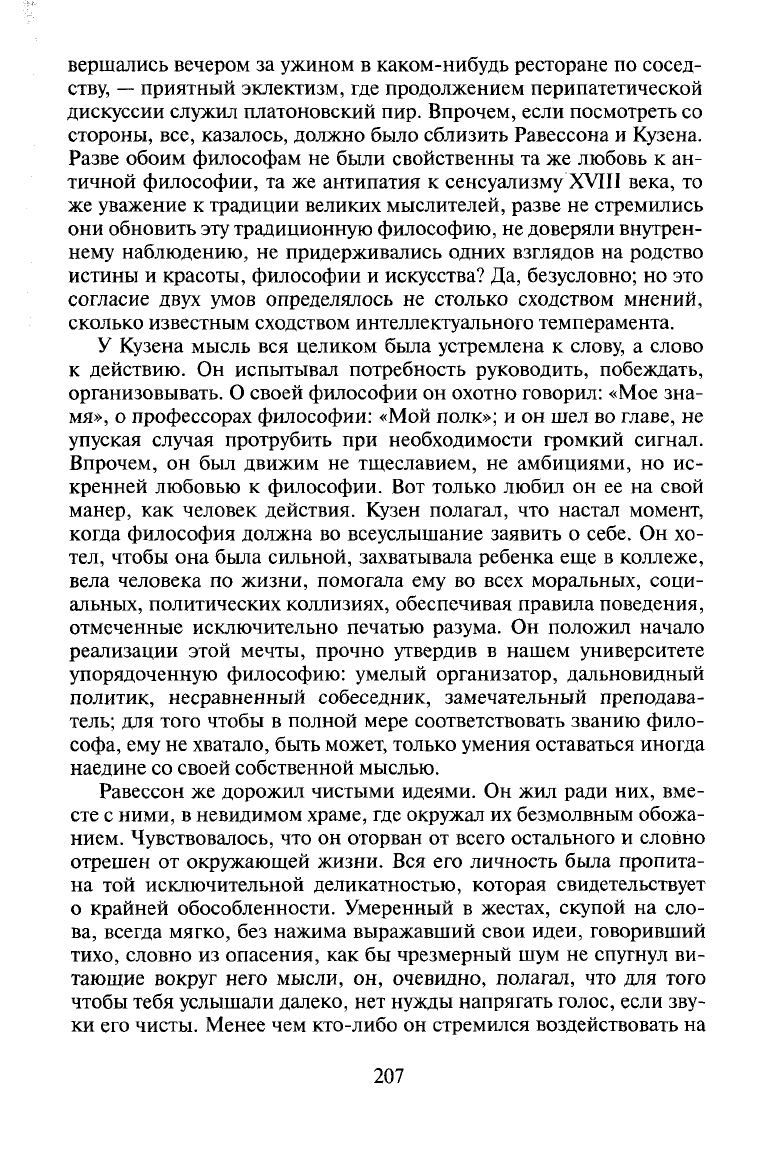
вершались
вечером
за
ужином
в
каком-нибудь
ресторане
по
сосед
ству,
-
приятный
эклектизм,
где
продолжением
перипатетической
дискуссии
служил
платоновекий
пир.
Впрочем,
если
посмотреть
со
стороны,
все,
казалось,
должно
было
сблизить
Равессона
и
Кузена.
Разве
обоим
философам
не
бьmи
свойственны
та
же
любовь
к
ан
тичной
философии,
та
же
антипатия
к
сенсуализмуХVIII
века,
то
же
уважение
к
традиции
великих
мыслителей,
разве
не
стремились
они
обновить
эту
традиционную
философию,
не
доверяли
внутрен
нему
наблюдению,
не
придерживались
одних
взглядов
на
родство
истины
и
красоты,
Философии
и
искусства?
Да,
безусловно;
но
это
согласие
двух
умов
определялось
не
столько
сходством
мнений,
сколько
известным
сходством
интеллектуального
темперамента.
У
Кузена
мысль
вся
целиком
бьmа
устремлена
к
слову,
а
слово
к
действию.
Он
испытывал
потребность
руководить,
побеЖдать,
организовывать.
О
своей
философии
он
охотно
говорил:
«Мое
зна
МЯ»,
О
профессорах
философии:
«Мой
полк»;
и
он
шел
во
главе,
не
упуская
случая
протрубить
при
необходимости
громкий
сигнал.
Впрочем,
он
бьm
движим
не
тщеславием,
не
амбициями,
но
ис
кренней
любовью
к
философии.
Вот
только
любил
он
ее
на
свой
манер,
как
человек
действия.
Кузен
полагал,
что
настал
момент,
когда
философия
должна
во
всеуслышание
заявить о
себе.
Он
хо
тел,
чтобы
она
бьmа
сильной,
захватывала
ребенка
еще
в
коллеже,
вела
человека
по
жизни,
помогала
ему
во
всех
моральных,
соци
альных,
политических
коллизиях,
обеспечивая
правила
поведения,
отмеченные
исключительно
печатью
разума.
Он
положил
начало
реализации
этой
мечты,
прочно
утвердив
в
нашем
университете
упорядоченную
философию:
умелый
организатор,
дальновидный
политик,
несравненный
собеседник,
замечательный
преподава
тель;
для
того
чтобы
в
полной
мере
соответствовать
званию
фило
софа,
ему
не
хватало,
быть
может,
только
умения
оставаться
иногда
наедине
со
своей
собственной
мыслью.
Равессон
же
дорожил чистыми
идеями.
Он
жил
ради
них,
вме
сте
с
ними,
в
невидимом
храме,
где
окружал
их
безмолвным
обожа
нием.
Чувствовалось,
что
он
оторван
от
всего
остального
и
словно
отрешен
от
окружающей
жизни.
Вся
его
личность
бьmа
пропита
на
той
исключительной
деликатностью,
которая
свидетельствует
о
крайней
обособленности.
Умеренный
в
жестах,
скупой
на
сло
ва,
всегда
мягко,
без
нажима
выражавший
свои
идеи,
говоривший
тихо,
словно
из
опасения,
как
бы
чрезмерный
шум
не
спугнул
ви
тающие
вокруг
него
мысли,
он,
очевидно,
полагал,
что
для
того
чтобы
тебя
услышали
далеко,
нет
НУЖды
напрягать
голос,
если
зву
ки
его
чисты.
Менее
чем
кто-либо
он
стремился
воздействовать
на
207
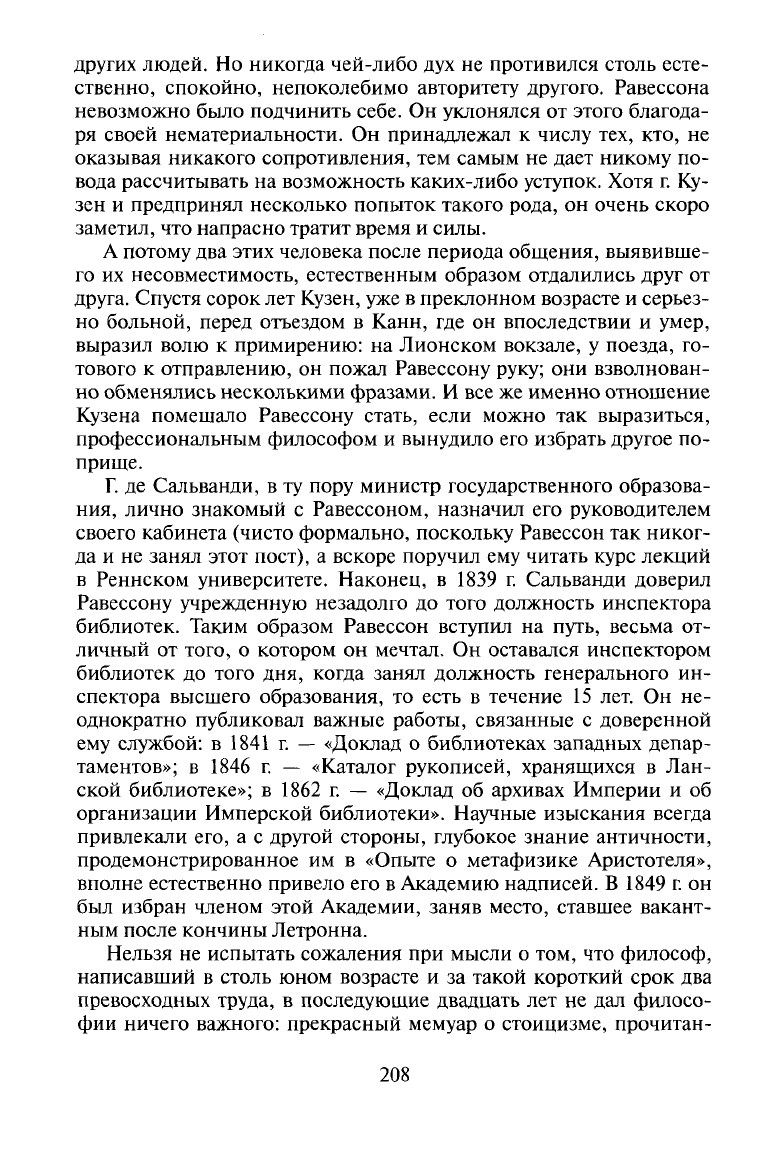
других
людей.
Но
никогда
чей-либо
дух
не
противился
столь
есте
ственно,
спокойно,
непоколебимо
авторитету
другого.
Равессона
невозможно
бьmо
подчинить
себе.
Он
уклонялся
от
этого
благода
ря
своей
нематериальности.
Он
принадлежал
к
числу
тех,
кто,
не
оказывая
никакого
сопротивления,
тем
самым
не
дает
никому
по
вода
рассчитывать
на
возможность
каких-либо
уступок.
Хотя
г.
Ку
зен
и
предпринял
несколько
попыток
такого
рода,
он
очень
скоро
заметил,
что
напрасно
тратит
время
и
силы.
А
потому
два
этих
человека
после
периода
общения,
выявивше
го
их
несовместимость,
естественным
образом
отдалились
друг
от
друга.
Спустя
сорок
лет
Кузен,
уже
в
преклонном
возрасте
и
серьез
но
больной,
перед
отъездом
в
Канн,
где
он
впоследствии
и
умер,
выразил
волю
к
примирению:
на
Лионском
вокзале,
у
поезда,
го
тового
к
отправлению,
он
пожал
Равессону
руку;
они
взволнован
но
обменялись
несколькими
фразами.
И
все
же
именно
отношение
Кузена
помешало
Равессону
стать,
если
можно
так выразиться,
профессиональным
философом
и
вынудило
его
избрать
другое по
прище.
Г.
де
Сальванди,
в
ту
пору
министр
государственного
образова
ния,
лично
знакомый
с
Равессоном,
назначил
его
руководителем
своего
кабинета
(чисто
формально,
поскольку
Равессон
так
никог
да
и
не
занял
этот
пост),
а
вскоре
поручил
ему
читать
курс
лекций
в
Реннском
университете.
Наконец,
в
1839
г.
Сальванди
доверил
Равессону
учрежденную
незадолго
до
того
должность
инспектора
библиотек.
Таким
образом
Равессон
вступил
на
путь,
весьма
от
личный
от
того,
о
котором
он
мечтал.
Он
оставался
инспектором
библиотек
до
того дня,
когда занял
должность
генерального
ин
спектора
высшего
образования,
то
есть
в
течение
15
лет.
Он
не
однократно
публиковал
важные
работы,
связанные
с
доверенной
ему
службой:
в
1841
г.
-
«Доклад
О
библиотеках
западных
депар
таментов»;
в
1846
г.
-
«Каталог
рукописей,
хранящихся
в
Лан
ской
библиотеке»;
в
1862
г.
-
«Доклад
об
архивах
Империи
и
об
организации
Имперской
библиотеки».
Научные
изыскания
всегда
привлекали
его,
а
с
другой
стороны,
глубокое
знание
античности,
продемонстрированное
им
в
«Опыте
О
метафизике
Аристотеля»,
вполне
естественно
привело
его
в
Академию
надписей.
В
1849
r.
он
был
избран
членом
этой
Академии,
заняв
место,
ставшее
вакант
ным
после
кончины
Летронна.
Нельзя
не
испытать
сожаления
при
мысли
о
том,
что
философ,
написавший
в
столь
юном
возрасте
и
за
такой
короткий
срок
два
превосходных
труда,
в
последующие
двадцать
лет
не
дал
филосо
фии
ничего
важного:
прекрасный
мемуар
о
стоицизме,
прочитан-
208
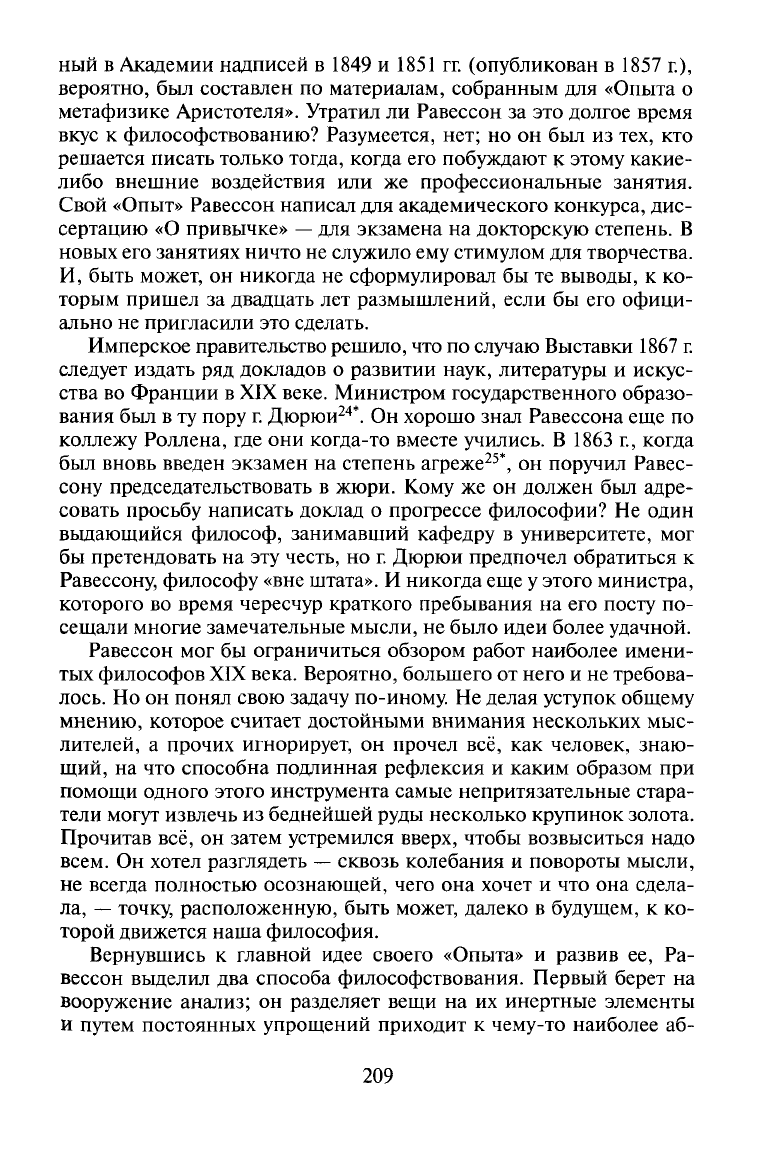
ный
В
Академии
надписей
в
1849
и
1851
п.
(опубликован
в
1857
г.),
вероятно,
бьш
составлен
по
материалам,
собранным
для
«Опыта
о
метафизике
Аристотеля».
Утратил
ли
Равессон
за
это
долгое
время
вкус
к
философствованию?
Разумеется,
нет;
но
он
бьш
из
тех,
кто
решается
писать
только
тогда,
когда
его
побуждают
к
этому
какие
либо
внешние
воздействия
или
же
профессиональные
занятия.
Свой
«Опыт»
Равессон
написал
для
академического
конкурса, дис
сертацию
«О
привычке»
-
для
экзамена
на
докторскую
степень.
В
новых
его
занятиях
ничто
не
служило
ему
стимулом
для
творчества.
И,
быть
может,
он
никогда
не
сформулировал
бы
те
выводы,
к
ко
торым
пришел
за
двадцать
лет
размышлений,
если
бы
его
офици
ально
не
пригласили
это
сделать.
Имперское
правительство
решило,
что
по
случаю
Выставки
1867
г.
следует
издать
ряд
докладов
о
развитии
наук,
литературы
и
искус
ства
во
Франции
в
XIX
веке.
Министром
государственного
образо
вания
бьш
в
ту
пору
г.
Дюрюи
24
*.
Он
хорошо
знал
Равессона
еще
по
коллежу
Роллена,
где
они
когда-то
вместе
учились.
В
1863
г.,
когда
был
вновь
введен
экзамен
на
степень
агреже
2S
*,
он
поручил
Равес
сону
председательствовать
в
жюри.
Кому
же
он
должен
бьш
адре
совать
просьбу написать
доклад
о
прогрессе
философии?
Не
один
выдающийся
философ,
занимавший
кафедру
в
университете,
мог
бы
претендовать
на
эту
честь,
но
г.
Дюрюи
предпочел
обратиться
к
Равессону,
философу
«вне
штата».
И
никогда
еще
у
этого
министра,
которого
во
время
чересчур
краткого
пребывания
на
его
посту
по
сещали
многие
замечательные
мысли,
не
было
идеи
более удачной.
Равессон
мог
бы
ограничиться
обзором
работ
наиболее
имени
тых
философов
XIX
века.
Вероятно,
большего
от
него
и
не
требова
лось.
Но
он
понял
свою
задачу
по-иному.
Не
делая
уступок
общему
мнению,
которое
считает
достойными
внимания
нескольких
мыс
лителей,
а
прочих
игнорирует,
он
прочел
всё,
как
человек,
знаю
щий,
на
что
способна
подлинная
рефлексия и
каким
образом
при
помощи
одного
этого
инструмента
самые
непритязательные
стара
тели
могут
извлечь
из
беднейшей
руды
несколько
крупинок
золота.
Прочитав
всё,
он
затем
устремился
вверх,
чтобы
возвыситься
надо
всем.
Он
хотел
разглядеть
-
сквозь
колебания
и
повороты
мысли,
не
всегда
полностью
осознающей,
чего
она
хочет
и
что
она
сдела
ла,
-
точку,
расположенную,
быть
может,
далеко
в
будущем,
к
ко
торой
движется
наша
философия.
Вернувшись
к
главной
идее
своего
«Опыта»
И
развив
ее,
Ра
вессон
вьщелил
два
способа
философствования.
Первый
берет
на
вооружение
анализ;
он
разделяет
вещи
на их
инертные
элементы
и
путем
постоянных
упрощений
приходит
к
чему-то
наиболее
аб-
209
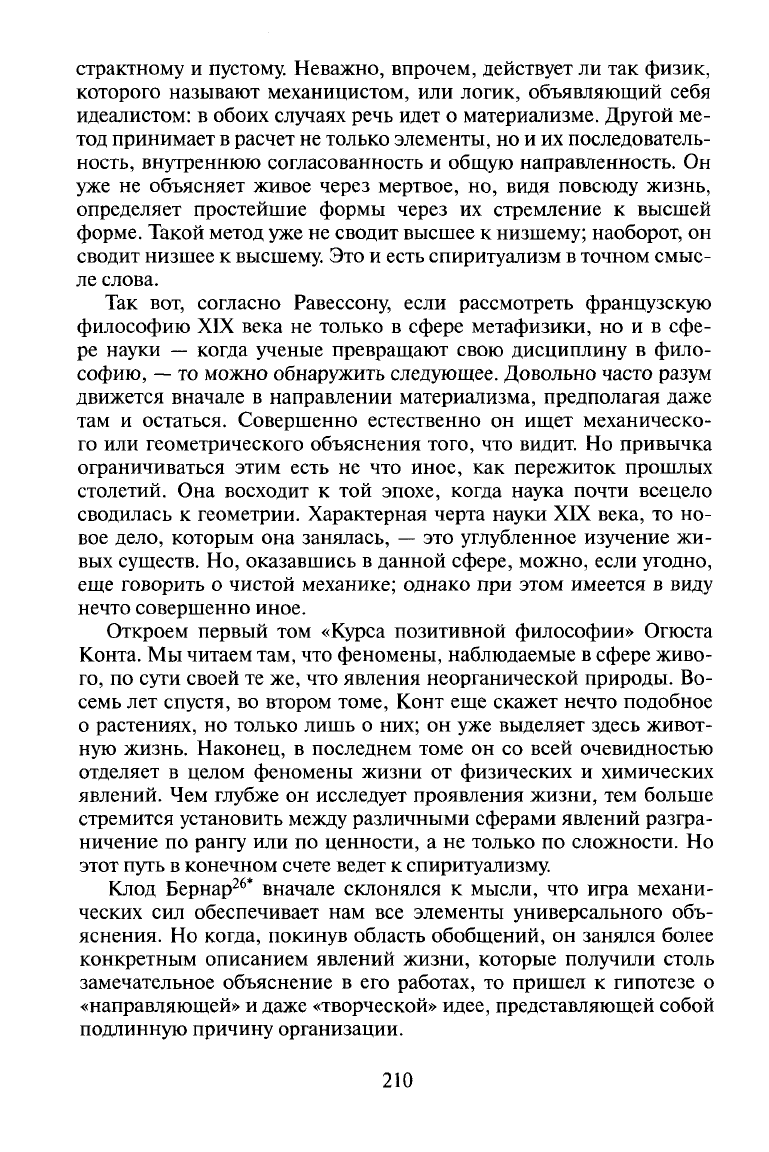
страктному
и
пустому.
Неважно,
впрочем,
действует
ли
так
физик,
которого
называют
механицистом,
или
логик,
объявляющий
себя
идеалистом:
в
обоих
случаях
речь идет
о
материализме.
Другой
ме
тод
принимает
в
расчет
не
только
элементы,
но
и их
последователь
ность,
внутреннюю
согласованность
и
общую
направленность.
Он
уже
не
объясняет
живое
через
мертвое,
но,
видя
повсюду
жизнь,
определяет
простейшие
формы
через
их
стремление
к
высшей
форме.
Такой
метод
уже
не
сводит
высшее
к
низшему;
наоборот,
он
сводит
низшее
к
высшему.
Это
и
есть
спиритуализм
в
точном
смыс
ле
слова.
Так
вот,
согласно
Равессону,
если
рассмотреть
французскую
философию
XIX
века
не
только
в
сфере
метафизики,
но
и
в
сфе
ре
науки
-
когда
ученые
превращают
свою
дисциплину
в
фило
софию,
-
то
можно
обнаружить
следующее.
Довольно
часто
разум
движется
вначале
в
направлении
материализма,
предполагая
даже
там
и
остаться.
Совершенно
естественно
он
ищет
механическо
го
или
геометрического
объяснения
того,
что
видит.
Но
привычка
ограничиваться
этим
есть
не
что
иное,
как
пережиток
прошлых
столетий.
Она
восходит
к
той
эпохе,
когда
наука
почти
всецело
сводилась
к
геометрии.
Характерная
черта
науки
XIX
века,
то
но
вое
дело,
которым
она
занялась,
-
это
углубленное
изучение
жи
вых
существ.
Но,
оказавшись
в
данной
сфере,
можно,
если
угодно,
еще
говорить
о
чистой
механике;
однако
при
этом
имеется
в
виду
нечто
совершенно
иное.
Откроем
первый
том
«Курса
позитивной
философию>
Огюста
Конта.
Мы
читаем
там,
что
феномены,
наблюдаемые
в
сфере
живо
го,
по
сути
своей
те
же,
что
явления
неорганической
природы.
Во
семь
лет
спустя,
во
втором
томе,
Конт
еще
скажет
нечто
подобное
о
растениях,
но
только
лишь
о них;
он
уже
выделяет
здесь
живот
ную
жизнь.
Наконец,
в
последнем
томе
он
со
всей
очевидностью
отделяет
в
целом
феномены
жизни
от
физических
и
химических
явлений.
Чем
глубже
он
исследует
проявления
жизни,
тем
больше
стремится
установить
меЖдУ различными
сферами
явлений
разгра
HичeHиe
по
рангу
или
по
ценности,
а
не
только
по
сложности.
Но
этот
путь
в
конечном
счете
ведет
к
спиритуализму.
Клод
Бернар26*
вначале
склонялся
к
мысли,
что
игра
механи
-
ческих
сил
обеспечивает
нам
все
элементы
универсального
объ
яснения.
Но
когда,
покинув
область
обобщений,
он
занялся
более
конкретным
описанием
явлений
жизни,
которые
получили
столь
замечательное
объяснение
в
его
работах,
то
пришел
к
гипотезе
о
«направляющей»
И
даже
«творческой»
идее,
представляющей
собой
подлинную
причину
организации.
210
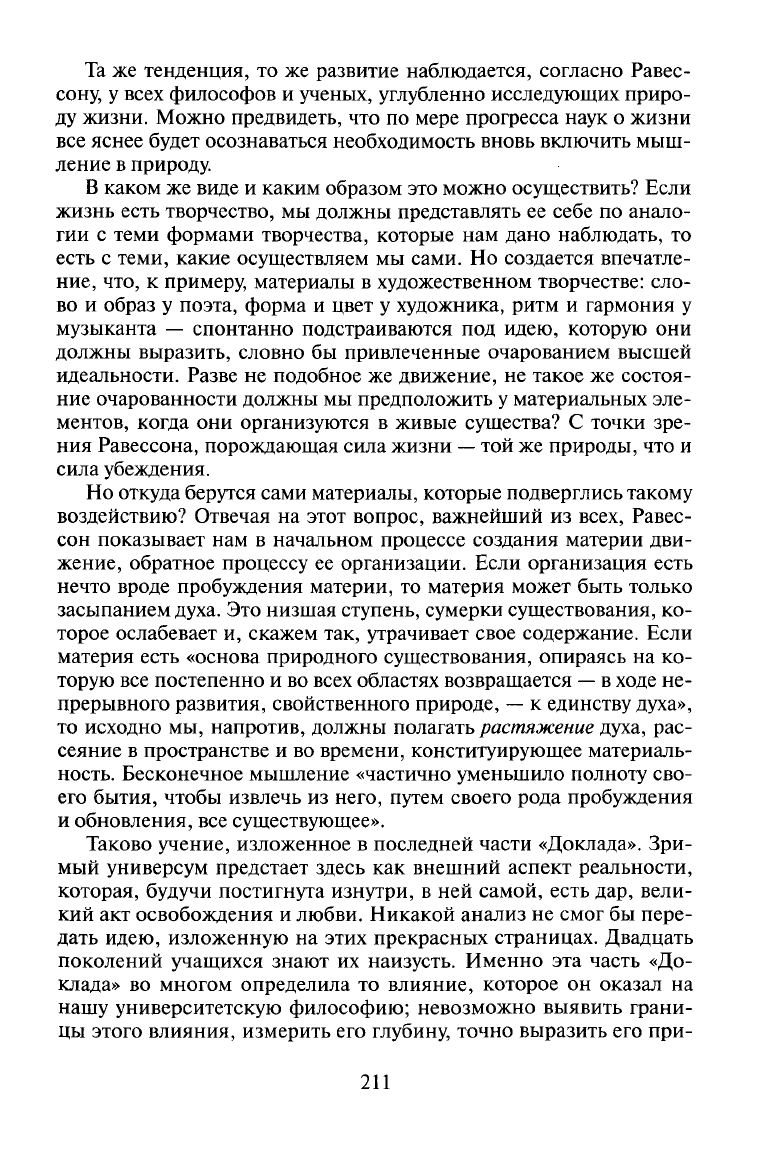
Та
же
тенденция,
то
же
развитие
наблюдается,
согласно
Равес
сону,
у
всех
философов
и
ученых,
углубленно
исследующих
приро
ду
жизни.
Можно
предвидеть,
что
по
мере
прогресса
наук
о
жизни
все
яснее
будет
осознаваться
необходимость
вновь
включить
мыш
лeHиe
в
природу.
В
каком
же
виде
и
каким
образом
это
можно
осуществить?
Если
жизнь
есть
творчество,
мы
должны
представлять
ее
себе
по
анало
гии
с
теми
формами
творчества,
которые
нам
дано
наблюдать,
то
есть
с
теми,
какие
осуществляем
мы
сами.
Но
создается
впечатле
ние,
что,
к
примеру,
материалы
в
художественном
творчестве:
сло
во
и
образ у
поэта,
форма
и
цвет
у
художника,
ритм
и гармония
у
музыканта
-
спонтанно
подстраиваются
под
идею,
которую
они
должны
выразить,
словно
бы
привлеченные
очарованием
высшей
идеальности.
Разве
не
подобное
же
движение,
не
такое
же
состоя
ние
очарованности
должны
мы
предположить
у
материальных
эле
ментов,
когда
они
организуются
в
живые
существа?
С
точки
зре
ния
Равессона,
порождающая
сила
жизни
-
той
же
природы,
что
и
сила
убеждения.
Но
откуда
берутся
сами
материалы,
которые
подверглись
такому
воздействию?
Отвечая
на
этот
вопрос,
важнейший
из
всех,
Равес
сон
показывает
нам
в
начальном
процесс
е
создания
материи
дви
жение,
обратное
процессу
ее
организации.
Если
организация
есть
нечто
вроде
пробуждения
материи,
то
материя
может
быть
только
засыпанием
духа.
Это
низшая
ступень,
сумерки
существования,
ко
торое
ослабевает
и,
скажем
так,
утрачивает
свое
содержание.
Если
материя
есть
«основа
природного
существования,
опираясь
на
ко
торую
все
постепенно
и
во
всех
областях
возвращается
-
в
ходе
не
прерывного
развития,
свойственного
природе,
-
к
единству
духа»,
то
исходно
мы,
напротив,
должны
полагать
растяжение
духа,
рас
сеяние
в
пространстве
и
во
времени,
конституирующее
материаль
ность.
Бесконечное
мышление
«частично
уменьшило
полноту
сво
его
бытия,
чтобы
извлечь
из
него,
путем
своего
рода
пробуждения
и
обновления,
все
существующее».
Таково
учение,
изложенное
в
последней
части
«Доклада».
Зри
мый
универсум
предстает
здесь
как
внешний
аспект
реальности,
которая,
будучи
постигнута
изнутри,
в
ней
самой,
есть
дар,
вели
кий
акт
освобождения
и
любви.
Никакой
анализ
не
смог
бы
пере
дать
идею,
изложенную
на
этих
прекрасных
страницах.
Двадцать
поколений
учащихся
знают
их
наизусть.
Именно
эта
часть
«До
клада»
во
многом
определила
то
влияние,
которое
он
оказал
на
нашу
университетскую
философию;
невозможно
выявить
грани
цы
этого
влияния,
измерить
его
глубину,
точно
выразить
его
при-
211
