Азадовский М.К. История русской фольклористики
Подождите немного. Документ загружается.


М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
«Опыт собрания старинных малороссийских песней» (1819) представляет
собой крупнейшую дату как в истории украинской, так и русской
фольклористики; большой интерес представляет и цитированное уже выше
«Рассуждение о старинных малороссийских песнях», являющееся
предисловием к данному сборнику. Это предисловие всецело в орбите тех
споров о народности и народной поэзии, которые были характерны для
русского общества в первых десятилетиях XIX века, хотя в его позиции и
имеются некоторые своеобразные черты, обусловленные спецификой
украинского материала.
Прежние исследователи (М. Н. Сперанский, М. Мочульский) пытались
изобразить Цертелева типичным украинским романтиком. В какой-то
степени он, действительно, перекликается с романтиками, когда толкует
украинские думы как «обломки прошедшего», проецирует их в прошлое и в
такой проекции рассматривает вообще весь фольклор. Но одновременно он
резко восстает против ограниченных и примитивных фольклорных
стилизаций в творчестве ранних романтиков и требует от писателя
углубленного и органического овладения всеми богатствами народного
поэтического творчества. «Тот, кто хочет быть хорошим отечественным
писателем и в особенности отечественным поэ-
257
том,— писал он в 1827 г.,—кто хочет дать, если можно так выразиться,
народный колорит своим произведениям, тот не должен считать безделкой
отечественные предания и песни, но обязан вслушиваться в них сколько
можно более; ибо сии бедные памятники нравов и обычаев, мыслей и
чувствований предков наших, обезображенные временем, но не искаженные
подражанием иноземцам, сохраняют еще многие черты той
оригинальности, которая отличает поэзию одного народа от поэзии
другого»
1
.
Эти внутренние противоречия во взглядах Цертелева на фольклор
следует объяснить тем, что формировались они под влиянием по крайней
мере двух различных, противоречивых факторов. С одной стороны, на него
оказали влияние фольклористические опыты первой четверти XIX века, в
частности сборник Кирши Данилова, на что определенно указывает и самое
название цертелевского сборника; кроме того, следы этого влияния
нетрудно установить и при сличении предисловий к обоим сборникам.
Отсюда же, т. е. от современной русской фольклористики, ориентация
Цертелева на общепризнанные в то время образцы народного творчества:
на греческий эпос, на поэзию скальдов и т. п.
Вместе с тем, однако, имеются все основания утверждать, что на
обращение Цертелева именно к записи украинского фольклора (интерес к
фольклору великорусскому проявился позже) существенное влияние
оказали местные, украинские, в большей своей части казакофильско-
националистические увлечения, весьма распространенные среди
украинского поместного дворянства, возводившего свою родословную к
казацкой старине, считавшего себя обделенным при дележе благ земных и
мечтавшего в грядущие лучшие времена возвратить себе былое значение.
Слишком связанное экономически и политически со всем , строем
Российской империи националистическое украинское дворянство не
1
«Вестник Европы», 1827, № 12, стр. 270—277.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
решалось на сколько-нибудь активное выражение своих настроений; оно
лишь мечтало о будущих переменах, в настоящем же утешало себя культом
казацко-старшинской старины, тщательно собирая исторические
документы, реликвии, воспоминания, обращаясь иногда к собиранию
фольклорных материалов, и именно «дум».
Сам Цертелев был чужд этого политического обоснования
собирательства и пришел к нему, так сказать, с другой стороны. Однако,
занявшись собирательством, он незаметно, быть может, для самого себя,
подпал под влияние настроений, владевших его ближайшими соседями и
друзьями (среди них были и Д. П. Трощинский, и В. В. Капнист, и,
очевидно, В. Я. Ломиковский, и др.), отразил эти настроения в своих
теоретических высказываниях.
Эти дворянско-националистические тенденции можно свести к формуле:
украинская народная поэзия погибает, как погибла
258
и сама Украина Особенно отчетливо и резко выступают эти реакционные
тенденции у Платона Лукашевича (1809—1887) — сборника
«Малороссийские и червонорусские народные думы и песни» (СПБ, 1836).
В «Предисловии от издателя» он писал о полном упадке и грядущей гибели
украинского песенного фольклора. «Народные песни давным-давно уже не
существуют», — утверждал он,— они заменены там, по его мнению,
солдатскими или великороссийскими; новейшая «народная муза»
Малороссии, по утверждению Лукашевича, «ничего еще не произвела»,
кроме нескольких песен о рекрутских наборах, содержание которых
заимствовано также из великорусских песен; уцелевшие же песни поются на
лад «парня и девки» и через двадцать лет «настоящие голоса» их придется
разыскивать только в Галиции или у Карпато-руссов. Основная тенденция
Лукашевича особенно ярко выражена в следующих словах предисловия:
«Итак, эти песни, которые я издаю, есть уже мертвые для малороссиян. Это
только малейшие остатки той чудной песенности их дедов, которая была
удивлением и самих хулителей всего украинского... Я почитаю себя
исполнившим долг свой перед своею родиною, исторгнув из забвения эту
южнорусскую народную поэзию у старцев, занесших одну ногу во гроб. Я
посвящаю ее моим предкам гетьманцам, она им принадлежит; быть может,
хотя один листочек из сего собрания упадет на завалившуюся их могилу
или долетит на высокий курган казацкий»
1
.
Вряд ли можно было в условиях николаевской цензуры яснее выразить
чувства, владевшие автором предисловия. Горькие жалобы на вырождение
старинной украинской песни, на замену ее в народном песенном обиходе
песней «солдатской» или «великороссийской», на то, что «новейшая
малорусская народная муза ничего еще не произвела»,— за всем этим
скрываются те тенденции националистического дворянского
казакофильства, о которых упоминалось выше и которые были
чрезвычайно характерны для многих представителей украинского
дворянства 20—40-х годов XIX века.
Лукашевич не был одинок: в течение ряда лет реакционные,
националистические настроения имели хождение в украинской литературе
1
П. Лукашенко, Малороссийские и червонорусские народные думы и песни, СПБ, 1836,
стр. 7.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
и украинской фольклористике, вызывая симпатии одних и яростную,
неизбывную классовую ненависть таких деятели, как Шевченко, вся работа
которого, весь его историзм, взгляды его на народность и фольклор были
проникнуты полемической, предельно заостренной враждебностью к
реакционному инакомыслию в данных вопросах
2
.
С иных позиций, отражавших уже настроения демократических групп
украинской интеллигенции, выступил М. А. Макси-
259
мович (1804—1873). В своем программном выступлении — предисловии к
сборнику «Малороссийских песен» (М., 1827) он писал следующее:
«Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену народности;
начинает уже сбываться желание — да создастся поэзия истинно русская!
Лучшие наши поэты уже не в основу и образец своих творений поставляют
произведения иноплеменные; но только средством к полнейшему развитию
самобытной поэзии, которая зачалась на родимом почве, долго была
заглушаема пересадками иностранными и только изредка сквозь них
пробивалась. В сем отношении большое внимание заслуживают памятники,
в коих полнее выражалась бы народность; это суть песни, где звучит душа,
движимая чувством, и сказки, где отсвечивается фантазия народная. В них
часто видим баснословия, поверья, обычаи, нравы и нередко события
действительные, кои в других памятниках не сохранились: сказка —
складка, а песня — быль, говорит пословица»
1
.
Здесь налицо принципиально иной подход к фольклорному материалу,
чем тот, с коим мы встретились у Цертелева, и особенно у Лукашевича. На
свой сборник Максимович смотрит не как на надгробный памятник
минувшей славы прошлого, но как на попытку схватить и запечатлеть
какой-то кусок современности, доказать пользу фольклора как некоего
активизирующего фермента отечественной литературы. Я, пишет он, «на
первый раз издаю выбор песен сей страны, полагая, что они будут
любопытны и даже во многих отношениях полезны для нашей словесности,
будучи совершенно уверен, что они имеют несомненное достоинство и
между песнями племен славянских занимают одно из первых мест»
2
.
Соответственно меняется и объем привлекаемого песенного: материала.
Для реакционно-дворянской фольклористики характерен
преимущественный (а подчас и исключительный) интерес к историческим
песням и думам. Цертелев с пафосом упоминает об украинских веснянках,
щедровках — лирических песнях, которые он называл «серенадами»
3
, но в
своем издании не поместил ни одного образца такого рода песен. Гораздо
шире и богаче были фольклорные представления Максимовича. В его
сборнике мы находим и песни, посвященные казацкому боевому быту, и
песни о частных домашних событиях, и женские песни, и песни
заклинательные, обрядовые, юмористические и т. д. В этих много и
разнообразно представленных в сборнике фольклорных жанpax видно
явное желание составителя подать фольклор как правдивое отображение
духовной жизни народа.
2
См. Айзеншток, Шевченко i фольклор. «Лiтературна критика», 1939, 2—3, стр. 150—176.
1
«Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем», М., 1827, стр. I—II.
2
Там же, стр. III.
3
«Вестник Европы», 1827, № 12, стр. 244.
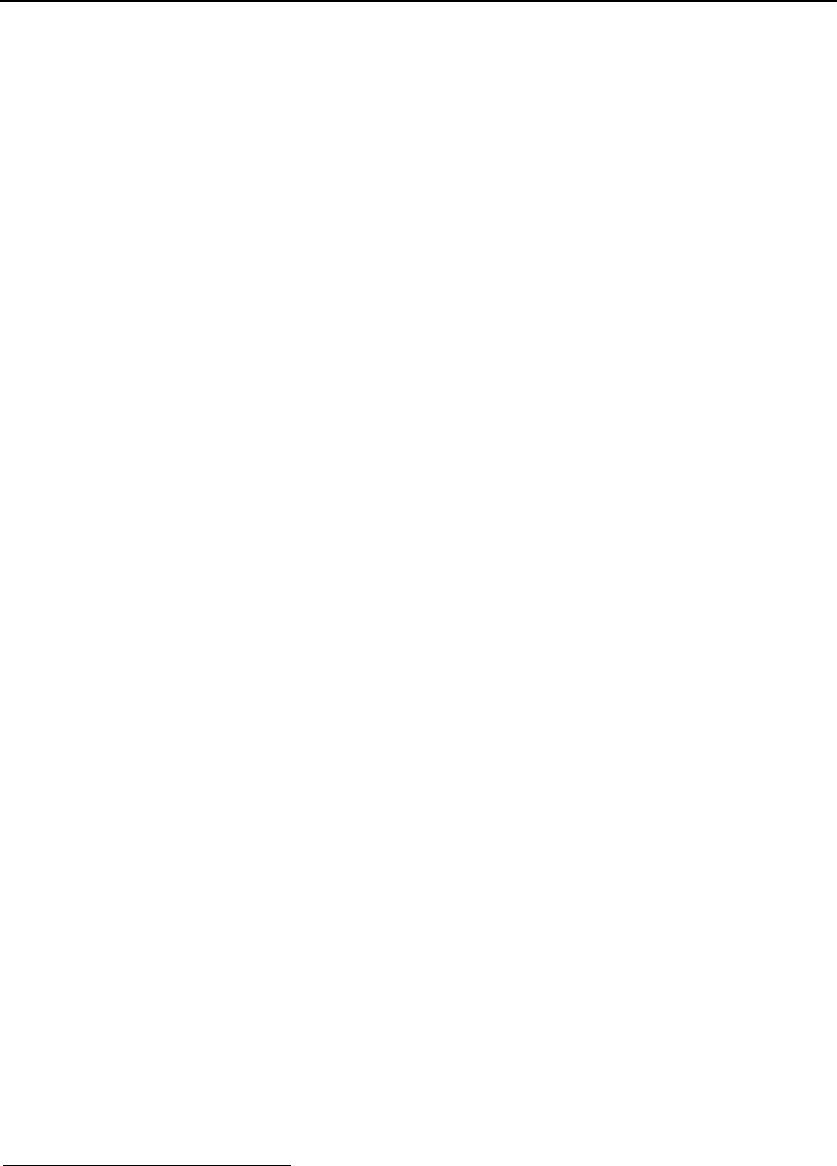
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
Оригинальной и естественной оказывалась и сделанная Максимовичем
сравнительная характеристика великорусского и укра-
260
инского народов. В русских песнях, по мнению Максимовича, выражается
«дух, покорный своей судьбе и готово повинующийся ее велениям», в них
выражается стремление забыться от суровой действительности, «как бы
отделиться от всего существующего». Поэтому-то «русские песни
отличаются глубокою унылостью, отчаянным забвением, каким-то
раздольем и плавной протяженностью». Украинские же песни являются
«выражением духа с судьбою», они «отличаются порывами страсти», тою
твердостью» и «силою чувства», поэтому в них господствует не
«забывчивость» и «унылость», но скорее «досада и тоска», в «них больше
действия»
1
. Из этих же основ Максимович выводил и поэтику украинских
народных песен.
«Песни нежные украинские отличаются неподражаемым простодушием и
естественностью, которой ни мало не противоречат беспрерывные
сравнения,—писал он. Дух, не находя еще в себе самом особенных форм для
полного выражения в его глубине зарождающихся чувств, невольно
обращается к природе, с которою он, по своему младенчеству, еще дружен,
и в ее предметах видит, чувствует подобие свое гораздо явственнее и вернее.
Посему-то находите столь частые сравнения с окружающею
безукрашенною природою — столь частые беседы с буйным ветром,
дробным дождем, черными тучами. Унылая, вещая зозуля, одинокий явор,
плакучие ивы и гибкие лозы, печальная калина, крещатый барвинок — сии
эмблемы отдельных состояний духа невольно ему напоминают его самого,
и он выражается ими как бы потому, что не может иначе; когда, напротив, в
метафорах русских песен замечаем более искусственности, некоторого рода
произвол и желание прикрас»
2
.
При всей несомненной идеалистической наивности теоретических
построений и характеристик Максимовича в них, как и во всей его
фольклористической деятельности, заключалась чрезвычайно активная и
прогрессивная основная идея: фольклор для его являлся не абстракцией, но
одним из проявлений жизни и деятельности народа; собрать и
охарактеризовать фольклор значит для него в меру своих сил и
возможностей приблизиться к познанию народа в наиболее творческой его
ипостаси.
Сборник Максимовича помогал уяснению понятия «народность» в его
прогрессивном значении, что способствовало попу-
261
1
Сравнительная характеристика русских и украинцев на основании их песен принадлежит
к числу популярнейших тем в русской и украинской фольклористике. Первым опытом
считают данную характеристику Максимовича, однако еще почти за десять лет до него
опыт такой характеристики сделал Гевлич в статье «Нечто о народных русских песнях»
(«Соревнователь», ч. II, 1818, стр. 337—354, но его характеристика противоположна той,
которую дает Максимович. По Гевличу, русский «в изображении своих печалей и
радостей — быстр, порывист и в исступлении мгновенно объемлет все его окружающее;
украинец «тих и унывен», в его песнях «все одето каким-то туманным покровом сладкой
меланхолии» (стр. 342).
2
А. Максимович, Предисловие к сборнику «Малороссийские песни», М., 1827, стр. XVI—
XVII.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
лярности сборника и его успеху среди таких читателей, как Пушкин,
Гоголь, позже Шевченко и «Галицкая троица» (Шашкевич —
Головацкий — Вагилевич).
Как словесник-фольклорист Максимович, так же как и другие
собиратели его времени, был самоучкой. Достаточной филологической
подготовки у него не было; по своей прямой специальности он был
ботаником, и свой первый сборник песен он выпустил вскоре после защиты
диссертации «О системах растительного царства» (1827). В течение ряда лет
он занимал кафедру ботаники в Московском университете, а в 1833 г.
перевелся в только что созданный Киевский университет, куда был
назначен ректором и в котором занял кафедру русской словесности. После
очень недолгого и с большими перерывами преподавания (1834— 1836,
1843—1845) он вышел в отставку и жил до самой смерти, по выражению его
биографов, «отшельником» в небольшом своем имении вблизи Киева.
С большой долей вероятия можно предположить, что успех; сборника
1827 г. и побудил его изменить свою специальность. Однако и позже, став
профессором словесности, Максимович не замыкался в рамки какой-нибудь
одной специальности: в киевский период он выступает то как филолог-
языковед («Начатки русской филологии», «Филологические наблюдения и
исследования» и др.), то как филолог-словесник (ряд статей о «Слове о
полку Игореве», «История древней русской словесности»), то как историк
(статьи по истории Киева и многие другие), то вновь как фольклорист и
этнограф («О народной исторической поэзии в древней Руси», «Дни и
месяцы украинского селянина»). Все эти работы в значительной степени
были произведениями «талантливого дилетанта»; отсутствие
систематической школы характерно сказалось и в том, что почти во всех
своих предприятиях Максимовичу не суждено было пойти дальше «первого
выпуска первого тома», как сказал о нем впоследствии Кулиш. Но каждая
его заметка и статья всегда были проникнуты большой любовью к
очередному предмету его исследований, отличались увлечением, «порой
страстностью» и всегда почти получали значительный резонанс в обществе.
И в то же время несомненное филологическое чутье, которым обладал
Максимович, позволило ему внести в издание своих сборников песен новые
элементы и применить новые методы, значительно отличающиеся от
методов его предшественников и некоторых современников. И Цертелев и
Лукашевич основывались почти исключительно на собственных своих
записях, тем самым, естественно, отбрасывая и возможность какой бы то ни
было критики записываемых текстов. Помимо своих собственных записей,
Максимович широко использовал предшествовавшие случайные и
единичные публикации украинских песен в журналах, в песенниках; он
организовал целую сеть корреспондентов, сообщавших ему свои записи; он,
наконец, сумел в дальнейшем при-
262
соединить к своему собранию целые большие фольклорные коллекции,
например уже упомянутый сборник З. Доленги-Ходаковского; из переписки
Максимовича с Гоголем мы знаем, что уже в начале 30-х годов его собрание
песен заключало до 3 тысяч номеров продолжая беспрерывно
увеличиваться. И только особенностями личного характера Максимовича,
какой-то врожденной неспособностью к длительной, планомерной работе
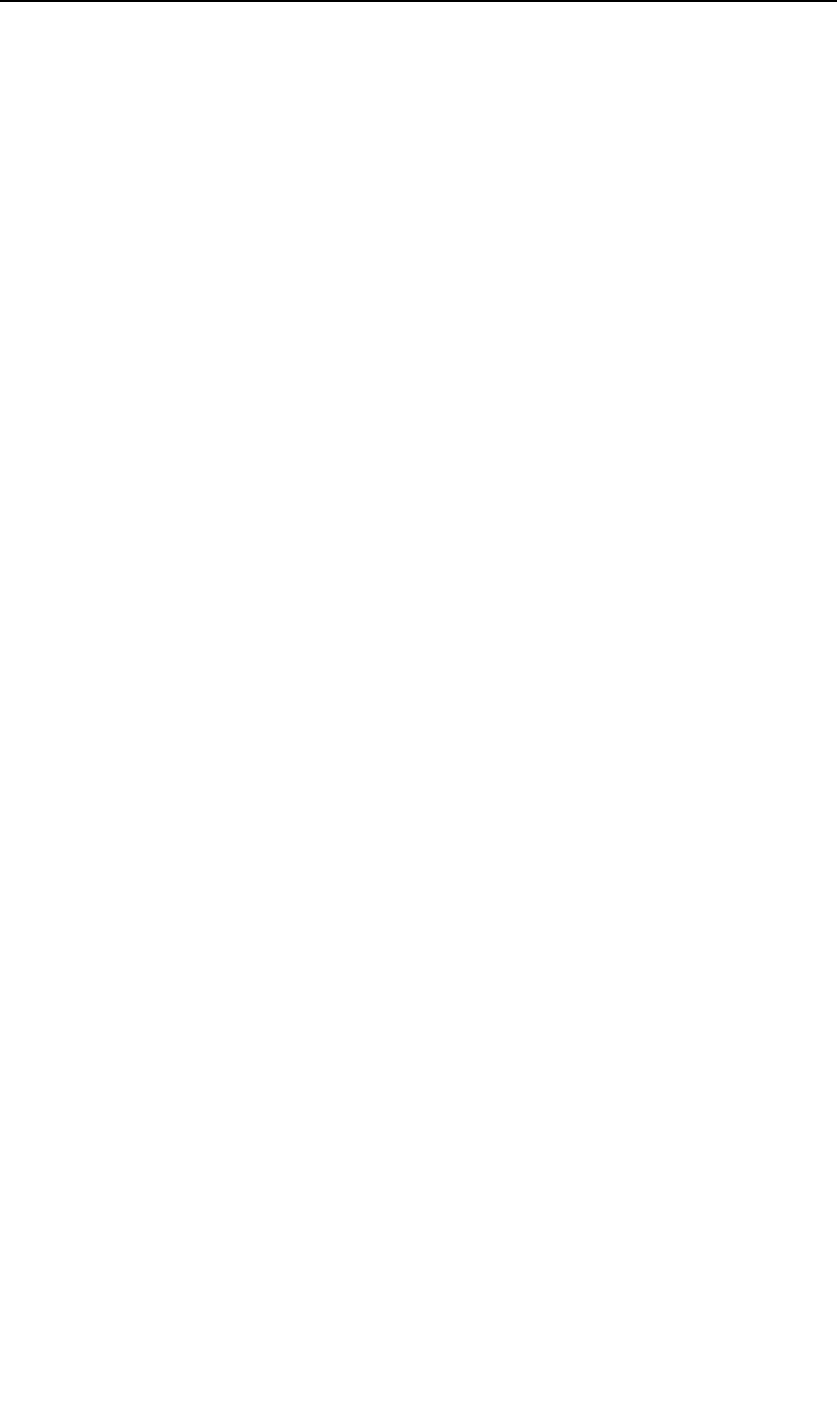
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
можно объяснить то обстоятельство, что издание собранного материала
ограничивалось лишь совершенно незначительными и по существу
случайными фрагментами (в 1834 г. Максимович издал некие народные
песни», ч. I; в 1849 г.— снова «Сборник украинских песен», ч. I) без
попытки охватить все грандиозное собрание.
Ориентация на чужие, разнородные и зачастую заведомо испорченные
записи вызвала необходимость при публикации отнестись к ним
критически, устранить все ошибки. «Из великого множества в народе
обращающихся песен,— писал Максимович по этому поводу,— некоторые
были помещаемы более или менее исправно в разных повременных
изданиях в песенниках, весьма нередко искаженные наиболее же против
языка. Особого собрания собственно малороссийских песен еще не было.
Переходя из уст в уста, они часто лишаются многих стихов, либо оные
изменяются; часто песни не допеваются нами, даже перемешиваются; таким
образом, постепенно отходят от первобытного вида». «Нельзя и думать,—
продолжал он,— чтобы можно было восстановить оный; но я старался
сличать и соглашать разногласия; случалось сводить иногда две в одну
либо одну разделять на две; я избирал как находил сходственнее с
правильным смыслом и — сколько понимал — с духом и языком
народным».
Несомненно, такой принцип редакторской работы был ошибочен и
порочен, но он был в духе времени и вполне соответствовал тем методам,
которые применялись в современной Максимовичу западноевропейской
романтической фольклористике. Но же время в его издании были
некоторые моменты, вносящие значительные коррективы в установленную
практику. Характерно то, что он нашел нужным подробно изложить свои
эдиционные приемы. Впервые в такого рода изданиях сообщались сведения
о характере применяемого правописания и пр. Наконец, он отчетливо
понимал важность музыкальной стороны песен при их издании и изучении
и в 1834 г. выпустил совместно с известным композитором Алябьевым
специальный сборник «Голоса украинских песен».
Его сборники намечают уже принципы некоторой классификации песен,
в основе которой лежит историко-бытовой момент: песни военные и
исторические, песни о домашних событиях, женские песни (термин,
заимствованный им у Вука Караджича), к которым он относит также
обрядовые песни; затем песни веселые и карикатурные. Включение
последнего разряда особенно
263
знаменательно, так как прежние собиратели относились пренебрежительно
к такому виду народной словесности. Одним из немногих, умевших ценить
такие песни и чувствовать их эстетическое своеобразие и прелесть, был
Пушкин, и не исключена возможность видеть в данном случае следы
непосредственного воздействия Пушкина, в общении с которым
Максимович находился в период подготовки своего сборника. И не имел ли
в виду Шевырев также и Максимовича, когда говорил о непосредственном
воздействии высказываний Пушкина на практику собирателей.
По мере дальнейших изучений воззрения Максимовича на народную
словесность все более и более уточнялись, и в своих позднейших статьях он
высказал ряд очень ценных для своего времени мыслей, немало

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
содействовавших выработке более правильных оценок народной поэзии в
обществе. В предисловии к изданию 1849 г. уже нет, например,
сравнительной характеристики русской и украинской народностей.
Большое теоретическое значение представляют его письма к Погодину «О
народной исторической поэзии в древней Руси»
1
, в которых он решительно
выступил против концепции Погодина о скандинавском происхождении
русской исторической поэзии.
Опираясь на опубликованные сербские песни и на воззрения славянских
ученых, он утверждал, что наши исторические песни существовали до
прихода Рюрика и возникли, подобно лирической поэзии, «из собственных
славянских начал жизни». В той же статье Максимович высказывает
любопытные суждения о причинах сходства между собой песен различных
народов и о взаимоотношениях между ними.
В настоящее время эти мысли и положения кажутся довольна
элементарными, но в то время они еще были если и не вполне новыми и
свежими, то, во всяком случае, не шаблонными и не общеизвестными;
таковы его замечания о самостоятельном возникновении сходных черт в
силу общих условий быта, об ассимиляции народной поэзией
разнообразных и разнородных чужеземных элементов и т. д. Он не
отрицает возможности частичных заимствований из исландских саг или из
песен каких-либо других народов, «прикосновенных к древнейшей и
древней Руси; но сама по себе «исландская сага никогда не была исходным
родником нашей исторической поэзии, до нее и без нее бывшее она только
впала в нее,— образно поясняет он свою мысль, — и утонула в ней, как
Рось и другие реки, от востока и запада, притекая к Словуте-Днепру, тонут
в нем»
2
. Историческую поэзию русского народа должно сопоставлять и
сравнивать не с скандинавской поэзией, а с песнями западных славян, с
которыми у нее один общий источник — «живое чувство славянина».
264
Поэтому, сколько бы ни находилось сходных черт у русской народной
поэзии с какой-нибудь западноевропейской, она неизменно остается
«своебытной и своеобразной»
1
.
Он же первый в ряде статей о «Слове о полку Игореве»
2
поставил в
широком объеме тему о народной поэтической стихии «Слова», которое он
называл «лебединою песнью древней Руси». «Народная изустная поэзия
является в нем в образовании письменном» утверждал Максимович. По его
мнению, «Слово» нельзя сравнивать ни с макферсоновскими песнопениями,
как делали первые исследователи, ни с исландскими сагами, как утверждал
Погодин, ни с великорусскими или украинскими песнопениями. «Певец
«Слова» не был гусляром, подобно Баяну... Песнь Игорю не
импровизирована и не пропета, а сочинена и написана, как песнь о
Калашникове Лермонтова или русские песни Мерзлякова или Дельвига
3
.
1
«Москвитянин», 1845, № 3, 7—8; М. А. Максимович, Сочинения, т. III.
2
М. А. Максимович, Сочинения, т. III, стр. 488
1
Максимович, Сочинения, т. III, стр. 483.
2
Журнал министерства народного просвещения», 1836, № 4, 6; 1837, № 1 и др.; см. М.
А. Максимович, Сочинения, т. III, стр. 498—563, 564—625 и др.
3
М. А. Максимович, Сочинения, т. III, стр. 483.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
Последним трудом Максимовича фольклорно-этнографического
характера были его также оставшиеся незаконченными «Дни и месяцы
украинского селянина» — один из первых опытов построения народного
календаря, явившийся ценнейшим дополнением к опубликованным в 30—
40-е годы описаниям Снегирева и Терещенко. Большое, можно даже сказать
исключительное значение имеют щедро включенные в изложение тексты
песен, сделанные, вероятно, самим Максимовичем, некоторые из которых
представляются уникальными, не встречаясь более ни в одном из известных
описаний или сборников; таково, например, описание «зеленого шума»,
послужившее источником для знаменитого стихотворения Некрасова
4
.
Одновременно с Максимовичем и параллельно с ним шла
фольклористическая работа И. Г. Кулжинского (1803—1884), автора
книжки «Малороссийская деревня» (М., 1827) и ряда беллетристических
произведений с украинской тематикой (Кулжинский был, между прочим,
одним из учителей Гоголя по Нежинскому лицею).
Фольклористическая работа Кулжинского не имела для самого автора
тех отчетливых перспектив, которые мы видели у Максимовича; к
фольклорному материалу он подходил скорее как беллетрист и ценил его
постольку, поскольку материал этот позволил ему реконструировать
определенную концепцию украинской народной жизни. Это
обстоятельство, кстати сказать, объясняет и поразительное расхождение в
оценках работы Кулжинского у позднейших исследователей: если для
Н. П. Дашке-
265
вича «Малороссийская деревня» была «видным явлением в малорусской
этнографии», то П. В. Владимиров видел в книге лишь
полусентиментальное, полуриторическое рассуждение об Украине
запоздалое подражание «Путешествиям в Малороссию» П. И. Шаликова,
«о которых еще в свое время писали, что подобные чувствительные
путешествия можно сочинять и никогда не бывши в Малороссии».
Беллетризованный, сентиментально-риторический характер изложения
материала не должен, впрочем, закрывать несомненных достоинств работы
Кулжинского и прежде всего того обстоятельства, что в основу ее положено
довольно тщательное и обширное (конечно, по масштабам своего времени)
изучение по первоисточникам оригинального фольклорного материала,
изучение, приведшее Кулжинского к выводу, что «народный характер есть
нечто неизменное». В этом отношении деятельность Кулжинского,
независимо от субъективных художественных достоинств его
«Малороссийской деревни», ценна тем, что предваряет, а возможно, и
непосредственно вдохновляет беллетристические опыты Ореста Сомова и
особенно «Вечера» Гоголя. Позже Кулжинский включился в ряды
сторонников официальной народности, сотрудничая в «Маяке» и других
реакционных изданиях.
К ранним представителям украинской фольклористики принадлежит и
известный впоследствии академик-славист Измаил Иванович Срезневский
(1812—1880). Его фольклористическая собирательская работа начинается
очень рано; по его собственному свидетельству, к ней побудила его
4
См. И. С. Абрамов, Происхождение стихотворения Некрасова «Зеленый шум», «Звенья»,
т. V, М., 1935, стр. 476—477.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
«малоизвестность памятников поэзии запорожской и вместе с тем
уверенность в пользе оных для истории запорожцев». При этом, несмотря
на молодость собирателя (он приступил к этой работе не имея еще полных
четырнадцати лет), он обнаружил незаурядное организаторское дарование,
сумев привлечь к своей работе ряд друзей и знакомых, сообщавших ему
фольклорные записи.
Первый импульс к изучению народной словесности И. И. Срезневский
получил еще в семье. Отец его, И. Е. Срезневский (1770—1819), по своей
прямой специальности был филологом-классиком, но весьма интересовался
также национальными древностями и народной поэзией, даже писал песни
в народном стиле
1
. Ему принадлежит очерк «Славянская мифология или о
богослужении русском в язычестве»
2
, примыкающий к той же линии трудов
по древнерусской и общеславянской мифологии, которая была начата
Поповым и Чулковым и затем продолжена Глинкой, Кайсаровым,
Строевым. Однако по сравнению с «Опытами» Строева и Успенского очерк
Срезневского представляется
256
шагом назад и стоит гораздо ближе к предшествующим работам, повторяя
и их план и их методологию. Наиболее интересны в очерке Срезневского
его дополнения, внесенные им (главным образом из собственных
наблюдений): так, например, в главе о бабе-яге сообщается много
подробностей, заимствованных из народных сказок (описание лесной
избушки, формулы обращения к ней и пр.); в отличие от своих
предшественников, которые видели в бабе-яге существо воинственное,
Срезневский считал этот образ сложным, в котором сочетались, с одной
стороны, представления о богине смерти, а с другой — о богине земли,
«начальнице над русалками и дриадами». Из сказок включен в инвентарь
русской мифологии Сивко-бурко («он похож на Пегаса, но только служит
не поэтам, а рыцарям») и др. В этом же очерке опубликована и известная
уникальная колядка («За рекою за быстрою леса стоят дремучие, во тех
лесах огни горят» т. д.). которую он рассматривал как свидетельство об
«обряде древнего жертвоприношения»
1
.
И. Е. Срезневский умер, когда его сыну было всего семь лет, поэтому
едва ли возможно говорить о прямом воздействии отца на формирование
научных интересов сына; но существовали, несомненно, какие-то семейные
традиции, поддерживавшие в молодом исследователе интерес к народному
преданию и народной поэзии. Характерно, что для докторской диссертации
1
Срезневские не были коренными украинцами, но происходили из среды великорусского
(рязанского) духовенства. И. Е. Срезневский занимал, кафедру российского красноречия и
поэзии сначала в Ярославле, а потом в Харькове, куда и переехал (в 1816 г.) с семьей.
2
«Украинский вестник», 1817, ч. VI, апрель — май.
1
В широкий научный оборот этот текст введен И. Снегиревым, перепечатавшим его в
своем труде «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (т. I, M., 1837,
стр. 103) со ссылкой на Срезневского, но с добавлением нескольких строк, которых нет в
публикации последнего. Происхождение и смысл этой колядки представляются несколько
загадочными; иследователи склонны считать ее даже литературной подделкой (см. П.
В. Владимиров, Введение в историю русской словесности, Киев, 1896, стр. 80—81); близкой
по некоторым мотивам к тексту Срезневского является колядка, приведенная в книге П.
Шейна «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах...»,
т. I, СПБ, 1900, под № 1046, из Оренбургской губ.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика в последекабрьский
период.
Срезневский избрал ту же тему, которой был посвящен и очерк его отца
(«Святилища и обряды языческого богослужения древних славян, по
свидетельствам современным и преданиям», Харьков, 1846).
Но, конечно, семейные влияния могли играть только побочную роль,
главным же стимулом явилось для него местное культурное движение, в
котором, по удачной формулировке Н. К. Пиксанова, сочетались влияния
русской и украинской культур. Центром этого движения был Харьковский
университет, вокруг которого объединялись и прочие местные культурные
силы.
В 10—20-е годы в Харькове выходил ряд журналов, из которых наиболее
значительными были «Украинский вестник» (1816— ) и «Украинский
журнал» (1824—1825). Они являлись, с одной стороны, проводниками
общерусского литературного движения западноевропейских литературных
течений, а с другой — жали и культивировали местные интересы. В них
печатались
267
статьи по местной истории, по экономике края, по народной поэзии и
народному быту. В «Украинском журнале», который издавал и
редактировал А. В. Склабовский, была помещена большая статья
И. Кулжинского «Некоторые замечания касательно истории и характера
малороссийской поэзии (1825, ч. V, № 1—3) и ряд фольклорно-
этнографических очерков самого редактора: «Троицын день, или Русальная
неделя» (1824, № 11, стр. 248—263), «Иван-Купало» (1824, № 12, стр. 317—
325) и др.
А. В. Склабовский (1793—1831) первоначально играл видную роль в
харьковском библейском обществе и был, по характеристике Д. Багалея,
«верным насадителем религиозно-мистических взглядов»,
господствовавших тогда в официальных кругах харьковского общества, но
веяния времени захватили и его. Журнал, основанный Склабовским для
пропаганды официальных тенденций, стал одним из проводников, хотя еще
в недостаточном степени, местного культурного движения. А. Склабовский
очень подчеркивал важность тем из местной жизни и сетовал, что авторы
недостаточно интересуются своим краем. В одной из редакционных статей
он обращался ко всем «любящим страну родную» с просьбой присылать в
журнал все, что относится к пoзнанию «нашей родины»: «известия
исторические, топографические и другого рода описания, изображение
характеров, нравов, обыкновений, привычек, занятий, увеселений, даже
собрание песен малороссийских и объяснений на оные»
1
. Противопоставляя
эти материалы «стишкам или прозе о предметах, в тысяче уже книг
изложенных и ясно и приятно», он писал: «Обыкновенное, всем уже
известное трудно сделать новым и занимательным; а что ново и притом
касается нашей родины, то уже для нас занимательно, хотя бы даже и не
было в нем другого достоинства, кроме новости»
2
.
В конце 20-х годов в Харькове образовалась целая плеяда энтузиастов —
исследователей и собирателей местной старины т народной поэзии,
основное ядро которых составил кружок университетской молодежи,
получивший в поздних историко-литературных исследованиях не совсем
1
«Украинский журнал», 1824, № 9, стр. 151—152.
2
Там же.
