Азадовский М.К. История русской фольклористики
Подождите немного. Документ загружается.


М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, бы
заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и
крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще
перемешаться обычаями и нравами»
1
. Виденное им представление и песня
«Вниз по матушке по Волге» особенно привлекли его тем, что, казалось,
воскрешали картины прошлого, ознаменованного единством различных
слоев народа. Эти замечания Грибоедова подверглись суровой критике
позднейшего историка литературы. Рассуждения Грибоедова ему
представлялись наивными и не соответствующими исторической
действительности. «В данном случае воспоминание Грибоедова
восхищалось веком «необузданной вольности», попросту разбоя, который в
эти былые времена, заметим, направлялся не только на чужих, но также и
на своих и указывал страшный общественный разлад, шедший, наконец, на
ножи»
2
. Но Пыпин слишком упрощенно интерпретирует позицию
Грибоедова. Историк и реальный политик, каким всегда был Грибоедов,
он, конечно, был чужд идиллическим представлениям в духе Карамзина
(как упрекает его Пыпин) о прошлом народа. Эту заметку нельзя
рассматривать изолированно, вне общего вопроса о понимании в эту эпоху
так называемых «разбойничьих песен». Мысли Грибоедова воспроизводят
в данном случае типично-декабристскую оценку этого раздела народной
поэзии, в котором декабристы видели лучшее выражение народной удали и
духовного размаха. «Загородная поездка» представляется в данном случае
характерным памятником декабристской эстетики.
§ 9. Принципы декабристского фольклоризма были развернуты и
применены знаменитым переводчиком «Илиады» Николаем Ивановичем
Гнедичем (1784 — 1833), которого с полным правом можно причислить к
виднейшим теоретикам фольклоризма из среды декабристов. Формально
Гнедич не принадлежит к числу декабристов; он не был даже в числе хотя
бы косвенно замешанных: в так называемом «Алфавите декабристов»
(«Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам,
прикосновенным к делу, произведенному высочайше учрежденною 17
декабря 1825 года следственной комиссией»), куда был внесен целый ряд
лиц, имевших подчас весьма отдаленное касательство к декабристам, имя
его отсутствует. И тем не менее в Гнедиче можно видеть типичного
представителя декабристской периферии, отчетливо отразившего в своей
литературной практике и теоретических высказываниях декабристские
позиции.
Начало литературной деятельности Гнедича падает на первые годы
XIX века. Свою литературную деятельность он начинает в окружении
членов «Вольного общества», хотя формально и не
200
был в составе последнего. В 1819 г. он был членом «Зеленой лампы» и в то
же время принимал деятельное участие в «Вольном обществе любителей
российской словесности» и в начале 20-х годов, т. е. как раз в то время,
когда там главенствовали декабристы, был его вице-председателем. В
1821 г. он произнес речь, в которой поставил вопрос об общественном
значении литературы и о независимости писателя. С декабристами
1
А. С. Грибоедов, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 116 — 117
2
А. Н. Пыпин, История русской литературы, т. IV, стр. 328

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
связывали его и личные отношения. Он был в тесной дружбе с
А. П. Юшневским Никитой Муравьевым и другими выдающимися
деятелями движения. Сохранилось замечательное письмо Гнедича к матери
Никиты Муравьева, написанное после приговора, где он говорил о
«глубоком уважении и любви», которые он всегда чувствовал к Никите
Муравьеву и которые еще больше «возросли с его несчастьем».
В его собственном творчестве отразились требования декабристской
эстетики. Он выдвигает на первый план гражданские задачи; подобно всем
декабристским теоретикам, одной из очередных и важнейших задач
литературы считает задачу создания национальной героической эпопеи. В
тесной связи с этими воззрениями стоят и взгляды Гнедича на народную
словесность.
Обычно принято было объяснять возникновение интересов Гнедича к
народной поэзии, так же как и интереса к античности, идейным
воздействием Оленина. Однако эти утверждения нуждаются в больших
поправках. Конечно, нельзя отрицать этого влияния, но оно шло совсем по
другой линии и не вмело того характера, который ему
приписывают. Гнедича связывали с Олениным общие интересы к
античности и народной поэзии. Прекрасный знаток материала, Оленин
оказал огромную услугу Гнедичу в его работе над «Илиадой». Но исходные
позиции Гнедича и Оленина совершенно различны. Архаическим и
реакционным интерпретациям народной словесности Гнедич
противопоставляет гражданское понимание гомеровского эпоса и
интерпретирует его совершенно в ином свете.
Из иных источников вытекает и интерес Гнедича к народной поэзии.
Нужно думать, что значительную роль сыграли здесь его связи с членами
«Вольного общества» и круг идей последнего. Молодой Гнедич увлекается
Оссианом и пытается переводить его народным размером. В 1814 г. Гнедич
выступает в торжественном заседании при открытии Публичной
библиотеки с речью о причинах, замедляющих успехи нашей словесности.
Одной из причин Гнедич считает «невнимание к национальному
оригинальному — к родному языку и родной истории». Позже, в период
сближения с декабристами, эти требования принимают более четкий
политический характер: требование народной тематики является
лейтмотивом и его теоретических высказываний, и собственной
литературной практики. Очень ярко эти воззрения Гнедича проявились в
споре об идиллии. В 20-х годах в русской тературе возник новый жанр —
идиллия. Его выразителем
201
явился реакционный писатель Н. И. Панаев — «русский Гесснер», как
иронически писали о нем современники. «Слезливые идиллии» Панаева
целиком входят в линию реакционного сентиментализма; они, пишет
исследователь, проникнуты «добропорядочной моралью» и «всем своим
строем направлены против гражданской поэзии декабризма; они нарочито
уводят читателя от политических бурь современности в идиллическую
пасторальную усадьбу, прельщают его удовольствиями патриархальной
жизни на лоне природы»
1
. Другими словами, идиллия Панаева целиком
входила в систему «крепостного сентиментализма».
1
А. М. Кукулевич, Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки», «Ученые записки ЛГУ»,

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
Гнедич решительно выступал против этого направления, стремясь
противопоставить ему путь чисто русской идиллии с национальной
тематикой, с русскими персонажами и русской природой. «Род поэзии
идиллической, — писал Гнедич, — более, нежели всякой другой, требует
содержаний народных, отечественных». Он формулирует демократическую
концепцию русской идиллии: «Где, если не в России, более состояний
людей, которых нравы, обычаи, жизнь так просты, так близки к природе?
Это правда, русские пастухи не спорят в песнопении, как греческие, не
дарят друг друга вазами и проч., но от этого разве они не люди? Разве у них
нет своих сердец, своих страстей? А у других простолюдинов наших разве
нет своей веры, поверий, нравов, костюмов, своего быта домашнего и своей
русской природы? Наши многообрядные свадьбы, наши хороводы, разные
игрища, праздники сельские, даже церковные — суть живые идиллии
народные, ожидающие своих поэтов».
Таким образом, Гнедич требовал изображения национального
простонародного быта. Применением этих принципов явилась его идиллия
«Рыбаки», литературное, полемическое ипринципиальное значение которой
очень убедительно раскрыто в исследовании Кукулевича. Эта идиллия
является вместе с тем одним из крупнейших явлений литературного
фольклоризма 20-х годов, ибо в ней Гнедич возвеличивает народное
творчество. «Идейным центром идиллии является рассказ молодого рыбака
о «захожем слепце», «русском Гомере», который «наигрывал песни на
струнах». Песни, которые наигрывал захожий слепец, были «про старые
войны, про воинов русских могучих», т. е. это были «русские исторические
песни, проникнутые пафосом патриотизма и боевой героики»
2
. Этот
образ — образ певца-сказителя, исполнителя былин и исторических
песен — представляет собой несомненную и прямую реминисценцию певца
из «Путешествия...» Радищева.
Главным трудом Гнедича в области русской народной словесности был
уже упомянутый выше перевод знаменитой книги фран-
202
цузского романтика, историка литературы и писателя Клода Фориэля (С.
Fauriel) «Chants populaires de la Grйce moderne» (Paris, 1824 — 1825),
вышедший в 1825 г. под заглавием «Простонародные песни нынешних
греков» (вошли в Сочинения Н. И. Гнедича, т. I, СПБ, М., 1884). Книга
Фориэля принадлежит к крупнейшим явлениям европейской
фольклористической литературы, значение которой в позднейших
историко-фольклористических исследованиях несправедливо затушевано.
Фольклоризм и фольклористика во Франции развивались иными путями,
чем в других странах Европы. Широкий интерес к национальной народной
поэзии во Франции возник сравнительно поздно, хотя отдельные
проявления этих интересов встречаются уже в конце XVIII и начале
XIX века. Историки французского фольклоризма отмечают ранний интерес
Монтэня к народной поэзии, отмечают отдельные высказывания Малерба,
Мольера и другие аналогичные факты, но это все были только
разрозненные явления, отнюдь не позволяющие говорить о каком-нибудь
фольклорном движении. В конце XVIII века культ народной поэзии вносит
№ 46. Серия филологических наук, вып. 3, Л., 1939, стр. 284 — 320.
2
Там же, стр. 305.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
в литературу Руссо, идеи которого нашли позже отражение и новую
интерпретацию у Гердера, Радищева, Гете и у других многочисленных
последователей философа. Но в основном Руссо занимали более вопросы
естественной первобытной поэзии, чем собственно народной поэзии.
Новую почву изучение народной поэзии обретает в эпоху французской
революции, когда ряд исследователей выдвинул проблему происхождения
народной культуры. Они изучают древнейшие поэтические памятники,
говоры, верования, народные обычаи. В 1804 г. была организована
Кельтская академия, в программу которой было включено собирание,
описание и сравнение различных памятников древности, обычаев,
произведений народной словесности. В первых шести томах «записок»
Кельтской академии («Mйmoires de l’Acadйmie celtique», 1807 — 1811)
фольклорные материалы занимают обширное место и, по замечанию Сэнт-
Ива, принадлежат к лучшей части издания. Но эти работы быстро
оборвались и не нашли отклика в обществе, все более и более порывавшем
с наследием революции
1
. В 1818 г. эту работу
203
пыталась было возобновить Академия надписей и изящной словесности
(Academic des Inscriptions et belles lettres); она рассылала программы для
обследования местных легенд, песен, сказок, говоров. Эта попытка была
повторена позже (в 30-е годы), однако ни та, ни другая не имели сколько-
нибудь осязательных результатов, ибо материалы анкет остались
неопубликованными. Были и другие аналогичные проявления научного и
общественного интереса к местному фольклору, но широкого
литературного и общественного резонанса они еще не получили в ту эпоху;
не имели они и сколько-нибудь заметного литературного отклика.
Сравнительно мало проявили интереса к национальному фольклору и
французские романтики. В отличие от других европейских романтиков
французские романтики в гораздо большей степени интересовались
народной поэзией других стран и других народов. «Мы долго переводили
произведения других народов и любовались ими, не подозревая, что и сами
обладаем такой же поэзией, столь же красивой, столь же древней, столь же
своеобразной, — писал в 1866 г. Г. Парис. — Те же самые лица, которых
восхищали греческие или бретанские песни во французских переводах
Фориэля или г. де ля Вильмаркэ, не знали песен наших деревень или
говорили о них с презрением»
1
. Это не вполне точно, но действительно, во
1
В 1805 г. Кельтской академией под редакцией Дюлора была выработана подробная и
тщательная инструкция для собирания памятников народной поэзии, являющаяся одним
из первых опытов такого рода в Западной Европе; в 1813 г. Кельтская академия была
переименована в «Societй des antiquaires de France», членом-корреспондентом которого
состоял, между пройм, и Якоб Гримм. По образцу данного общества он пытался в 1815 г.
организовать аналогичное общество в Вене. Известная программа Гримма для собирания
памятников народной словесности (см. R. Zeig, Plan zu einem altdeutschen Sammler, «Zt d.
Vereins fьr Volkskunde, 1902, H. I) возникла, несомненно, под влиянием инструкции Дюлора
(Н. Gaidоz. De l’nflucnce de l’Académie Celtique sur les études de folklore; «Société Nationale des
antiquaires de France. Centenaire, 1804 — 1904» Recueil de memoires publiés par les Membres la
Société, Paris, 1905, p. 135 — 143; P. Perdrizet, L’Académie celtique et Jakob Grimm d’arès un
travail récent de M. Gaidoz («Revue germanique», 1905, p. 320 — 332).
1
G. Paris, De l'йtude de la poйsie populaire en France («Об изучении народной поэзии во
Франции»); первоначально была опубликована как рецензия на один из областных

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
французской литературе 20-х годов огромное место занимают переводы
баллад и песен английских, шотландских, испанских, сербских,
новогреческих, болгарских и т. п. Это течение вошло во французскую
литературу под именем экзотизма; однако западноевропейские ученые
обычно чрезвычайно обобщают это явление, трактуя его совершенно
недифференцированно, не различая его разнообразных проявлений и
затушевывая различные социальные моменты и интересы. Например, для
автора капитального исследования о «Guzla» Мериме, В. Иовановича, нет
разницы между Шатобрианом и Фориэлем. Между тем экзотика первого и
экзотика второго, если только в данном случае можно говорить об
экзотике, покоятся на различных основаниях. Позиции первого —
реакционны, второго — глубоко прогрессивны и связаны с мировым
освободительным движением.
Увлечение старинными балладами и интерес к новогреческой песне и к
славянскому фольклору характерны для тех филиаций
204
французского романтизма, которые питались революционными идеями и
выросли в атмосфере борьбы народов за свою свободу. На этой почве
возникает интерес к фольклору испанскому, греческому, славянскому,
особенно к новогреческому, отражавшему напряженную борьбу греков за
освобождение от турецкого ига. Из этих же идейных источников вытекает и
интерес к народной поэзии болгар и сербов. В сербо-гайдукских песнях
воспевалась борьба сербских крестьян со своими притеснителями, в
болгарских — борьба за освобождение Болгарии от турецкого владычества;
на этой почве и возникла знаменитая мистификация Мериме «Guzla».
Книга Фориэля оказалась в центре этого движения, и ее влияние вышло
далеко за пределы Франции; она вызвала ряд многочисленных подражаний
и была переведена на многие иностранные языки. Позже в своих парижских
лекциях ее восторженно вспоминал Мицкевич.
Как филолог Фориэль прошел немецкую школу, и некоторые
исследователи называют его популяризатором германских идей о
фольклоре, что, однако, совершенно неправильно, так как его воззрения
значительно отличаются от основных позиций германского фольклоризма.
В отличие от немецких романтиков Фориэль воспитывался в атмосфере
идей французской революции и был носителем передовых идей
буржуазного общества; его позиция в вопросах фольклора типична для той
филиации романтиков, которая противопоставляла «живую
действительность» различного рода архаике
1
. Вместе с тем Фориэль
фольклорных сборников в «Revue critique» (1866, 12 мая, №19, стр. 302 — 312), а позже
была перепечатана в виде программной статьи в первом выпуске специального
фольклористического журнала «Melusine» (1878, т. I, стр. 1 — 6). Данная статья г. Париса в
течение очень долгого времени являлась главным источником для суждений о развитии
фольклорных изучений во Франции. Позднейшие работы: P. Sebiliot, P. Saintyves, Van
Gennep — внесли значительные коррективы в наблюдения и выводы.
1
В значительной степени Фориэль отражал влияние Байрона. Вопрос о фольклоризме
Байрона и в связи с этим о фольклоризме английского романтизма в целом был заново
пересмотрен М. П. Алексеевым (см. его статью «Байрон и фольклор», опубликованную в
сборнике «Советский фольклор», вып. VII, Л., 1941); в отличие от прежних исследователей,
рассматривавших явления английского романтизма как одно сплошное течение, он
усматривает в нем различные социальные категории и отмечает невозможность
однотонного представления об отношении к фольклору различных английских писателей.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
выдвигал и новый принцип в изучении народной поэзии, далеко отходя в
этом отношении от своих немецких учителей. Он пытается понять процессы
создания гомеровских поэм на основе наблюдений над современными
греческими рапсодами.
205
В отличие от господствовавших в то время в Западной Европе
фольклористических теорий, выдвигавших на первый план вопросы
архаики, для Фориэля на первом плане не поэзия старинных преданий, но
поэтическое отображение далекой старины; отражение живой
действительности, или, как он говорил, «poesie vivante» — живая поэзия
живого народа. Его книга проникнута не только пафосом освободительной
борьбы, но и пафосом живой народной поэзии.
Архаическому фольклору Фориэль противопоставляет фольклор
современный. «Народный характер, — пишет он в предисловии, —
постигается не только в археологических памятниках и преданиях старины,
но и в живых памятниках современности». Он с негодованием
обрушивается на тех, кому «пыль старинных городов и храмов Греции
дороже современной жизни» (стр. XVII). Он упрекает исследователей и
путешественников за их пристрастие к древней Элладе и пренебрежение к
Греции наших дней, считая, что только изучение современной жизни
народа дает возможность лучше всего постичь его прошлую жизнь. Эта
современная жизнь заключается в песнях. Народная поэзия греков дышит
воздухом живой Греции, живет не книгами, не искусственной жизнью, но в
самом народе и всей жизнью народа.
Эти мысли и положения были чрезвычайно близки и созвучны
декабристскому пониманию народной поэзии и задач ее изучения. Это и
вызвало повышенный интерес к ней: она привлекала внимание и своими
теоретическими позициями и своим материалом.
Содержанием книги Фориэля были песни клефтов, т. е., по обычному
переводу, «разбойничьи песни», но, как пишет Фориэль, «подвиги и
приключения разбойников не были бы предметом, достойным песен, и не
заслуживали бы прославления в продолжение трех веков; было бы
несправедливо судить в данном случае о предмете по названию».
Происхождение клефтов связывается с организацией народного
ополчения у греков, возникшего в первое же время вторжения турок в
Грецию. Эти ополченцы назывались иначе арматолами, т. е. людьми,
носящими оружие. «Обитатели долин покорились своему жребию, — пишет
Фориэль, — но жители гор (Олимпа, Пелиона, Фессалийских хребтов,
Пинда) противились победителям; часто с оружием в руках они набегали на
поля и небольшие города; грабили победителя, а при случае и
В их понимании фольклора сказались различные политические позиции, и ни в коем
случае нельзя объединить в этом отношении Вальтера Скотта, поэтов «озерной школы» и
Байрона. Байрон выделяется из общей линии английского романтизма: его фольклоризм
отражал революционные тенденции романтизма, опиравшегося на героику современных
национально-освободительных войн. Эти положения исследователя нужно признать
овершенно правильными, хотя с отдельными его характеристиками и не всевозможно
согласиться. Так, например, фольклоризм Вордсворта он изображает как фольклоризм
типичного народника-феодала, идеализирующего отсталую часть крестьянства, а наряду с
ним Вальтер Скотт отражал национально-консервативные тенденции шотландского
дворянства. Однако значение Вордсворта, как и всей «озерной школы» в целом, гораздо
шире, и ее идейные истоки представляются в ином свете.
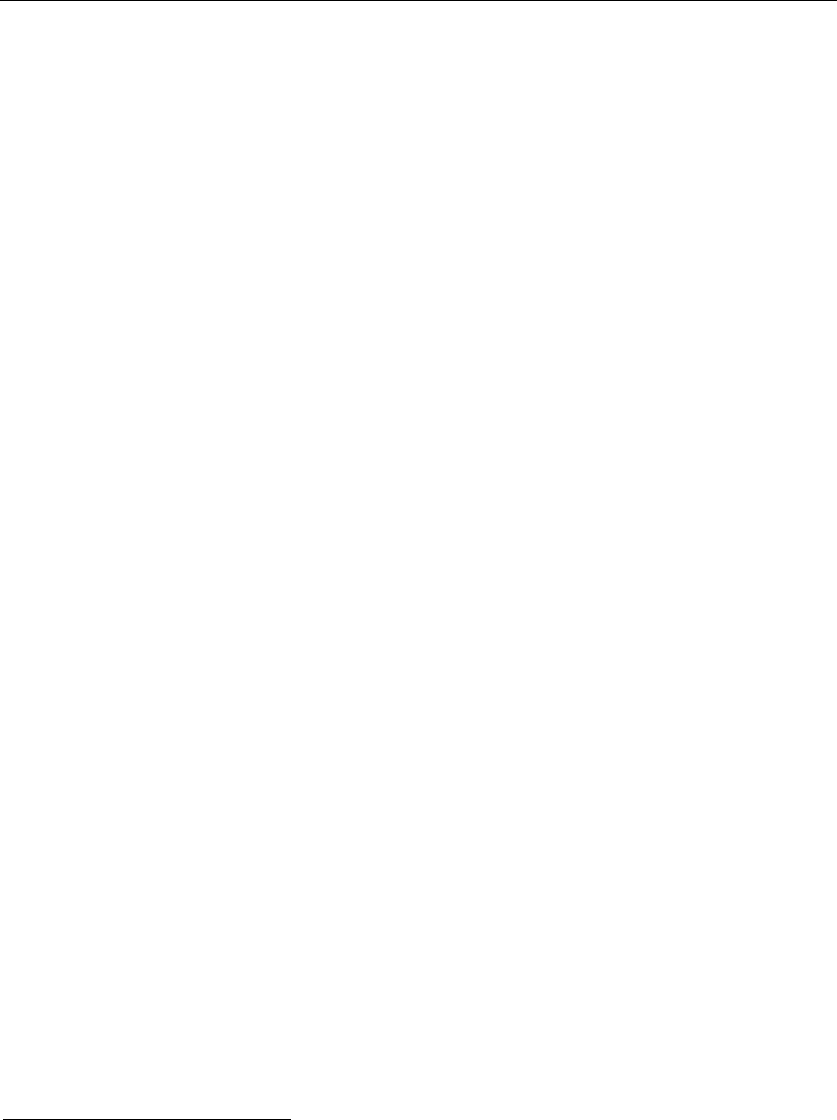
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
побежденных, упрекая их в том, что они поддаются неверным. С этого
времени арматолов начали называть клефтами». Впоследствии турки
пытались войти в соглашение с арматолами и предоставляли им право на
самоопределение при условии дани с их стороны; но многие племена,
жившие в наиболее недоступных местностях, отвергали всякое соглашение с
турками и «сохранили до нашего времени совершенную свободу»;
впоследствии они получили название собственно клефтов. «Клефты
похищали стада, жгли деревни, пленяли аг и беев, уводили их в горы и
возвращали только
206
за выкуп. Таким образом, когда арматолы защищали оружием жизнь и
права... и начинали воевать с турками, следовательно, их грабить, им снова
давали имя клефтов, или, может быть, его принимали сами, как древнее
титло их славы». Другими товами, это были греческие патриоты, ведущие
партизанскую борьбу с турками. Эта борьба сделала клефтов
национальными героями и отразилась в народной поэзии, где в
многочисленных песнях воспевались героические подвиги клефтов. Песни
клефтов — песни греческих партизан; они-то и были опубликованы книге
Фориэля. Это первая в мировой фольклористике публикация партизанских
песен.
Книга Фориэля приобретала двойное значение: и как крупнейшее
явление фольклористики и истории литературы, и как замечательный
политический памятник. Она отражает тенденции эпохи, когда в центре
внимания всей передовой Европы стояла борьба греков за свободу. В
орбиту филэллинизма были вовлечены почти все выдающиеся деятели этой
поры, — с ним связаны имена и Байрона, и Пушкина, и даже молодого
Фридриха Энгельса, написавшего повесть о морских пиратах, относящуюся
к героическим событиям 20-х годов
1
.
В России филэллинизм теснейшим образом был связан с декабризмом,
хотя вообще диапазон его был значительно шире. Филэллинистические
тенденции были широко распространены в русском обществе 20-х годов,
захватывая самые разнообразные круги. Наряду с деятелями
прогрессивного и революционного движения мы встречаем среди русских
филэллинистов и имена Сергея Глинки, Жуковского, В. Каразина и многих
других, из которых некоторые принадлежали к реакционно-обскурантским
кругам. И. И. Замотин совершенно справедливо указывал, что
филэллинистические мотивы явились, хотя и косвенно, одним из стимулов
«для выражения национального самосознания»
2
. Гнедич, однако, перевел
1
См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. II, А1, 1929, стр. 443 — 454
2
И. И. Замотин так пишет об этом: «Культ национальной греческой свободы, проникший
в общественное и литературное настроение, был, с одной стороны, актом национального
самосознания, так как сознающий себя народ те самым сочувствует и национальной
самобытности другого народа; с другой стороны, тот же культ был средством и для
усиления собственного национального чувства в обществе, так как вводил в его сознание
идею национальной свободы и самобытности» (И. И. Замотин, Романтический идеализм в
русском обществе и литературе 20 — 30-х годов XIX столетия, СПБ, 1907, стр. 143 — 144).
Замотин приводит ряд фактов, характеризующих интересс русского общества к греческой
проблеме, однако сообщаемые им факт случайны и неполны. К материалам, приводимым
Замотиным, следует, что в журналах того времени было опубликовано большое
количество разнообразных статей, очерков, заметок, посвященных «греческой теме»; во
многих из них сообщались подробности этнографического и фольклористического

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
книгу Фориэля не целиком, но всего лишь несколько песен. Во введении же,
которое
207
предпослано переводу, он интерпретировал основные мысли Фориэля,
сопроводив их рядом своих замечаний. Введение распадается на две части: в
первой Гнедич подробно излагает теоретическую часть предисловия
Фориэля, частично давая дословный перевод, частично излагая своими
словами. Во второй части он применяет наблюдения Фориэля над
греческой народной поэзией к русскому и украинскому материалу и
устанавливает большое сходство новогреческой и русской народной
поэзии, которое он объясняет влиянием на греческих певцов народной
поэзии древнеславянских племен.
Гнедичевский перевод Фориэля — один из первых трактатов о народной
поэзии и единственный вышедший из декабристской среды. Гнедич
отмечает сходство новогреческих плачей с русскими и украинскими
причитаниями, отмечает наличие в Греции и у нас весенних песен и
особенно подробно останавливается на вопросе о сходстве греческих и
русских народных певцов. «Особенность всех произведений
простонародной поэзии везде общая, — писал Фориэль, — сочинители их
остаются неизвестны. Эта особенность обнаруживается и в греческих
песнях. Никто не знает сочинителей, но большая часть песен слывет
произведением слепцов-нищих, рассыпанных по всей Греции, людей,
изображавших собой древнейших рапсодов с точностью, в которой есть
что-то поразительное». Фориэль подробно описывает методы и характер
исполнения народных песен слепцами и вместе с тем устанавливает их
классификацию по отношению к авторству: одни только «собирают,
выучивают и распространяют песни, сочиненные другими; другие не только
повторяют и распространяют чужие песни, но «сами делаются поэтами, к
числу заученных песен присоединяют свои собственные». «Вместе с тем, —
добавляет Фориэль, — они, как и древние рапсоды, являются одновременно
и поэтами и музыкантами». «Каждый слепец, сочинивший песню, сочиняет
и голос на нее». Между ними встречаются подчас замечательные по таланту
импровизаторы.
В параллель этим описаниям Фориэля Гнедич подробно рассказывает о
наших певцах: «Посетившие полуденную Россию также знают, что не на
одной ярмарке, не на одном приходском празднике можно встретить у нас
слепых нищих с кобзою за спиною; что одни из них играют на струнах сего
орудия смычком, другие перстами и поют разные песни; что песни эти суть
не простые, общенародные, или не одни духовные, так называемые
народом псалмы, но какие-то особенные, которые в Великой и Малой
России обыкновенно поют под окнами слепые нищие, — в роде большею
частию повествовательном, исторические, довольно длинные песнопения;
что песнопения сии рукописно нигде не существуют, хранятся только в
устах слепых певцов, и, конечно, суть произведения людей его состояния, —
произведения у нас еще незнаемые, еще не обратившие на себя внимание
наших литераторов, но не менее того доказывающие, что и наша поэзия
208
характера. Это обстоятельство еще более усиливает значение филэллинистических
настроений в истории русских изучений фольклора.
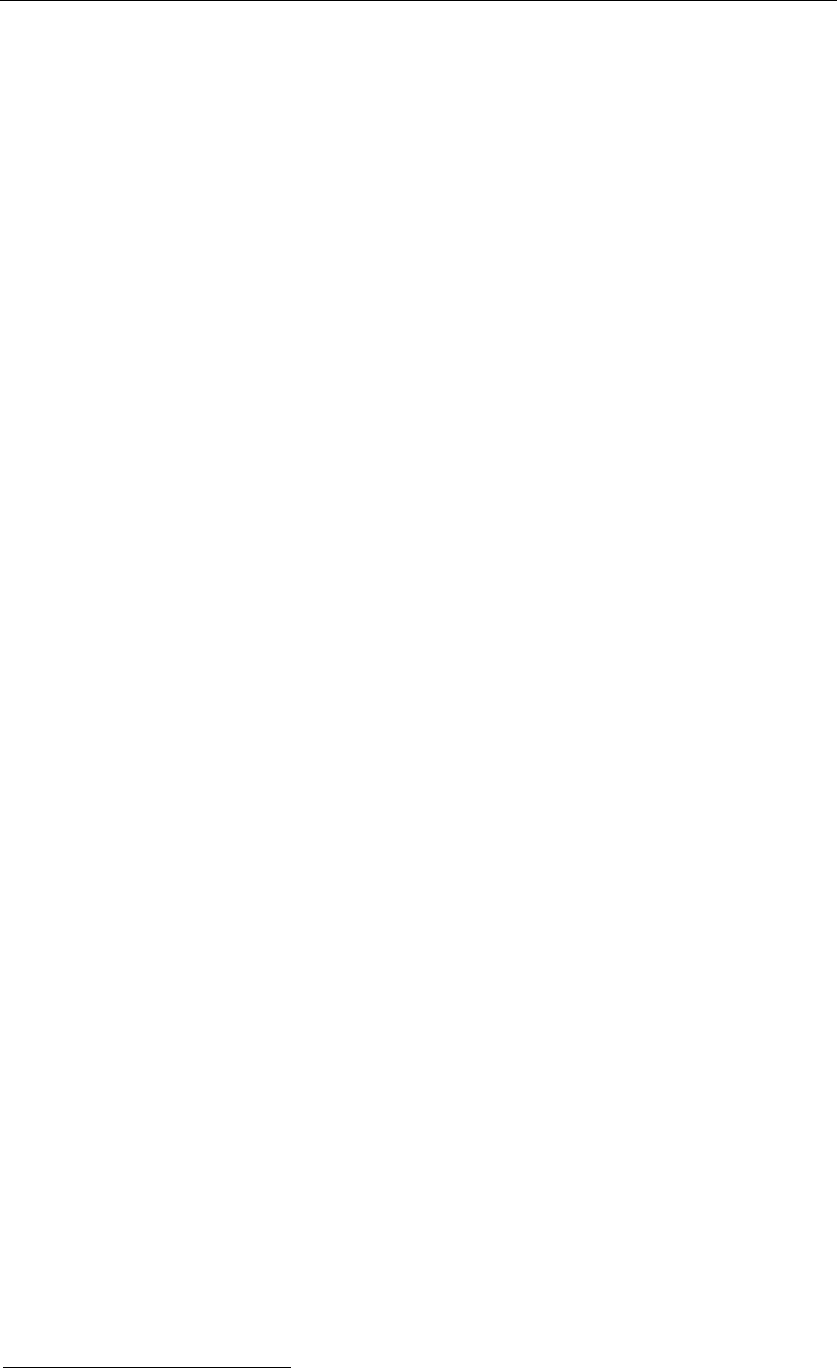
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
простонародная давно имеет своих рапсодов, может быть, немногим
россиянам известных, как еще многое в отечестве нашем, тем не менее
подобных рапсодам нынешней Греции»
1
. На сходство клефтических песен с
украинскими указывал в своем «Обзоре» и Бестужев-Марлинский. Фориэль
устанавливал, хотя и в очень осторожной форме, восточное влияние на
новогреческие песни. Гнедич решительно отвергал эту гипотезу и настаивал
на влиянии славянском. «Дух простонародной поэзии греков, — утверждал
Гнедич, — европейцам чуждый, но родственный русскому, знакомый
славянину...» Эту близость, как мы уже говорили, он объяснял влиянием
древнеславянских племен: «Не один, может быть, слепый рапсод,
воспевший подвиги клефтов, был славянин, впечатлевший и дух и вкус
собственный в свои песни греческие»
2
.
Сопоставление русских песен с клефтическими имело очень важное
значение — также, конечно, политическое. Оно коренилось не только в
общей филэллинистической позиции Гнедича, не позволявшей ему
признавать культурного воздействия восточных народов, но имело и более
широкий смысл: утверждая славянское влияние на певцов греческой
свободы, Гнедич внушал мысль об определенном характере
древнеславянских, а стало быть, и древнерусских песен, тем более что он
особенно подчеркивал сходство и возможное влияние в песнях
исторических, т. е. как раз там, где отчетливее всего представлены мотивы
борьбы за свободу. Точка зрения Гнедича в данном случае сближается с уже
знакомой нам декабристской концепцией народной поэзии.
Повышенный интерес к фольклору нашел отражение и в художественной
практике декабристов и близких им литераторов. Фольклорные мотивы мы
встречаем в поэзии А. Бестужева, К. Ф. Рылеева, А. Одоевского, Ф. Глинки,
П. Катенина, В. Раевского, В. Кюхельбекера и др. А. Бестужев и К. Рылеев
обращаются к фольклору, создавая агитационные песни для солдатской
массы. Позже, на каторге, М. Бестужев пользуется формой народной песни
для песни о восстании Черниговского полка.
Проблема фольклора в декабристском понимании являлась проблемой
исторической и литературной. Чисто этнографическая сторона, т. е.
всестороннее изучение народной жизни и народного быта, была
представлена слабо. У декабристов отсутствовало стремление понять жизнь
народа во всем своеобразии и во всей яостности. Народ для них был не
конкретным этнографическим понятием, а лишь некой исторической
категорией.
Огромный перелом в их понимании народной поэзии и народа в целом
произвела ссылка. Она дала им возможность ближе соприкоснуться с
народными массами и народной жизнью.
209
В ссылке декабристы внимательно прислушиваются к сказкам, песням,
преданиям местного населения не только русского, но и туземного, что
также находит отражение в их творчестве. В олонецкой ссылке Глинка
создал поэмы «Карелия» и «Дева карельских лесов», сюжет которых
1
Н. И. Гнедич, Сочинения, т. 1, 1884, стр. 229 — 230.
2
Там же, стр. 235 — 236.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Проблема фольклора в литературно-
общественной борьбе первой четверти XIX века.
заимствовал из олонецких народных преданий. В Якутии А. Бестужев и
Н. Чижов обрабатывают мотивы якутских легенд («Саатырь» А. Бестужева,
«Нуча» и «Якутская фантазия» Н. Чижова). В Забайкалье В. Кюхельбекер
слушает народные сказки, записывает местные слова, обрабатывает
народные предания; Ник. Бестужев изучал особенности говора сибиряков-
старожилов, особенно интересовался бурят-монгольской этнографией и
фольклором и явился одним из первых собирателей бурят-монгольских
сказок. Его очерк «Гусиное озеро» (первоначально напечатан в «Вестнике
естественных наук», 1854; перепечатан в сборнике «Декабристы в Бурятии»,
Верхнеудинск, 1927) принадлежит к числу крупнейших памятников ранней
фольклорной этнографической литературы о бурят-монгольском народе; в
нем, между прочим, Н. Бестужев, намного опередив научную
фольклористическую мысль, дал замечательную зарисовку бурят-
монгольского сказителя-сказочника.
§ 10. Несколько в стороне от основных путей русской фольклористики
проходит деятельность Василия Андреевича Жуковского (1783 — 1852). На
его примере особенно отчетливо обозначились противоречия русского
фольклоризма, в котором часто субъективно-прогрессивные тенденции
отдельных писателей имели фактически реакционный характер и значение.
Деятельность Жуковского в сущности трудно приурочить к какому-нибудь
одному определенному моменту в русской жизни и литературе. Его
литературная деятельность продолжалась более полувека, и его имя
активно входит почти в каждое десятилетие этого периода. В литературу он
вступил уже на пороге века вместе с кругом «Дружеского литературного
общества», в атмосфере которого в сущности он и сложился как писатель.
Для него, так же как для Андрея Тургенева, для А. Кайсарова, очень
рано возникла проблема включения русской литературы в число великих
европейских литератур — без утраты своей национальной специфики, но
путем органического сочетания национальных особенностей с началами
западноевропейскими. Здесь, как уже было отмечено выше, корни
повышенного интереса кружка Тургеневых — Кайсаровых и их друзей к
проблемам национальной истории, мифологии и народной поэзии.
Кайсаров и Александр Тургенев стремились разрешить эту задачу как
историки, Жуковский — как поэт. Кайсаров обращается к древней русской
истории и национальной мифологии. Жуковский — к народной поэзии,
воспринимаемой им на фоне мировой литературы.
Помимо литературных вкусов и теоретических позиций сыграли какую-
то роль и семейные влияния, рано зародившие
210
у Жуковского вкус и интерес к фольклору. Еще в детские годы он сочиняет
«драматическое представление», сюжет которого заимствует из старинной
русской песни «Скачет груздочек по ельничку» В «Дружеском
литературном обществе» эти интересы крепнут и получают
принципиальное обоснование. В 1804 г. он сочиняет комическую оперу
«Алеша Попович или страшные развалины», одновременно переводит
английские баллады, увлекается немецкими романтиками, переводит и
перерабатывает сказки из сборников братьев Гримм, позже создает план
большой поэмы, основанной на народно-поэтических источниках (поэма
«Владимир», 1810), и, наконец, неоднократно, в разные периоды своей
