Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
61-
-61
ря словами A.A. Ухтомского, это — целеполагание с доминантой на Д., поскольку Д. и есть моя
внутренняя сущность.
Но Вернадский (так же, как и Мечников) — ученый, более того, сам называет себя натуралистом,
указывая на Гете как на родоначальника нового, натуралистического подхода к науке. Потому планета в
концепции Вернадского не иносказательно, а в прямом смысле должна находиться в живых организмах.
Планета представлена во мне вполне реально: атомы, из которых состоит моя плоть, и вещество планеты —
одни и те же. Но для того чтобы встреча с реальным Д. состоялась, мне необходимо самому измениться
навстречу ему; при этом и он должен измениться мне навстречу. Реальность Д. во мне может быть
представлена как реальность изменения меня самого. Причем предполагается изменение и в душе: я должен
полагать свои цели (будущее), учитывая интересы Д., и в моей плоти. Более того, этот взаимный обмен
дарами — обязательное условие моего присутствия как живого существа.
Д. «произвел изменения во мне», но какие? Как изменился тот, кто изменил меня? С чьей точки зрения
будем оценивать? Как представляется, сохранить взаимное изменение навстречу друг другу и в то же время
уйти от вопроса о позитивном или негативном смысле состоявшегося изменения позволяет следующий ход
мысли. В Д. существенна лишь такая же, как у меня, способность полагать цели; т. е. единственное, что нам
общо — способность выходить за свои пределы. Здесь нет слияния меня и Д., нет и третьего элемента,
объединяющего нас, и ни один из нас не претендует быть связкой. Однако в самом целеполагании еще нет
положительного определения связи одного и Д.: положительное определение может появиться лишь во
взаимном удержании друг друга в качестве цели. Например, живое может выступать для меня как истинная
(несущая бесконечность задачи) цель только потому, что оно не просто полагает цели, но меня — как цель.
Здесь антропный принцип, согласно которому человек вообще, а не конкретный человек выступает центром
и целью космоса, уже недостаточен. Во взаимном целеполагании удерживается и истинная суверенность, и
доминанта на Д., навстречу которому я изменяюсь сам.
Но в наказание за это происходит потеря себя, а потом и Д. Знаменитый образ этой коллизии предложил
Чжуан-цзы (см.: Время культуры, I). Его размышления можно на европейский манер пересказать так.
Философу снится бабочка, которой снится философ, которому... И бабочке снится философ, которому
снится бабочка, которой ... Здесь не просто гегелевское опосредствование опосредствования: ведь сон —
время
невладения собой, время, когда во мне оживает Д., а это рассуждение приходит Чжуан-цзы в голову,
когда он проснулся (т. е. все начинается не с непосредственного и не с опосредствования, а — с
неопределенности). И главное отличие от гегелевской логики сформулировано в его резюме: «Вот что такое
превращение вещей!» [13:73]. Чжуан-цзы не просто представил, вообразил себя бабочкой, — он превратился
в бабочку: ведь речь идет о превращении вещей. Когда мифологичные осваивают видовой опыт тотемного
животного, они действительно превращаются в это животное. К. Кастанеда описывает [3], как ученик дона
Хуана, Карлито, превращается в ворона и видит мир его глазами, ощущает воздух его крыльями. Стать
вороном — значит не вырастить себе перья и клюв, а увидеть, услышать, почувствовать мир таким, как его
чувствует ворон.
Чжуан-цзы задает себе вопрос: он превратился в бабочку или она в него? Можно спросить и Карлито: он
превратился в ворона или — ворон превратился в него, поняв свой, своими вороньими глазами увиденный
мир через сознание Карлито? Поясняя, что такое рефлексия, или самосознание, B.C. Библер вспоминал
присловье «отойдем и поглядим, хорошо ли мы сидим». Отойти в сторонку, чтобы посмотреть на
собственную осанку себя сидящего, невозможно. Самосознание же как раз и есть такой фокус — смотреть
на себя со стороны. Если мы задаем вопрос, кто же инициатор превращения (Карлито, который видит
глазами — т. е. сознанием ворона, или ворон, который понимает мир сознанием — т. е. глазами Карлито),
значит ли это, что мы спрашиваем о том, где же я есть по-настоящему — там, где сижу, или там, где гляжу
на себя со стороны? По-видимому, не только: ведь в этом примере замешан и Д. — ворон.
В приведенных примерах предлагается иная постановка вопроса: где же я по-настоящему принадлежу
себе — в себе (когда одновременно и сижу, и гляжу на себя со стороны) или когда, не владея собой, я теряю
себя, оказываясь в Д.?
Когда мы что-нибудь приобретаем, то обмениваем свои деньги — т. е. вложенное в них
время своей жизни — на вещь, воплотившую в себе время чужой жизни. Человек,
имеющий вилы, мерседесы, яхты, — т. е. присвоивший себе большое количество времени
чужих жизней — вызывает зависть. Но и осуждение: не может у него быть такого
количества времени своей жизни, какого бы высокого качества оно ни было, чтобы
обменять на такое количество чужого времени. Хотя, может быть, он получил это по
наследству? Родители с удовольствием (иногда даже одержимо) вкладывают в своих
детей время своей жизни. Неясно, кто же здесь по-настоящему с прибылью — тот, кто
вкладывает, или тот,
54
в кого вкладывают? Выигрывает ли владелец, присвоивший себе время чужой жизни,
или тот, кто сумел раздать больше времени своей жизни другим? Человек радикально
конечен, поэтому для него принципиально важно понять, где же он существует по-
настоящему — когда принадлежит себе, или когда не владеет собой и принадлежит Д.,
или когда и так и этак.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
62-
-62
Возвратимся к нашим героям. Приобрел ли ученик дона Хуана, присвоивший себе видовой (естественно
— и индивидуальный) исторический опыт ворона, его видение мира, или, может быть, это ворон сумел
передать свой опыт Карлито, а через него Кастанеде, который подарил этот опыт миллионам своих
читателей? Да ведь этот ворон — «счастливейший человек», ему повезло: его личный опыт живет в
миллионах особей другого и, как мы полагаем, более высокого племени. А вот Чжуан-цзы не столь
высокомерен и не считает, что он осчастливил бабочку (впрочем, кажется, и не полагает, что она
осчастливила его); это просто Превращение вещей, а «Превращение» не ищет себе блага, оно бескорыстно.
И если мое знание станет столь же бескорыстным, то это и будет путь познания как освобождения —
освобождения от своего Я, а заодно — и от Д.
Предпринятый экскурс в телеологию, биологию и на Восток понадобился для того, чтобы удержать и
принципиальное отличие Д. от «меня», т. е. его радикальную инаковость, и — одновременно — его
суверенность, но притом не потерять его как Д. (не превратить в Ч.). И этот экскурс привел к неожиданному
результату. Отказ от классической европейской рациональности (и универсальности) и предложенная здесь
попытка их переинтерпретации может привести к весьма неприятным последствиям: вообще к потере
самоидентичности, а затем и к потере Д. Однако, по-моему, это вовсе не означает, что надо, опасаясь
потерять себя, возвратиться вспять, к европейской классической традиции. Как представляется, следует
попробовать, начав с описанной диспозиции взаимоотношений С. и Д., ввести асимметрию, направленность,
или опосредствованность, отношения с Д. Но осуществить это следовало бы не так прямолинейно и
однозначно, как посредством орудия труда Марксом вводится асимметрия в отношении человека и мира в
качестве Д. Тогда мир оказывается враждебным Д., не заинтересованным во мне.
Продуктивные пути новой постановки проблемы Д. предприняты Э. Левинасом [4] и Б. Вальденфельсом
[ 1 ]. Недооценка решающей роли Д., иного в самоидентичности человека является одной из основных, если
не главной, причиной превращения мира в ареал борьбы человечества за собственное выживание. Такая
асимметрия в отношении с Д. должна бы, наподобие «новой уни-
версальности», быть не данностью, а заданностью, которую, как и асимметрию полушарий головного
мозга, надо всегда завоевывать и отстаивать (физиологи доказали, что когда мозг перестает активно
функционировать, асимметрия начинает нивелироваться). Этим требованиям отвечает, как мне
представляется, весьма продуктивный путь нового решения проблемы самоидентичности, предложенный в
концепте А.Ю. Шеманова (см.: Самоидентификация, I).
Поскольку для современной философии (и в первую очередь для экзистенциализма) бытием стало время
личностного существования человека, постольку проблема множественности приобрела вид тайны Д.
Традиционную для диалектической логики проблему множественности можно представить таким образом.
Следует ли принять множественность в качестве исходной посылки и выводить из нее единство; или, начав
с единства, вывести из него множественность; или начать с их рядоположенности; а может быть — с
неопределенности как взаимодействия отдельностей? В эпоху постмодернизма проблема множественности
приняла вид тайны Д., и тогда стало очевидным, что это не отвлеченная проблема введения аксиоматики для
построения диалектической логики, а вопрос об иллюзорности или реальности (и о том — что это значит)
мира, в котором живет человек. И потому тематизация Д. — одна из важнейших задач теоретической
культурологии.
Библиография
1. Вальденфельс Б. Мотив чужого. Минск, 1999.
2. Визгин В.П. На пути к другому: размышления на заданную тему // Постижение культуры.
Вып. 11. М., 2001.
3. Кастанеда К. Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки. М., 1998.
4. Левинас Э. Избранное: тотальность и бесконечное. М.-СПб., 2000.
5. Леви-Стросс К. Руссо — отец антропологии // Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.,
1994.
6. Межуев В.М. Как возможна наука о культуре (культурология)? // Постижение культуры.
Вып. 7. М., 1998.
7. Огурцов А.П. Критика культурного трансцендентализма (при анализе культуры) //
Постижение культуры. Вып. 11. М., 2001.
8. Румянцев O.K. Диалектическая телеология. М., 1998.
9. Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2000.
10. Туровский М.Б. Первобытный коллектив и индивидуум // Туровский М.Б. Предыстория
интеллекта. М., 2000.
11. Фрейд 3. Тотем и табу // Фрейд 3. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Книга 1. М., 1991.
12. Черняк Л.С. Органическое как аналогия разумного // Вопросы философии. 1997. № 1.
13. Чжуан-цзы I/ Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995.
55
ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ
Можно воспринять идеи Г. Башляра [2] таким образом, что четырем природным стихиям — огню, воде,
земле и воздуху — отвечают соответствующие стихийные силы, живущие в человеке, и какая то из них
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
63-
-63
(комбинация их) обычно в нем преобладает либо является любимой. Человек волен избрать символом
своего жизненного пути любую природную стихию. Выбор может оказаться неправильным (по ошибке или
преднамеренно), тогда его жизненная задача, наверно, не будет реализована. Допустимо вовсе отказаться от
выбора, но тогда жизнь, скорее всего, будет посредственной. Правда, и удачный выбор еще не гарантирует
счастья, ведь если это стихия, то не только человек ее избирает, но и она его, причем так же — не без
резона, однако произвольно. Представляется, что следует предположить наличие еще одной стихии —
времени, у которой такие же взаимоотношения с человеком, но как бы перевернутые по сравнению с
четырьмя природными стихиями. Тогда естественным местом для существования времени выступит
человек. Поэтому время удобно назвать культурной стихией: время, конечно, является человеческим
измерением, но оно стихийно.
Предложенная позиция противоречит распространенному представлению, что время в физике (вообще в
естественных науках) совсем иное, чем время жизни человека. За таким разделением времени, условно
говоря, на естественно-научное и человеческое обнаруживается интуиция противопоставленности человека
и природы. Пафос не просто бесперспективности, а пагубности такого подхода ярко выражен в концепции
«время», разработанной H.H. Трубниковым. Он считал, что время является чуждым, равнодушным к
человеку космическим началом настолько, насколько сам человек противопоставляет себя природе как
объекту приложения своих сил. И время останется чуждым, пока человек не осознает своего единства и
родства с природой, а себя как продолжения саморазвития, самоосуществления мира. Тогда время
превратится в зависимую от человека переменную, и он увидит свою задачу не в овладении временем, а в
овладении самим собой как «телом отсчета», и тогда время будет принадлежать нам, а не так, как сейчас: не
научившись принадлежать самим себе, мы принадлежим времени [10: 244, 250, 251].
Следует отметить, что здесь концепт В.к. имеет иной пафос, чем название во многих
отношениях замечательной монографии С.С. Неретиной и А.П. Огурцова «Время
культуры» [6], которым я и воспользовался. Авторы, как я понял, несмотря на трезвую
оценку и озабоченность нынешней ситуацией, хотят этим названием сказать, что вопреки
постмо-
дернизму начинается (даже уже началось) время истинного господства культуры. Я же
веду речь о том, что эпоха безраздельного господства классического европейского
культурного времени заканчивается (естественно, это обсуждают и авторы упомянутой
монографии); что время вылетело из этих границ и опять становится стихией, от чего,
конечно, очень тревожно, но вместе с тем и весело.
Время, представляя собой необратимые изменения, предполагает тем не менее возможность
обратимости; как прошлое движется в будущее, так же (но иначе) и будущее движется в прошлое;
направленное время невозможно без циклического и наоборот. Потому время ритмично. Ускорение ритма
времени, происходящее в человеческой истории, начато не человеком, а продолжает акселерацию времени,
начавшуюся, по меньшей мере, с возникновением жизни. Однако, декларируя последовательное ускорение
ритмов времени планеты, живого, и затем человечества, воздержимся от обсуждения вопроса о том, на
каком основании эти три процесса объединены одним именем «время», поскольку искать его решение
придется в контексте европейского понимания времени, которое в этой статье как раз и будет поставлено
под вопрос.
Очевидно, что с появлением жизни планете был навязан новый ритм: процессы в организмах идут в
сотни тысяч раз быстрее, чем геохимические процессы. Конечно, количественная оценка ускорения
процессов в организмах (ферменты в сотни тысяч раз ускоряют химические реакции) здесь крайне условна,
но то обстоятельство, что живое вещество, вес которого в два миллиарда раз меньше веса планеты, сумело
построить ее оболочку, изменить ее геохимию, создать атмосферу, уже само по себе говорит о многом. И
дело даже не столько в скорости, сколько в направленности процесса жизни — направленности на освоение
планеты (травинка не потому взламывает бетон, что она мощнее отбойного молотка, а потому, что у нее есть
«цель»). Появление фотосинтеза, замена прокариотической биосферы на преимущественно
эукариотическую сопровождались значительной активизацией метаболизма, а значит — резким ускорением
круговоротов веществ, т. е. ритмов биосферы.
Оставив в стороне разговор о принципиально разных времени геосферы и времени
биосферы, ускорение ритмов времени даже живого: экспансия размножения, образование
органов, видообразование — предполагает качественные изменения времени. Смысл
размножения (в том числе прокариот) — порождение такого нового организма, который
есть тот же самый, что и породивший его организм (оговорюсь — немного не тот же
самый, т. е. и бактерии не владеют полностью своим существованием, открыты дру-
56
гому). И только так можно пребывать во времени: организм, сохраняющийся
неизменным во времени, — труп; потому в обмене веществ происходит постоянное
самовоспроизведение организма. Экспансия размножения прокариот (теоретически — в
геометрической прогрессии) могла бы быстро исчерпать возможности планеты.
Многоклеточные эукариоты заменили этот экстенсивный путь освоения планеты на
интенсивный — создание органов, где записан (в обобщенной форме) опыт освоения
видом своей конкретной среды, что также сопровождалось активизацией метаболизма и
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
64-
-64
ускорением круговоротов веществ. Но и эти возможности не были безграничны. Очень
продуктивное решение, возможности которого, видимо, были исчерпаны лишь накануне
антропогенеза, заключалось в последовательно ускоряющемся видообразовании. При
этом средняя продолжительность существования вида сокращалась, например у птиц — 2
млн. лет, млекопитающих — 800 тыс. лет, предковых форм человека — 20 — 50 тыс. лет
[7:65-66]. Параллельно шло усложнение структуры биогеоценозов и исподволь готовился
выход и из этого тупика — цефализация, позволившая за счет коммуникативных
возможностей наращивать сложность биоценозов и открывшая путь к ноосфере. Отмечу,
что даже простое количественное ускорение времени порождает новое качество, ведь
жизнь настолько ускоряет процессы, что действительное время существования биосферы
значительно больше срока жизни любых планет, да и вообще Вселенной, поэтому возраст
Земли и сравнить не с чем.
Несмотря на антропный принцип, выражающий соответствие параметров Вселенной условиям,
необходимым для возникновения жизни, мир не предуготован организму, выступая для него
неопределенностью. Организм относится к среде очень избирательно, потому, чтобы получить из среды
нужное для жизни, организм должен сначала ее упорядочить, что для него означает — создать свой мир из
хаоса. Как упорядочивающий центр жизнь представляет опосредствование, реальность обобщения. Если
жизнь в качестве участника взаимодействия со средой ограничена ею и потому конечна, то как
упорядочивающий центр, замыкающий отношение на себя, жизнь сама же и создает предпосылки своего
самопорождения, т. е. — бесконечна. Центрация жизнью на себя своих взаимоотношений с планетой
предполагает цикличность времени самой жизни (и наоборот). В э-том случае речь уже идет, пишет М. Б.
Туровский, не о материальном вкладе жизни в существование планеты (новые вещества, оболочка
атмосфера, круговороты), но о возникновении нового для планеты типа взаимодействий [12].
Для Туровского (впрочем, как и для Ухтомского, Вернадского) субстанциальны не
взаимодействующие контрагенты, а само отношение взаимодействия. Значение
появления «нового типа взаимодействий» можно проиллюстриро-
вать примером: в этом смысле душа и тело — разные типы взаимодействия организма
со средой.
Такой новый тип взаимодействий, центрированных на себя жизнью, Вернадский назвал биосферой.
Жизнь потому открывает скрытые в планете потенции, что сама открыта ей навстречу. Эти потенции
составляют тайну геосферы. Можно сказать, что тайна планеты — время жизни, время, обреченное на
ускорение. Причем тайна эта, будучи названной, не перестала быть тайной. Осуществленное человечеством
изменение маршрутов круговоротов веществ (не столько через свое физическое тело, сколько через «тело
цивилизации») уже на порядки ускорило их, навязывая биосфере (теперь уже ноосфере) новые невиданные
ритмы, так что без экологических кризисов (сопоставимых с теми, которые происходили с планетой,
превращающейся в биосферу) теперь, конечно, не обойтись.
Что же означает ускорение ритмов планеты и жизни, является ли это ускорение направленным?
Организм тем эффективнее упорядочивает среду, чем более он открыт ей: по Вернадскому, более
приспособлен тот, кто быстрее осуществляет круговорот веществ (это первый геохимический принцип,
который состоит в том, что круговороты веществ постоянно ускоряются), полнее тратит силы, т. е. тот, кто
лучше умеет отдавать. Условием возможности получить нужное организму от планеты является
необходимость превратить планету, как свободную и суверенную (а не подчиненную жизни), в
заинтересованную в организме. А это, в свою очередь, возможно, только если организм поставит себя (тоже
как суверенного) в добровольную зависимость от планеты. Круговорот веществ начинается со свободного
дарения себя (своих атомов), а не с корыстного приобретения веществ для себя (см.: Ноосфера, II).
Центрировав на себя взаимодействие со средой, жизнь приняла обязательство удерживать порядок этого
взаимодействия и уже не может отказаться от присвоенной себе ответственности (и свободы) — просто
потому, что жизнь и есть реальность обобщения (опосредствования). В жизненном соревновании (в «борьбе
за существование») выигрывает не тот, кто лучше приспособился получать на льготных условиях, а тот, кто
берет на себя и исполняет больше обязательств, потому ускорение ритмов времени стало для жизни
необратимым, точнее говоря — необратимо направленным. Куда? Здесь очень важно положение
Вернадского о том, что ноосфера есть естественный результат эволюции биосферы.
Конечно, Вернадский прекрасно понимал, что ноосфера в своей значительной и
существенной составляющей есть культура — т. е. результат искусных усилий ума, рук и
сердца человека. Тогда в каком смысле она является «есте-
57
ственным результатом»? Прежде всего, как я понимаю, речь идет о «точке зрения»
самой планеты, с которой ноосфера есть очередной, вслед за геосферой и биосферой,
этап ее эволюции. Кроме того, эта точка начала («альфа») удивительным образом
совпадает с точкой «омега» (по выражению Тейяра де Шардена) — с некоторым
абсолютным результатом; а, с позиции Абсолюта («омега»), возникновение ноосферы из
биосферы есть предпоследний этап и вполне естественный (или, если угодно, — сверх-
естественный) процесс. Попутно отмечу, что такой ход с естественностью происхождения
ноосферы является для Вернадского еще одним, и весьма серьезным, аргументом,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
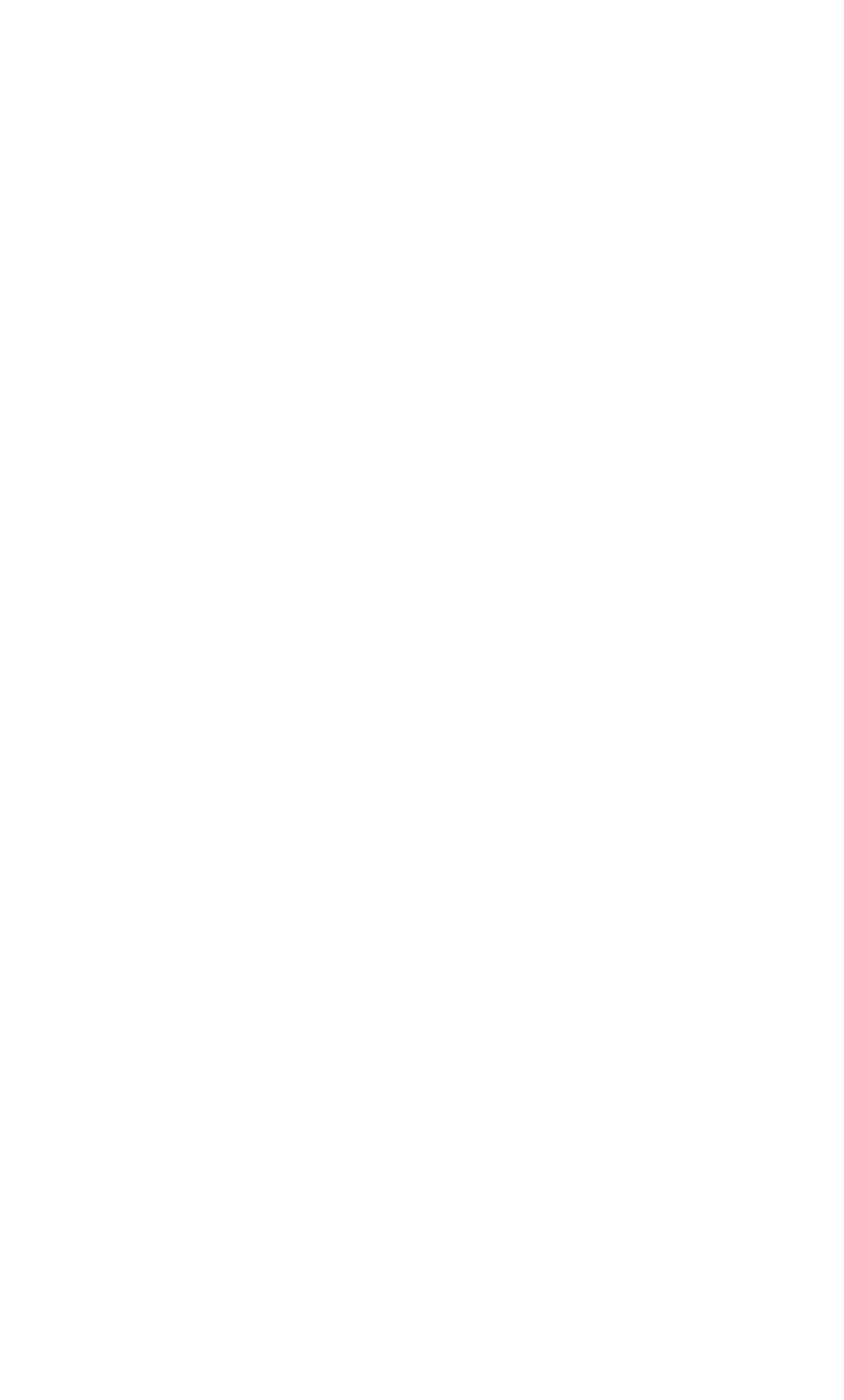
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
65-
-65
позволяющим уйти от мешающей ему гносеологической оппозиции субъекта и объекта,
потому здесь речь идет не о частной подробности, а о принципиальном положении его
концепции.
Небывалым образом активизировав круговороты веществ, человечество, составляющее ничтожную часть
биосферы, замкнуло на себя больше 20 % ее энергопродукции, порождая парниковый эффект, что
значительно ускорило движение планеты к тепловому кризису. Однако сейчас мне важно обратить
внимание на другую сторону дела. Человечество все-таки лишь ускорило движение планеты, направленное
к энергетическому коллапсу не им самим, а живым веществом. Изменить вектор направленности жизнь не
может (в силу первого геохимического принципа), но для человечества это возможно. Такая надежда
предполагает радикальное изменение, а не экстенсивное ускорение (как это происходит сейчас) заданного
жизнью направления саморазвития планеты. Представляется, что именно это обстоятельство — абсурдность
дальнейшего ускорения ритмов времени в логике прогрессивного освоения планеты человечеством
(ставшим геологической силой и «лидером живого вещества») — и обнаружили в современной культуре
философия К. и культурология, хотя и с совершенно иных (не естественно-научных, а гуманитарных)
позиций. Потому необходимо принципиальное изменение логики ускорения времени, заданной европейским
проектом времени и культуры.
Время и его трансформация в человеческой истории непосредственно связаны с образом жизни.
H.H. Трубников приводит следующий пример, иллюстрирующий связь образа жизни со
временем «Последнее делается особенно заметным при сопоставлении наших обычных
представлений о времени и представлений народов, условия жизни которых связаны с
геофизически менее выраженными сменами времен года или меньшим хозяйственным их
значением. Таковы, в частности, условия жизни, базирующиеся на внесезонном
скотоводстве. Скотоводческие народы охотнее фиксируют внимание на лунном, а не на
солнечном цикле. Одно из ныне существующих индейс-
ких племен Эквадора — хиваро, так называемые «охотники за черепами» — до сего
дня не имеет представления о годе как таковом. Единственным его материальным знаком
является цветение одной из пальм, не имеющей для хиваро сколько-нибудь заметного
хозяйственного значения. Во всем остальном год остается «одним сезоном», т. е. никак не
отделяется один от другого... Не ведется, естественно, и счет лет человеческой жизни.
Возраст определяется менее отвлеченными чинами: рождением, грудным
вскармливанием, участием в детских играх, наступлением половой зрелости, вступлением
в брак, рождением детей и внуков и т. д.» [10:27].
Чтобы установить содержательную корреляцию между временем и образом жизни, последний надо
сначала понять как суверенный и самодостаточный феномен культуры. Познать некоторое событие, эпоху,
образ жизни для науки означает объяснить их причину, контекст, бессознательные мотивы, коллективные
предрассудки — то есть свести к фундаментальным основаниям и тем самым сделать непонятное понятным.
Философия культуры так же, как и наука, начинает с непонимания, экзистенциального удивления, но
результат иной: становится ясно, что данное явление не только мне, но и всем непонятно, и более того —
оно никогда и не может быть понято. Ведь только так событие, образ жизни, человеческая общность, эпоха
сохраняют для меня свою суверенность — значит, удерживаются как предмет культурологического
исследования. Для гуманитарного знания объяснить — означает понять нечто в его радикальной
непонятности. Суверенность не только другой эпохи или культуры, но и другого образа жизни предполагает
инаковость другого, доведенную до всеобщности.
Удержание суверенности иной культуры является обязательным условием работы для философа.
Поэтому обсуждение границ между культурами, например у B.C. Библера, сопровождается анализом
границы культуры и внекультурного иного (у Библера этот сюжет представлен в качестве «мира культуры
как мира впервые») (см.: Диалогика культуры, I; Границы культуры, I), где культура и находит искомую
всеобщность, универсальность. Но ведь границу с иным полагает сама культура. И Античность, и
Средневековье, и Новое время — все они имели свою собственную форму всеобщего (потому эти эпохи не
слышат друг друга как равноправные голоса), и соответственно — свое иное; современность же не имеет
наперед заданной формы всеобщности (отсюда проблематичность иного и множественности), потому она
оказалась открытой для того, чтобы «услышать» другие всеобщие культуры. Однако это ведет к потере
современностью себя
58
самой — все голоса равноправны, нет избранной позиции и критерия истинности. В результате потери
себя происходит и потеря другого. Именно в целеполагании человеком осуществляется прорыв границы,
проведенной культурой, трансцензус в иное. Потому для обоснования самодостаточности и суверенности
такого феномена, как образ жизни, его надо вывести из манеры целеполагания (см.: Манера целеполагания,
I).
Именно конститутивная для человека особенность — полагание целей во всеобщей, неопределенной
форме — определила радикальную особенность человеческого времени. У животных целеполагание
обращено вспять, к прошлому, поскольку способы целедостижения записаны в органах, воплощающих
прошлый опыт истории вида. Неопределенность, всеобщность целей человека означает, что способы
целедостижения не даны, а конструируются как возможные гипотезы, потому его цели направлены в
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
66-
-66
будущее. Тем самым человеческое время не просто одновременно циклично и направлено как время живого,
но течет в обе стороны — из прошлого в будущее и из будущего в прошлое, как в образе-модели «водно-
песочных» часов, предложенном Трубниковым. Качественное время, которое может быть прямым и
обратным, быстрым и медленным, ясным и темным, таким и сяким, «движется» в его модели через узенькое
горлышко настоящего (песок сыплется сверху, выдавливая воду снизу) из прошлого в будущее и наоборот,
при этом сами прошлое и будущее «движутся» и туда и сюда [10:202-203].
Но ведь в таком образе, как мне кажется,
УЗОСТЬ
горлышка настоящего есть еще и символ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
настоящего этому взаимному ходу времени. Еще отчетливее сопротивление настоящего
течению времени выражено у М. Хайдеггера. Для него четвертое измерение времени (три измерения — это
прошлое, настоящее и будущее) — «...близит наступающее, осуществившееся, настоящее друг с другом, их
от-даляя. В самом деле, она (близь. — O.P.) держит осуществившееся открытым, отклоняя его наступление в
качестве настоящего. Это ближение близи держит открытым наступление из будущего, отказывая
настающему в настоящем. Близящая близь имеет характер отклонения и отказа. Она заранее со-держит
способы протяжения осуществившегося, настающего и настоящего в их взаимном единении» [14:400].
Тогда настоящее — и связь времени, и
БУНТ
против времени, сопротивление его ходу. Такая роль
настоящего обусловлена тем, что человек «поселился» и в будущем, но захват этого нового для жизни места
обитания дорого ему стоил — человек потерял свое место в мире.
Конститутивная для человека особенность целеполагания, обращенного в будущее, предполагает его
дезадаптацию, он не определен относительно среды. Если волк сразу рождается волком (хотя и
доучивается), то человек по происхождению «Маугли», и это отсутствие своего места в мире является
следствием (точнее — другой стороной) его открытости миру. Хайдеггер говорил о «заброшенности»
человека в мир; может быть, лучше сказать — «выброшенности» из мира. Эта открытость, неприкаянность
человека и есть общее свойство любой человеческой культуры.
Но тогда человеку пришлось строить свой мир. Опыт человеческого коллектива записан не в органах, а в
текстах «норм-знаков». Особенность современного мышления, которую несправедливо обозначают как
релятивизм, говорил М.Б. Туровский, есть всего лишь осознание современностью источника
определенности человеческих мыслей — это своеобразная «догматизация», которая осуществляется в форме
так называемой ментальности (традиции, верования, пред-рассудки, коллективное сознание). Человек
потому и социален, что у него нет другого способа придать своему действию и знанию определенность.
Человек не может взять на себя индивидуально, как считал Бердяев, грех определения, потому
определенность для человека оказывается безличной, или надличной, и в этом смысле априорной [13:118].
Для всякой культуры свойственна открытость человека, отсутствие у него естественного места в мире, он
живет в ином мире — в обобщениях ментальности; собственно центрированное на человека ментальное
пространство и есть культура — место человека.
Пожалуй, во всех культурах — так или иначе — тематизируется открытость человека, но для
европейской культуры в этом ее пафос, или «инварианта» ее истории, а правильнее сказать — особый тип
тематизации. Последний связан с индивидуумом. Уже в гомеровском эпосе Одиссей представляет связь
старой общности Илиады (где в военном противостоянии ахейцев и троянцев воспроизводится
космогонический земледельческий миф оппозиции родоплеменной матриархальной общины троянцев и
патриархальной общины ахейцев) и новой полисной, семейной общности Одиссеи, заданной модусом
возвращения Одиссея к своему истоку: к Пенелопе, к своей цели, будущему — Телемаху. Всеобщее уже у
первых философов представлено как мир-по-истине и связь его с миром-по-мнению. Именно эту связь,
выражающую проблематичность всеобщего, и представляет Одиссей, своим индивидуальным хитроумием
связавший две общности [9:424-449]. Такая укорененность в индивиде всеобщего как проблемы и
составляет, как представляется, сквоз-
59
ную для европейской культуры специфику тематизации открытости человека и его времени. Попробую
пояснить смысл этого утверждения.
У первобытных и вообще мифологичных «всеобщие» цели выражены в избыточности мифа и значимы
лишь в его особенном контексте, а способы разуниверсализации этой «формы всеобщности» представлены
ритуалом, расписывающим эти неопределенные избыточные цели до ролевых инструкций. Тем самым почти
вся процедура целеполагания пребывает в надындивидуальной ментальности, и в этом смысле
мифологичные торопятся к действию, не озадачивая себя его целесообразностью. А их индивидуальность
присутствует только как импровизация в воспроизведении мифа. Здесь время находится в коллективном
сознании, надындивидуальной ментальности и не имеет к индивиду практически никакого отношения; это
КОЛЛЕКТИВНОЕ
время. И хотя человеческие цели обращены в будущее, но заданы они модусом прошлого в
настоящем (мифом и ритуалом).
Рубежным событием стало рождение философии, т. е.
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
рефлексии, которая в
европейской истории изначально выступила как космический И одновременно культурный феномен (см.:
Открытость, I; Место человека (в круге сущего), I). Философия изобрела собственную форму всеобщего
— понятие (точнее — идею) как новый способ распространения своего порядка или целей на ойкумену.
Преодоление мифологической «формы всеобщего», мифологической самоидентичности, стоило Сократу
смертного приговора.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
67-
-67
Пример идеи у Сократа (прекрасное вообще, истинно прекрасное, а не красивые
девушка или кувшин) — новый способ распространения своих целей на всю ойкумену,
который не ограничен локальным, этносным горизонтом мифа. Насколько остро афиняне
переживали такое разрушение традиционной формы всеобщего, а значит, угрозу потери
своей самоидентичности, наглядно демонстрирует смертный приговор, вынесенный
Сократу. И если они еще сомневались, так ли все серьезно, то Сократ, почти вынудивший
их вынести такой приговор, подтверждает — все именно так, и очень серьезно.
Мышление — мир истины, а не общепринятых мнений. Всеобщее само по себе здесь представлено как
невыразимое и сверхлогичное Единое. Это — вне-мирная позиция (роль созерцателя, свидетеля) разума, с
точки зрения которой он тематизирует себя же самого, но уже взятого в качестве центрального участника
взаимодействия с миром. Роль разума, в качестве центрального персонажа представляющая собственную,
мирскую позицию мысли, выражена как меональная неуловимая точка. Появилось индивиду-
альное самосознание, обоснованное через стремление к Благу, Единому (Эрос Платона, любовь к
мудрости, Сократ как воплощение этого пути), а значит, появилось
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
время, но оно
выражено и переживается как
КОСМИЧЕСКОЕ
время. Время здесь — подвижный образ «пространственной»
вечности, с которой оно связано неразрывной пуповиной, нет отдельно времени космоса и времени
человека, это одно и то же время, оно циклично и целиком располагается в настоящем.
Иначе выглядит время римлян: оно уже не было только «космическим временем», как
у греков. Римляне знают не только один порядок природы — греческий космос; они также
осмысливают исторический и социальный порядок: время государственных дел и
свершений, а не время как таковое занимает умы римлян. У римлян есть и космическое
греческое время, и уже человеческое, которое, правда, по преимуществу —
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВРЕМЯ [10:41-47]. Здесь элита (в собственном смысле слова) — герой,
который действует и гибнет, поэт, изображающий его, и философ, осмысляющий их
деятельность; «... но все трое, — пишет С.С. Аверинцев, — преподают один и тот же урок
— урок свободы. Свободы от чего? Конечно, прежде всего от страха; но страх за другого
называется жалостью, а обратная сторона страха называется надеждой» [1:67].
Христианство обнаружило личностное основание формы всеобщего — Бога (и человека как его образ и
подобие). Была сформулирована божественная вне-бытийная позиция для рефлексии мысли, а
разуниверсализация (ее смысл) осознана как обратная зависимость Бога от человека (всеобщего от
единичного); тем самым было выявлено собственное, мирское основание человеческой мысли (основание
обращенности к Богу), а значит — появилось внутреннее,
ЛИЧНОСТНОЕ
время. Это, пишет бл. Августин,
время души, помнящей прошлое, внимающей настоящему и ожидающей будущего. И сразу же оба времени
— космическое надындивидуальное и собственно человеческое — оказались имманентны человеческой
жизни как Град Земной (отпадение от Истока; разворачивание персонифицированных космических сил) и
Град Божий (возвращение к Истоку; обращение души к Богу).
С.С. Аверинцев, сравнивая христианское и античное мироощущения, пишет, что, если
верховной ценностью нельзя реально обладать, на место заинтересованности в
абсолютном становится абсолютная незаинтересованность, т. е. в идеале — свобода от
страха и надежды. Но если человеку дано как дар и задано как задача конкретное
обладание абсолютной ценностью, и это обладание можно навсегда обрести или
безвозвратно утратить, «...то для этики и эстетики высокого жеста, отрешенного смеха и
благородного презрения просто не остается места. Если только абсолютную цен-
60
ность и впрямь возможно «стяжать», то не домогаться ее со всей сосредоточенностью
алчного скупца, не трястись над ней, не ползти к ней на коленях, со страхом и надеждой,
со слезами и трепетом, забывая о достойной осанке, — уже не героическое величие духа,
но скорее нечувствительность души, ее «ожесточение» [1:72-73].
Очевидно, что в общепринятом смысле элитой являются вовсе не те первые христиане, которые так
ощущали время и свою душу, как отрефлексировали это бл. Августин и С.С. Аверинцев, а образованные
римляне, т. е. в общем случае — те, кто представляет традицию. Однако именно необразованные христиане
принесли новое, личностное время и новые ритмы, они — «элита времени». Временные ритмы приобрели
небывалый динамизм, потому что «всеобщее время» было поставлено в зависимость от «личностного
времени»: судьба неба решается на земле.
Для своего времени бл. Августин прав: если настоящее не оказывает достаточного сопротивления
прошлому, впускает его в себя — это оборачивается предательством человеческого в человеке, изменой его
открытости, безместности. Беспрепятственно включая в настоящее свое прошлое, человек укореняется в
Космосе, а значит — поклоняется идолу Космоса. Но бл. Августин еще не знал, что ничем не лучше для
настоящего, если оно впустит в себя будущее, как в Новое время. Это оказывается укоренением в истории и
поклонением идолу Прогресса. Получается (по крайней мере, в европейском варианте), что непротивление
времени — вовсе не открытость, а, как и писал Хайдеггер,
ЗАКРЫТОСТЬ
будущему (тогда будущее — лишь
слепая судьба, как в Античности, а значит, Античность закрыта прошлому, которое, теряя себя, исчезает в
настоящем) или прошлому (тогда прошлое — лишь путь ко мне, как в Новое время, а значит, для Нового
времени закрыто будущее, которое вытекает в качестве следствия из настоящего). Новое время почти
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
68-
-68
зеркально перевернуло отношение статусов внебытийной и мирской позиции разума, свойственное
Средневековью: теперь самоочевидной стала мирская позиция самодеятельности мысли, и человек предстал
обладателем разума просто в качестве носителя естественного света разума, а не в силу единения через веру
с Богом. В Новое время человек — цель мира, и в этом смысле полноценный ответственный источник
целей; однако всеобщие формы их выражения являются способностями не единичного эмпирического
человека, а трансцендентального субъекта. Поэтому время отделено от реального жизнепроживания
(термин, предложенный P.C. Карпинской) человека, превратившись во время
ПРОГРЕССА
,
понятого как
процесс просветления естественного света разума — т. е. просветление научного
разума как единственной адекватной формы знания. Кризис проекта модерна и две мировые войны не
оставили камня на камне от такой идеи прогресса. Более того, в философии место Неделимого как
внемирной позиции мысли (Единое, Ум, Бог, Бытие, Трансцендентальный субъект) теперь занимает
Непрерывное (жизненный порыв, темпоральность, время потока сознания). Когда бытием стало время
жизнепроживания человека, время его личностного существования, то всеобщее выступило
неопределенностью, или будущим.
Получается, что европейский тип тематизации открытости человека, непосредственно связанный с
трансформациями манеры целеполагания, а значит, и время человека, завершив некоторый цикл,
возвращается к исходной точке. Сначала, в Античности, разум формирует свою созерцательную, внемирную
позицию (с которой и тематизируется мирское существование мысли), соответствующую предельному
внемыслимому содержанию мышления, а его мирская позиция оказывается нетематизируемой
подробностью. В Новое время, наоборот, акцентируется мирская позиция мыслящего себя мышления,
которое обладает внемирной позицией просто в качестве носителя естественного света разума.
Современность завершает цикл — разум теряет созерцательную, внемирную позицию, и это сопровождается
повышенным интересом к теме повседневности. Единство и единственность мира современной
повседневности обусловлены отсутствием суверенного мира сущностей, идей, метафизической реальности
(см.: Мир повседневности, II). Воспроизводится как бы первобытная ситуация. Можно предположить, что
теперь роль внемирной позиции мысли
ИМИТИРУЮТ
медленные традиционные ритмы, а роль мирской
позиции — быстрые новационные ритмы информационного общества. Но поскольку внемирная позиция
разума была условием тематизации его как участника взаимодействия с миром, постольку вместе с потерей
этой позиции исчезает тематизация открытости человека. А значит, утерян и специфический европейский
смысл индивидуальности в качестве всеобщего как связи космической и человеческой общностей, и тем
самым — весь
ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО
времени (по меньшей мере от Гомера до постмодернизма) оказался
поставлен под вопрос.
Постструктурализм, хотя и вставший в оппозицию к ценностям европоцентризма и
индивидуализма, еще отталкивается именно от них как высших ценностей, а
постмодернизм просто игнорирует их, на первый взгляд бесхитростно занявшись
природой этих ценностей как рядовых культурных феноменов — например, их
генеалогией (см.: Генеалогия, II).
61
Как представляется, отсюда и обостренный интерес к раннему и среднему Средневековью (которое не то
чтобы не знало индивидуальности, но не придавало ей чрезмерного, даже просто большого значения), и к
идее концепта, а также интерес к первобытности, где мир ментальных формул объяснения мира и мир
жизнедеятельности является одним и единственным миром, и, конечно — к Востоку, с его презумпцией
коллективного сознания над индивидуальным.
В современности складывается новое переживание и понимание В., а значит — и
НОВОЕ ВРЕМЯ
.
Потеря
смысла классического субстанциального разведения души и тела (в биологии этому аналогично отношение
организма и среды, которые предстали не самостоятельными сущностями, а разными сторонами единой
биосферы, или биогеоценоза) сделала невозможным и классическое разведение культурного В. души и
космического био-гео-химического В. тела. Субстанциальное разделение на душу и тело — это
«пространственная логика», производная от «пространственной» интерпретации познавательного
отношения. Такая логика означает, что отношение субъекта и объекта не полагается во В., а существовало
изначально; они формально, «пространственно» противопоставлены друг другу.
Пространственной остается логика и у Г. Гегеля. «Время подобно пространству есть
чистая форма чувственности, или созерцания (здесь и далее выделено Гегелем),
нечувственное чувственное. Но как для пространства, так и для времени не имеет
никакого значения различие между объективностью и ее субъективным сознанием. Если
бы мы стали применять эти определения к пространству и времени, то мы должны были
бы сказать, что первое есть абстрактная объективность, а последнее — абстрактная
субъективность. Время есть тот же самый принцип, что «я» = «я» чистого самосознания,
но время есть это «я» = «я» (или простое понятие) еще во всей его внешности и
абстрактности как созерцаемое голое становление, чистое в-себе-бытие, взятое всецело в
качестве выхождения вне себя» [4:52-53]. Выше он пишет: «Истиной пространства
является время; так пространство становится временем. Таким образом, не мы
субъективно переходим ко времени, а само пространство переходит в него» [4:52].
Понятно, почему для пространства и В. не имеет значения различие объективности и
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
69-
-69
субъективного сознания: рассмотренные с точки зрения понятия, пространство и В.
обнаруживаются как его неразвитые моменты, аспекты понятия как единства субъекта и
объекта [16:323-334].
В философии жизни, интуитивизме, экзистенциализме познавательное отношение — не особенность или
форма функционирования бытия, а само бытие.
М.Б. Туровский считал, что завершает это переворот М. Хайдеггер: «Хайдеггер предложил пересмотреть
познавательное отношение: бытие есть время.
Как в этом случае строится определение классической познавательной триады?
Всеобщее — будущее, единичное — настоящее, особенное — прошлое. То есть
определение граничности знания (или особенное) формулируется в терминах
прошедшего, условно говоря — в терминах истории. Определение единичного как
настоящего выступает как временная интерпретация атомистического принципа
познания. И, наконец, определение всеобщего приводится к пространственному
определению цели. Это значительно более простая и несравненно более понятная
интерпретация познания и мышления как сознания, чем в терминах пространственной
логики. Ведь получается, что познание определяется не как функция некоей субстанции
(чисто пространственный образ), а как тип отношения между вещами, объектами. Но тем
самым познание и объективность оказываются взаимотождественны» [11:70].
И далее: «Ведь в пространственном понимании познания неопределенность противостоит познанию, а во
временном понимании — познавательность совпадает с неопределенностью. Но самое удивительное — до
остолбенения, — что с самого начала человеческой деятельности всеобщее-то выступает как цель. Д
РУГИМИ
СЛОВАМИ
,
НЕ ПОТОМУ ЦЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ
,
ЧТО ОНА ВСЕОБЩА
,
А ПОТОМУ ЦЕЛЬ ВСЕОБЩА
,
ЧТО ОНА ЕСТЬ ЦЕЛЬ
,
ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
(выделено мной. — O.P.)» [11: 71]. «Само собой — результат не совпадает с тем, как
он сформулирован в качестве цели. И, кроме этого несовпадения, нет ничего, что заключалось бы в термине
«стихийность». Только эта диалектика. Человечеству надо научиться, что категоричное полагание цели в
однозначном смысле и оказывается стихийностью, поскольку это — насилие, отчуждение. Значит, нельзя
противопоставлять стихийности сознательность для того, чтобы получить такую перспективу, где в
постановке имеется (будет иметься) однозначное согласие» [11:75].
Если душа и тело противопоставлены как субстанции, то необходимо понятие как надвременной
посредник. Идея, например в платоновской традиции, представляет мир-по-истине и его связь с миром-по-
мнению; возможна и обратная конструкция. Но так или иначе понятие есть одновременно и связь как
всеобщее, и укорененность либо во всеобщем, либо в единичном. Для Античности более типично, что
понятие укоренено в космическом вечном прошлом, пребывая и разворачиваясь в модусе эманационного
нисхождения от всеобщего к единичному. Для Нового времени понятие укоренено, скорее, в историческом
вечном
62
будущем, пребывая и разворачиваясь в модусе прогрессивного восхождения от единичного к всеобщему.
Причем в обоих случаях присутствуют и тот и другой тип движения понятия, но один из них явно и сильно
доминирует. Кризис проекта модерна, обнаруживший, что новоевропейская интерпретация всеобщего не
абсолютно истинна, а только один из вариантов (конечно, самый сильный из известных нам и очень
фундаментально проработанный, а главное — открытый другим интерпретациям всеобщего), и выявивший
несостоятельность, в том числе субстанциального различения души и тела, обнаружил равноправие эти двух
типов понятия, которые оказались вынуждены «искать консенсус». Этот консенсус находят, например, в
концепте, живущем не в пространстве языка, а в живой речи настоящего, который является лишь связью
«миров», категорически не желая укореняться ни во всеобщем, ни в единичном, хотя и не отрываясь от них.
Смысл концепта можно проиллюстрировать метафорой окна. Если средневековая икона является
«окном», через которое Бог смотрит на человека и на мир, то картина Возрождения — «окно», через которое
человек смотрит на мир и на Бога. «Затемненность» обоих «окон» обусловлена тем, что каждый раз, хотя бы
на заднем плане, удерживается интуиция взгляда из мира свободы (мира своих), в мир несвободы (мир
чужих). Концепт является «окном» из мира одной свободы в мир другой свободы. Эти миры (человека и
природы, людей разных культур и т. д.) автономны и самодостаточны. Они нужны друг другу именно
потому, что они разные, и союз между ними может быть лишь добровольный (см.: Мир повседневности, II).
Такой интерпретации концепта соответствует представление о том, что субстанциальностью обладают не
элементы, контрагенты отношения взаимодействия, а само это взаимодействие (например, у Вернадского —
биосфера как взаимодействие живого и косного вещества). В таком контексте душа и тело есть типы
взаимодействия организма и его «среды» — радикально разные, неясно как генеалогически связанные, но
при этом суверенные типы взаимодействия. Однако концепт, живущий в настоящем, не только связывает
миры, прошлое и будущее,
НО И РАЗЛИЧАЕТ ИХ.
Настоящее как сопротивление ходу время как раз и дает времени состояться, ведь без этого время стало
бы единомгновенным актом; а значит, дает состояться событию, в котором, по словам Хайдеггера,
сбываются время и бытие. Но этот бунт само-обладания настоящего отклоняет и само настоящее (как связь),
внося во время дискретность, а значит, содержательность. Именно в этой дискретности, как считали
П. Флоренский и H.H. Трубников, происходит
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
человека —
ЦЕЛОСТНОСТЬ ВРЕМЕНИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЮ ОПЫТА
.
Но поскольку человек принадлежит и этому миру, он не может непроходимой
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
70-
-70
гранью отделить время своего осуществления от времени самоосуществления мира (в котором существует
человек), ведь последнее не только детерминирует человека, но и зависит от человека. Эта зависимость
времени от человека добровольно-принудительно заставляет человека отказаться от сопротивления времени
и выступить связью времен. Тогда человек выбрасывается из «вертикального» осуществления обратно в
«горизонтальное» существование, и здесь, чтобы дать состояться времени, должен сопротивляться ему.
Этот, по-моему, порочный круг и понимания, и существования человека связан уже не со старой
интерпретацией души и тела, но с непониманием ограниченного, особенного характера европейской
интерпретации понятия границы (что нисколько не снижает тектонического значения Европы для
всемирной истории). Другими словами, речь идет об ограниченности европейского понимания границы не-
культуры и культуры, не-разума и разума — границы, которую разум сам полагает себе.
Это уже ограниченность самого понимания границы в европейском проекте культуры и времени. Говоря
по-европейски (грубо и формально), — отрицание отрицания, или по-восточному (тонко и неопределенно)
— оставь утверждение и отрицание и вновь оставь свое желание оставить, ведь речь идет о сокрытии
неопределимого, Пустоты, Дао, а это сокрытие непотаенного. Такая ограниченность европейской традиции
видна при сравнении с осмыслением времени в даосизме и Бхагавадгите. Я понял предложенную В.В.
Малявиным [5:3-56] трактовку даосской интерпретации времени следующим образом. Реальность —
Великое превращение. А вещь — это жертва, связавшая человека и Небо, человеческое сознание и мир.
Поясняя смысл превращения вещей, Чжуан-цзы предлагает такой образ. «Однажды я,
Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой — счастливой бабочкой, которая порхала
среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она — Чжуан Чжоу. Внезапно я
проснулся и увидел, что я — Чжуан Чжоу. И я не знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому
приснилось, что он — бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она — Чжуан
Чжоу. Л ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое
превращение вещей!» [15:73]. Бабочка, как я понимаю, для Чжуан-цзы здесь цель, а
собственно целью является лишь то, что может меня сделать своей целью. Удерживая
Другого как радикальную инаковость, в качестве того, что объективирует
63
меня как цель, я теряю себя, а вслед за этим будет утерян и Другой. Это и есть
превращение вещей (см.: Другой/Чу
жой, Г).
Образы предметного мира, явления — следы вещей, знак знака, ведь здесь означаемое (вещь) само есть
знак. Ценность знака (и второго, и первого) — в отсутствии означаемого. След (явление) и оставившая его в
процессе своего превращения вещь (живая жертва, связавшая человеческое сознание с миром) существуют в
разном пространстве-времени. След существует благодаря бесследному Великому Превращению
(реальности). И наоборот, наличие следа делает возможным существование не оставляющего следа (не
имеющего сущности) Великого Превращения. След, удостоверяя реальность как отсутствующее, сам
реализует себя лишь в самоустранении. Говорить о бытии как о следе — значит говорить о временном
характере бытия, в свете которого настоящее переживается в контексте потери и предвосхищения. В
пространстве Великого Превращения все существует как знак (вещь как знак Превращения), прежде чем
стать явлением; и сам знак (так же, как и явление-след) получает функцию сокрытия, стирания, помрачения
(реализует себя в самоустранении).
Идея Вечного Отсутствия радикально противостоит идеалистическому мотиву воспоминания
неизменных образцов. Для даоса неизменным является как раз само изменение. Реальность в даосизме
предстает чистой текучестью времени, и время здесь — не форма развертывания или самореализации
понятия, как у Гегеля (даосу такая конструкция показалась бы верхом иронического остроумия), а форма (в
этом смысле объективация) всеобщего как неопределенности.
Понятие «след подлинного бытия» Чжуан-цзы вводит, заявляя, что тексты
канонических книг относятся к живому опыту древних мудрецов так же, как след ноги к
самой ноге, потому пытаться, руководствуясь первым, понять второе — верх глупости.
Идеал даоса — «умеющий ходить не оставляет следов». Идея «отсутствия следа»
согласуется с темой само-сокрытия Дао, само-сокрытия очевидного. Причем Чжуан-цзы
отвергает не столько «следы» как таковые (это и то, что оставляет вещь, и она сама в
качестве отношения, как знак Превращения, а значит — в определенном смысле — как
логический объект), сколько превращение их в объективированную умопостигаемую
сущность, поскольку это подразумевает признание существования метафизической
реальности (например, неизменные образы или гегелевские понятия). Но ведь следов
лишена не только «незапамятная древность», но и данный всегда в настоящем, видимый
и слышимый, реально переживаемый мир — например, то, что день и ночь сменяются
перед нами [5:33].
Получается, как я понимаю, что явление, след, или
НАСТОЯЩЕЕ
,
так же самодостаточно, как и реальность
Великого Превращения; собственно, и оно тоже есть эта реальность, однако реализующая себя только в
САМОУСТРАНЕНИИ
,
стирании. Но тогда
ИСЧЕЗНЕТ И ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
.
B.C. Семенцов, анализируя Бхагавадгиту, показывает, что оборот «кто так знает», или «жертва
знанием» означает, что, непрерывно рецитируя (репетируя, повторяя заученный с голоса учителя текст),
адепт добивается совмещения мифического образа, слова и сиюминутного ритуального действия. Эта
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
