Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
51-
-51
окончательную серьезность и всеобщность, экзистенциальный смысл. ХХ век дописывает «Поэтику»
Аристотеля, поэтику трагедии.
Средневековое пограничье времени и вечности, культура причащения к всеобщему творцу и спасителю,
ничтожность каждого бытия «в себе...» — и — всемогущества и бессмертия личности в мгновенной
эсхатологии, в момент обращения, в момент исповеди... В последнее мгновение жизни... Все эти
«исповедные» средоточия оказываются жизненно существенными в быту (даже — в быту) каждого человека
нашего времени. Но только эта трагедия причащения реализуется в ХХ в. не в религиозной безусловности
ритуала, а как культура, на перекрестке с иными смыслами спасения и гибели.
Гамлетовское «быть или не быть?», вопросительность самого исходного бытия человека, врученность
его (вместе с его смыслом) самому человеку, искус самоубийства, авторство своей судьбы и своего
поступка, сопряженное с ее (судьбы) — угрожающей — анонимностью, с осознанием своей жизни как точки
на неотвратимой и бесконечной траектории развития... Предельные романные перипетии Дон Кихота или
Фауста, Обломова или Ивана Карамазова — исходные формы произведений XVII-XIX вв., в которых
индивид живет в горизонте личности, то есть — на грани культур, в их начинании и избытии, — все они не
тождественны Гамлетовой трагедии, и только в целостном своем спектре образуют поэтику поступка
человека Нового времени...
Но эта актуализация культур прошлого есть актуализация их вопросительности, их (почти
невозможного) начинания. ХХ в. актуализирует Античность или Средневековье (в качестве культур) тем,
что ставит их под вопрос, ставит их на грань небытия, разыгрывает как некие универсально-смысловые
возможности. Все поставлено на кон. Но это и означает — все (прошедшее и будущее) существует(?) как
культура. Бахтин
писал: «(В культуре...) каждое частное явление погружено в стихию первоначал бытия».
ХХ в. воспроизводит историю культуры как современный диалог культур и тем самым актуализирует
всеобщий смысл (именно — смысл, не «значение») самого феномена — «культура».
6. Диалогическая онто-погика культуры В мире культуры, т. е. вещей и деяний, схваченных в момент
явления из первоначал бытия и вместе с этими первоначалами, возникает решающая для ХХ в. форма
(регулятивная идея) понимания бытия, космоса, человека, «как если бы...» они были произведениями.
Феномен произведения (прежде всего произведения искусства) дает схематизм философской онтологии как
онто-логики культуры.
Понимание произведения как феномена культуры и понимание культуры как сферы произведений: два
эти понимания «подпирают» и углубляют друг друга. Бытие в культуре, общение в культуре есть общение и
бытие на основе произведения, в идее произведения, когда соавтор мыслится по ту сторону этого
бесконечного и вечного мира, будь ли это античный или средневековый соавтор, и само бытие оказывается в
центре этого общения автора и соавтора различных культур. В ХХ в. произведение выступает с особой
силой в определении мира как возможностного мира и понимания бытия, как если бы оно было
произведением. Это не средневековое произведение, творимое единым автором, скажем Богом, оно всегда в
центре возможного общения различных культур. Собственно, из этого определения, из такого понимания
культуры вытекают все особенности вообще бытия, науки, теории, философии ХХ века, где мир мыслится
не как действительно сотворенный, а в своих бесконечных возможностях. Эти бесконечные возможности
характерны вообще не для каждой культуры, они культурно характерны именно для ХХ в., и в физической
теории, и в искусстве, и в философии — в культуре, взятой в целом, осмысливаемой через идею als ob.
Бесконечное бытие как если бы оно было произведением, как если бы оно было произведением культуры.
Поэтому диалогическая онто-логика строится как онтоло-гика культуры, исходя из этого последнего
определения.
Библиография
1. Библер B.C. От наукоучения к логике культуры: Два философских введения в двадцать
первый век. М., 1991. (Часть вторая. ХХ век и бытие в культуре).
2. Библер B.C. О логической ответственности за понятие «Диалог культур»; Культура. Диалог
культур; Культура ХХ века и диалог культур // Библер B.C. На гранях логики культуры. Книга
избранных очерков. М., 1997. С. 207-244.
3. Библер B.C. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991. С.111-169.
4. Библер B.C. Замыслы. М., 2002.
43
ПОЗИЦИЯ 1.3. МАНЕРЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ КАК ПРОЕКТЫ
ВРЕМЕНИ КУЛЬТУРЫ — Румянцев O.K.
Концепты: манера целеполагания, другой/чужой, время культуры
МАНЕРА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
Человеку, в отличие от животного, свойственно полагание целей в форме всеобщего, что, согласно
концепции М.Б. Туровского [см. напр., 5:66-75; 6:260—276, 347-367], которой я здесь следую, означает — в
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
52-
-52
форме
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
.
В самом деле — человеку способы достижения целей не даны в органах или
инстинктах (где представлен опыт освоения среды обитания, накопленный в истории вида), как у
животного, но, являясь гипотетическими, заданы как задача, а потому должны конструироваться. Тогда
получается, что превращение человеческих целей в руководство к действию требует разуниверсализации
неопределенной всеобщности цели до операциональных способов ее достижения, адресуемых индивиду как
его способности. Описанная особенность целеполагания конститутивна для человека.
Следует отметить, что данную трактовку — всеобщего как неопределенности — без
колебаний приняли бы в буддизме и даосизме, понимая ее, конечно, по-своему (Дао,
нирвана). На нее бы одобрительно посмотрели античные неоплатоники (меон, но так
можно интерпретировать и Единое), и с пониманием встретили бы в Средневековье
(например, — апофатика), но, скорее всего, — с недоумением отнеслись бы в Новое
время. Действительно, можно ли трактовать, например, субстанцию Спинозы в качестве
неопределенности? Интерпретировать идею или дух — как бы их ни понимать — в виде
неопределенности? В некотором отношении так возможно помыслить неразвитое
абстрактное понятие у Гегеля, но ни в коей мере настоящее всеобщее — конкретное
понятие понятия.
Кроме того, если еще допустимо, на манер философской антропологии, вводить свое
понимание всеобщего через сравнение человека с животным, то уж никак нельзя
подобным образом обосновать такую трактовку. Для этого необходимо, если следовать
классическим требованиям, развернуть из данного основания систему диалектической
логики. По поводу такого обоснования я вынужден сослаться на работы М.Б. Туровского
[6: 279-315; 7: 421— 562), не решаясь в своей статье кратко и понятно пересказать их
суть.
Однако тотальная неопределенность цели предполагала бы даже не дезадаптацию, а полную
«анадаптацию» человека, с одной стороны, в «физиологическом» смысле — ведь здесь уже недостаточно,
как у
животных, упреждающей преадаптации, поскольку опыт освоения человеческой «среды» не записан в
его органах. А с другой стороны, в культурологическом смысле: полное выпадение из пред-рассудков,
верований, традиций, зафиксированных в ментальном пространстве, исключало бы возможность жизни
человека с опорой на культуру и вообще означало бы безумие (см. Необратимые события, Ï). Потому эта
избыточная неопределенность представлена для разных эпох в некоторых заданных формах всеобщности.
Данной форме всеобщности цели соответствует и некоторая канализированность набора способов ее
разуниверсализации, тем самым (хотя и не жестко определенная) манера конкретизации средств достижения
целей и последующего полагания целостности цели уже в деятельности и сознании индивида. Другими
словами, эта неопределенность цели «упакована» каждый раз в культурно-исторически особенную форму
всеобщего. Такой культурно-исторически ограниченный, хотя и явно избыточный, комплекс, состоящий из
формы всеобщности цели, соответствующих способов ее разуниверсализации, средств целедостижения и
форм общения, в которых осуществляется последующее восстановление целостности цели (ради
индивидуального целеполагания), мне представляется оправданным и удобным назвать
МАНЕРОЙ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
.
Этот комплекс обладает существенным своеобразием в каждую эпоху и в каждой
конкретной культуре.
М. ц. близка по смыслу к тому, что более привычно обозначают как тип самосознания.
Меня привлекает концепт М. ц. тем, что в нем отчетливо выражен трансцензус в иное, а
значит — с необходимостью присутствуют отличия в трактовке разными эпохами и
культурами Другого как радикально иного.
В европейской культурной истории хорошо видны две принципиально разные М. ц., характерные для
Античности и Нового времени. В деятельности разума можно выделить две основные составляющие: это,
во-первых, — разуниверсализация представленных во всеобщей форме норм-целей, в конечном счете до
операциональных средств целедостижения, и, во-вторых, — сворачивание конкретного пространственно-
временного опыта до «всеобщих» целей-норм, т. е. порождение «смыслов». Тогда адекватные этим двум
составляющим стороны индивида допустимо обозначить как его
ИПОСТАСИ
,
вкладывая здесь в данное слово
тот смысл, что в каждой из ипостасей присутствуют обе, но их синтез осуществляется в модусе либо одной,
либо другой. Античная М. ц. характеризуется тем, что доминирует способность разума
представительствовать от имени иного, т. е. преобладает первая ипостась, пред-
44
ставляющая объективированные цели, или — содержание мышления. В этом случае первая ипостась
человека, обращенная к практическому действию (речь идет о доведении заданной всеобщности цели до
операций по достижению цели) снимает в себе, как свой момент, вторую ипостась, представляющую
самодеятельность мышления и ответственную за порождение смыслов. Поскольку речь идет о гипертрофии
процесса разуниверсализации уже ранее предзаданных объективных смыслов (как разворачивание
персонифицированных космических сил) в свои предметные воплощения, то предполагается, что
соответствующая «способность» (или ипостась) человека ответственна за определенность особенного, т. е.
за прошлое. Причем единство Космоса оказывается невыразимым и сверхлогичным, тем самым —
мифологическим Единым. Потому индивид не может собрать себя в целостность, синтезировать в своей
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
53-
-53
рефлексии собственные ипостаси, поскольку вторая ипостась здесь не суверенна, снята в первой.
М. ц., типичная для Нового времени, характеризуется тем, что доминирует самодеятельность мыслящего
себя мышления, узнающего свое авторство, когда разум говорит и от своего имени, и от имени иного, но
иное оказывается (что ярко выражено, например, у Гегеля) лишь метафорой разума (его самоотчужденным
бытием). Другими словами, вторая ипостась снимает в себе первую как свой момент (техническую
подробность). Поскольку гипертрофируется универсализирующая самодеятельность мысли, сворачивающей
реальный опыт успешного целеполагания к «универсальным текстам» культуры [8:424-449] (это, конечно, в
пределе, а можно — к нормам и даже просто — к образцам), то предполагается, что главенствующей
является ипостась, соответствующая порождению смыслов, а значит — ответственная за неопределенность
всеобщего, то есть — за будущее. Единство мира здесь выражено, и прежде всего логически
(трансцендентальный субъект), но человек сведен только к своей разумности, а мир — только к предмету
познания. Истинного единства с миром как внеинтеллигибельной реальностью иного тут нет. Впрочем, нет
в культуре и самого радикально Иного, которое из нее вытеснено. А вместе с Иным изгнана и смерть, из-за
чего конечность человеческой жизни приобретает радикальный характер — становится высшей ценностью
... и обессмысливается.
Обсуждая М. ц., речь приходится вести о ментальности эпохи, задающей для всех некоторую
определенную М. ц., хотя осознанно отрефлексированную, в первую очередь в философии. Конечно,
предложенное различение нестрого и достаточно условно: и в Ан-
тичности, и в Новое время мы найдем немало философов, не укладывающихся в эту тенденцию. Поэтому
приведенные рассуждения являются скорее наглядным примером, демонстрирующим различение, а не
аргументированным обоснованием типологии М. ц.
Для античной М. ц. характерна укорененность человека в мифологическом прошлом Космоса, и человек
выступает центром как его часть и микрокосм, а невыразимость Единого (значит, невыразимость и единства
ипостасей человека, а тем самым — отсутствие общего смысла жизни) предполагает трагедийность этой
культуры. Нововременная М. ц. выражает укорененность человека в Духе, историзме, а в силу его
прогрессизма — в будущем. Здесь иное как предельное содержание мысли, а значит, и первая ипостась не
суверенны, что опять не допускает полноценного единства человека, и смысл его жизни ускользает в
неопределенное будущее.
Какая бы сторона личности ни преобладала (способность разума представительствовать от имени иного,
или автономность мыслящего себя мышления), в любом случае мы не получим подлинную открытость
настоящего для будущего, что и составляет культурную сущность отчуждения. Культурный смысл
отчуждения понят здесь как укорененность человека либо в Космосе, либо в Духе (в историзме), а
неотчужденный человек — как неприкаянный, лишенный своего места в мире, открытый.
Необходимо, в конце концов, и будущее, и прошлое свести в настоящее. Тогда и появится настоящая
открытость, или — возможность в трансцензусе целеполагания по-человечески проектировать (обязательно
неоднозначно) будущее. Конечно, прошлое детерминирует настоящее, но не больше, хотя и не меньше, чем
будущее, и главное — они полноценно взаимодействуют, лишь когда встречаются как равноправные и
осмысленные современностью, за которой, в свою очередь, удерживается право «разделять и связывать».
Отчуждение явилось хотя и не первичным, но мощным организатором совместности жизнедеятельности
людей, породив невероятную производительную силу человеческой коллективности. Вместе с тем оно же
явилось причиной «великой неудачи» попыток Античности и Нового времени реализовать в
действительности свои идеалы, т. е. отчуждение обусловило невозможность успешного проектирования
человечеством своего будущего.
Еще более отчетливо различаются М. ц. у мифологичных, у классических «осевых» культур (здесь
Античность и Новое время понимаются как одна М. ц.) и в современности. Различия в М. ц. хорошо
просматриваются в разном статусе мира повседневности этих
45
трех эпох. Мир человеческой повседневности исходно двойной: это, во-первых, целесообразный
рациональный мир практической деятельности человека и, во-вторых, фантастический, избыточный мир
формул понимания мира, в качестве которых сначала выступала сама история произвольных человеческих
действий, но превращенная в образец, отнесенный ко времени предков. Особенность формул ментального
мира всегда заключается в том, что, являясь обобщениями, они во всех случаях «покрывают», объясняют
действительные события, не способные фальсифицировать эти формулы. Для мифологичных характерно
объяснение события посредством целевой причины: крокодил съел из трех женщин именно эту по
наущению двух остальных. Данное объяснение столь же соответствует — или, если угодно, не
соответствует — действительному протеканию событий, сколько и объяснение, например, спотыкания
законом инерции, или трактовкой спотыкания по типу фрейдовских опечаток и оговорок, или — как
самонаказание за некоторое бессознательное стремление к нарушению табу. И то, и другое, и третье —
лишь формулы объяснения. Повседневность представлена и миром формул (используя более привычные
выражения — коллективными представлениями, общественным сознанием), и миром действительной
жизни, где спотыкание обусловлено конкретными физиологическими состояниями, переживаниями и
другими сингулярными событиями, происходящими с данным человеком. Особенность мифологичного
человека в том, что эти две сферы (мир практической жизни и мир формул, ее объясняющих) для него
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
54-
-54
являются и им воспринимаются как в равной степени действительные; более того — это одна реальность,
что как раз и потрясло Леви-Брюля (кстати, тут мифологичные глубоко правы: ведь освоенный мир, с
которым они имеют дело, и есть ментальность, или — уже позже — Космос, лосевский Космос как
социальная основа мироздания). Мифологичные не имеют вкуса, точнее, он является как бы их
непосредственной природной принадлежностью (тем самым, им не свойственна безвкусица), потому вкус
для них принципиально не тематизируем. Иначе говоря, они не нуждаются в способности суждения, т. к.
здесь нечего согласовывать: ведь действительность и ментальность — единый и единственный мир, потому
не надо синтезировать единичное и общее. Эти процедуры согласования и синтеза выполняет ритуал,
который, с одной стороны — разуниверсализирует общие формулы ментальности до ролевых инструкций, с
другой стороны — восполняет конкретные события до обобщенных образцов (формул).
Философия (Осевое время в целом) породила новую сферу сущностей, мир-по-истине, и субстантиви-
ровала его, а тем самым внесла раскол в повседневный мир-по-мнению. Последний разделился на сферу
«идеальной» ментальности, которая представлена индивидуальным и коллективным сознанием (традиции,
предрассудки, верования, а также мораль, ценности, и отчужденная ментальность — идеологии, социальные
институты, власть), и сферу «материальной», практической жизнедеятельности. В некотором смысле
современность возвращается к первобытному образцу, воспринимая повседневность как единый и
единственный мир (см.:Мир повседневности, II), a все «идеальное» — как симулякры первого, второго и
третьего порядка. Этим превращениям повседневности адекватны соответствующие трансформации М.ц.
У мифологичных почти вся процедура целеполагания происходит в надындивидуальной сфере, что
весьма удивительно, ведь миф — такой «учебник жизни», по которому ничему нельзя научиться, слишком
уж он избыточен (на этом очень настаивал Я. Э. Голосовкер [2:13, 17, 30, 36, 42, 64, 75 и др.] ). Но тут
включается ритуал, разуниверсализирующий обобщенные образцы мифа до «операциональных ролей».
Правда, термин «роль» здесь, скорее, метафора, поскольку для мифологичных, во-первых, условно
разделение мифа и ритуала, во-вторых, роль никогда не воспринимается именно как осознаваемая роль, а
главное, в-третьих, — в ней воплощена целостность мифа. Однако вовсе без индивидуальной
разуниверсализации, которая здесь представлена как импровизации, обойтись невозможно.
Античность, Средневековье и Новое время оказываются, в данном ракурсе рассмотрения, такой «ночью
отчуждения», в которой «все кошки серы». Имеется в виду отчуждение и в прямом смысле этого слова —
как у К. Маркса: всеобщность цели разуниверсализируется, рассыпаясь на цели-средства в связи с уже
зафиксированным разделением труда, и адресуются индивидам как способности, а затем — в силу
коллективности (социальности) человеческой деятельности — восстанавливается целостность цели. С
другой стороны, и отчуждение в культурологическом смысле этого слова, о чем речь шла выше в
предложенной мной трактовке: примечательно, что укорененность человека и в пространственной вечности
Космоса, и в вечной историчности Духа означает заданность формы всеобщего, а тогда уже не имеет
значения, «прошлое» или «будущее» детерминирует настоящее [см.: 4:45-51].
Дело в том, что всеобщее представляет и мир-по-истине, и связь этого мира с миром-по-мнению. Для
Античности всеобщее, в котором акцентирован первый модус, есть идея, эйдос, а в качестве связи оно
оказывается невыразимым и сверхлогичным Единым. Для теоретической парадигмы Нового времени
всеобщее,
где доминирует его роль связи, представлено трансцендентальным субъектом, или понятием как методом
(Гегель), а как объективная идеальность иного всеобщее оказывается вещью-в-себе (Кант), или метафорой
мысли (Гегель). Тем самым в Новое время снята проблематичность всеобщего как связи, но снята вместе с
радикальной инаковостью иного (содержанием мысли). В Античности же эта проблематичность
удерживается, но всеобщее как связь — принципиально невыразимо. Тогда в обоих случаях всеобщее как
связь теряет себя в качестве общей цели, будущего, и потому настоящее не выступает истинной связью
прошлого и будущего, почти беспрепятственно пропуская в себя в Античности — прошлое, а в Новое время
— будущее (см.: Время культуры, I). Это и определяет общую предзаданность — и в этом смысле
деформированность М. ц. и Античности, и Нового времени. Рассмотренная особенность понимания
всеобщего, свойственная традиции классической европейской культуры, определяет М. ц., которая мягко
направляет, а не грубо детерминирует свободу в конструировании человеком своих целей, действуя при
этом эффективнее, чем социальные институты.
Причина такой деформированности, по-моему, лежит в избранном европейской культурой типе
тематизации открытости человека. Если открытость человека составляет инварианту всех культур, то
тематизация открытости уже не является обязательной. Для европейской культуры она весьма характерна,
и ее особенность в том, что оправданна лишь такая культура, ценностью которой является
ЧЕЛОВЕК
.
Множественность культур и плодотворность их взаимодействия стали уже
теоретическим штампом, пропуском в определенный тип интеллектуального сообщества и
трансформируются в идеологию, причем не безобидную. Л.С. Черняк показывает, что не
европейская культура европо-центрична, а Европа — культуро-центрична. Европейская
культура и есть культура, выстраиваемая своей открытостью, своей извечной «тоской по
мировой культуре» (см.: Границы разума, Г).
С этим трудно не согласится, но если значима лишь та культура, ценностью которой является человек, то
не только первобытную и античную, но и значительную часть средневековой культуры придется формально
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
55-
-55
лишить статуса полноценных культур. Первобытность вообще не знает индивидуальности, а в Античности
обычное дело — принести Ифигению в жертву, чтобы поскорее отомстить за государственное оскорбление
троянцам, умыкнувшим Елену. В раннем Средневековье не знают портрета, крестят по тысяче жителей
одновременно, епископы наследуют кафедры по кровному родству; и лишь в позднем Средневековье
расшатывается ментальность «мы». Естественно, представленная картина может вызвать серьезные
возражения, однако очевидно, что ценность человека (как и его понимание себя) для культуры не является
инвариантной.
В связи с этим необходимо опять вернуться к самому началу. Человек по своему происхождению, т. е. по
своей сущности, есть открытость миру.
Поскольку у животных способы достижения целей записаны в органах и инстинктах, то
волчонок сразу рождается волком, даже если его поселить с зайцами. Неопределенная,
всеобщая форма человеческих целей и гипотетичность способов целедостижения
предполагает, что человек не определен относительно среды, дезадаптирован (говоря
словами философии жизни — выродившиеся животное, потенциальный «Маугли»), и в
этом смысле — открыт миру. Человек не рождается человеком, но становится им. Такая
открытость миру означает, что, если ребенка поселить с волками, он станет волком, а
если с лисами — лисой. У человека все собственно человеческие характеристики
передаются в прижизненном обучении, объем которого в сотни раз больше, чем у
животных, вследствие чего он способен в процессе обучения освоить весь опыт,
например, волка, записанный в его зубах, лапах, когтях и мозгах.
Человек открыт обращенной к нему экспрессии мира потому, что не имеет в нем своего места (птицы
имеют гнезда, и звери имеют норы, а человек не имеет, где приклонить голову свою), он не от мира сего, и
тем самым миру не к кому больше обратиться. Конститутивно свойственная человеку М. ц. заключает
искусство так организовать отношение с объектом, как будто последний сам строит это отношение —
собственно, такой объект и есть цель. Подобный фокус могут проделывать и животные, но лишь с тем
объектом, который освоен в истории его вида, записанной в органах и инстинктах, что Дарвин и обозначил
как приспособление организма к среде своего обитания. За свою уникальную способность «слышать» не
конкретную видоспецифическую среду, а весь мир человек заплатил потерей своего места в нем.
Эта открытость человека миру тематизируется, как показывает Л.С. Черняк, уже в древней античной
философии (см.: Открытость, I). Но долгое время экспрессия мира воспринималась как непосредственно
данный человеку первичный язык вещей. Лишь Новое время, начав расставаться с концепцией
Естественного света разума (порядок и связь вещей в мире соответствует порядку и связи идей в голове
человека, а гарантом этой предустановленной гармонии является Бог), осознало, что сам человек так ставит
перед собой объект, что объект принимает статус явления [9: 346-348].
47
Потому Новое время создало возможность выделять из экспрессии мира ту его составляющую, где сам
разум, обращаясь к себе, говорит от имени объекта, заняв внемирную позицию мысли. Тогда и
обнаружилось, в первую очередь в экзистенциализме, что мир, самовыражающийся навстречу человеку (в
свою очередь — открытому ему), есть Ужас, или Ничто, или неопределенность.
Человеческая М. ц. определяет особенность человека, его разума, состоящую в том, что он одновременно
является и деятельностным участником взаимодействия с миром (мирская позиция самодеятельности
мысли), и единственным наблюдателем (внемирная позиция мысли), который свидетельствует
упорядоченность этого взаимодействия. В качестве созерцателя, удерживающего данный порядок, разум
сначала осознает свою позицию как внемирную. Для Античности свойственна трактовка этой позиции в
качестве Единого, Ума, что преемственно задано еще гомеровской интерпретацией героя — Одиссея — как
связки старой и новой общности: Илиады и Одиссеи, прошлого и будущего [8]. Божественная позиция в
Средневековье выступает как решение сформулированной, но не решенной Античностью проблемы
обоснования вне-мирной позиции мысли. Условием самого целеполагающего взаимодействия человека с
миром является открытость человека, оплаченная потерей своего места в мире. Потому усилия разума были
направлены на то, чтобы вписать себя в мир — и не просто как участника деятельностного взаимодействия с
ним, но как центрального персонажа мировой драмы — и затем тематизировать эту свою роль. Такая задача
уже предполагала возможность внемирной позиции мысли, с которой и осуществляется тематизация
мирской (деятельностной) позиции мысли. Вот эта парадоксальная двойственность человека, позиции его
разума, и есть специфическое место человека в мире — культура (см.: Место человека, I).
Положение человека в мире определялось тем, насколько в нем отражается центр, целостность мира.
Выход мысли на эту сверхлогическую позицию у неоплатоников интерпретировался как мистический экстаз
восхождения, в Средневековье речь шла уже о внебытийной личностной божественной позиции, обретенной
через веру, а в Новое время — через Естественный свет разума, или — трансцендентального субъекта.
Возрожденческая имманентизация судьбы человека как смысла истории, легитимизированная
Просвещением, привела к тому, что теперь внемирная позиция гарантирована человеку просто как носителю
Естественного света разума. Новое время создало равноправного и суверенного оппонента для античного
всеобщего — общезначимое. Общезначимое выражает самодеятельность мысли, самообоснованной на
своей мирской позиции и осознавшей это. Если всеобщее Античности представлено объективным миром-
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
56-
-56
по-истине и его связью с субъективным миром-по-мнению, то общезначимое Нового времени —
конвенциональные, общепризнанные смыслы «мира-по-мнению», из состава которых, с помощью
специальной методики, исключены «идолы» и другие предрассудки общественного мнения, и одновременно
— это связь с «миром-по-истине». Место мистического экстаза восхождения неоплатоников к внемирной
позиции мысли занимает теперь методологическое сомнение Декарта. А тем самым индивиду — пусть и как
врожденные идеи (позже это априорные формы чувственности у Канта) — адресуются формы, которые он
предоставляет отдельностям, чтобы они могли явиться как вещи. Тогда индивид оказывается
ответственным (и осознает это) не за само существование смысла, но — за ВОЗМОЖНОСТЬ ему
ЯВИТЬСЯ (см.: Самоидентификация, I). Но что такое не явленный смысл? Это вещь-в-себе —
новоевропейский рудимент Единого. Вот до какой степени редуцировались эйдосы Платона вместе с
обосновывающим их Единым — конституционный монарх, да еще в изгнании.
Однако этот рудиментарный пережиток античного «царского режима» являлся, в конечном счете,
последним обоснованием объективности любого смысла. Потому именно на него предприняли атаку
последователи Канта, уничтожив его вовсе, и тем самым положили конец классической философской
традиции. Таким образом, используя оборот, предложенный П.П. Гайденко, центр мира, его целостность и
источник были представлены в Античности как Единое, Ум, в Средние века — как Бог, Бытие, а в Новое
время — как трансцендентальный субъект. В современной философии место этого — по-разному
интерпретированного — Неделимого занимает время как темпоральность, как жизненный порыв, время
потока сознания, то есть Непрерывное [1:125].
Не мытьем, так катаньем европейская традиция решила вопрос: неприкаянность, безместность человека
превратилась в осознанный факт истории; человек укоренен теперь не в мировом трансцендентальном
пространстве и времени, а в конкретном человеческом времени и пространстве. Конец классического
философского дискурса присутствия абсолютного Смысла, причащаясь к которому всякое отдельное
событие получало смысл, предполагает освобождение события и телесности, становящихся
самообоснованными, — это и явилось одной из главных теоретических причин, породивших
постмодернизм. Отсюда принципиальное
48
разногласие: любая общепризнанная концепция воспринимается как угроза, подстерегающая
современного человека — очередной трансцендентальный субъект, претендующий на то, чтобы заранее
вписать любое действие или мысль человека в заданный ему извне тотальный контекст, изменить который
он не в силах [3: 237-240]. Причем это сопровождается убеждением, что мир повседневности является
единой и единственной реальностью, а не проявлением мира идей.
Если несколько вульгаризировать, то получается, что в своих исторических трансформациях М. ц.
завершили определенный цикл. Первобытные имели настоящие объективные цели, завещанные и
гарантированные им мифом, но не обладали индивидуальной ответственностью за свои цели. Античность,
Средневековье и Новое время завоевали индивидуальную ответственность, а значит — свободу человека в
постановке целей, но эти цели, в расплату за полученную человеком свободу, на глазах утрачивают свою
объективность, становясь все более субъективными. Современность получила полную индивидуальную
ответственность и свободу в постановке целей, но зато цели почти лишились объективности. Однако если
нет заданных объективных целей, то о каких типах, М. ц. можно вести речь?
Вслед за философией культуры постмодернизм так или иначе солидаризируется с пониманием бытия как
времени личностного существования человека, а темы множественности — как проблемы Другого (см.:
Другой/Чужой, I). Это не просто очередная переформулировка классической философской темы «многого
мыслимого как единого», но совершенно новое понимание места человека в мире. Когда бытием стало
время личностного существования человека, всеобщее было опознано как неопределенность. Тогда то, что
общо всем людям, это —... их
ИЗБЫТОЧНОСТЬ
...
И все. И больше ничего общего. А определенность можно
получить только от другого, который и есть моя последняя внутренняя сущность, но оживает во мне лишь в
минуты моего невладения собой (см.: Самоидентификация, I). Прямо какая-то перво-бытная ситуация.
Если форма всеобщего не дана под видом неделимого, как это было раньше, но оно непрерывно
полагается, то ни одна из предыдущих форм всеобщности не может считаться пройденным этапом, но
допустимо выбирать любые. Причем этот выбор, являясь по своей природе актом своеобразной
разуниверсализации (выбором типа универсальности), почти неизбежно претендует на единственное
адекватное выражение самой всеобщности, что делает остальные способы его представленности
«особенными всеобщими» Однако такая, пусть даже адекватная, форма всеобщего сама
выступает лишь одной из форм непрерывного становления всеобщности как неопределенности и потому
не приобретает статуса (в том числе и для избравшего ее) единственно истинной. Ей можно предпочесть
античный, средневековый или нововременной тип всеобщего — правда, лишь при условии, что этот тип
положит себя как становление всеобщего.
Представляется конститутивным для культурологии ее возникновение при столкновении современного
человека с другими культурами, и в первую очередь с «колыбельными» цивилизациями, где присутствует
отчетливо иная М. ц. Под словом «современный» здесь понимается человек, как его осмысливает
постклассическая философия, — человек, который не имеет наперед заданной онтологически обоснованной
формы всеобщего (и способа его разуниверсализации), т. е. лишен заданной М. ц. В этом случае другая
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
57-
-57
культура воспринимается как радикально инаковая, а не в качестве недоразвитой моей культуры. Потому
культурология закономерно возникла при встрече современной философии с культурной и социальной
антропологией, изучающей факт множественности культур. Теперь это «вавилонское смешение» М. ц.
волнует уже не только философов, но осознано в качестве насущной проблемы современной культуры.
Прежде в повседневной жизни человек опирался на М. ц., продиктованную его ментальностью и образом
жизни. Современный европейский образ жизни, активно использующий транспортные коммуникации и
информационные технологии, привел к компрессии хронотопов всех существовавших и существующих
культур. Произошла встреча принципиально несовместимых М. ц., а значит, форм всеобщих определений
человека (его самоидентификаций), и теперь проблема выбора М. ц. — а значит, и цели своей жизни —
стоит перед каждым человеком, пользующимся поездом или телевизором. Восприятие времени человеком
непосредственно связано с образом жизни, в основе которого лежит определенная М. ц. Столкновение
разных М. ц., способов самоидентификации привело к множественности времен (миров, субкультур) (см.
Множественность ментальных миров, I). Внутри одного времени связывать разнородное могут и понятия.
Если душа и тело противопоставлены как разные субстанции, то необходим вневременной и
внепространственный посредник — понятие. Когда в процессе исследования оказывается невозможным
разделение познающего (субъекта) и познаваемого (объекта) и тем самым неосуществимо субстанциальное
разделение души и тела, тогда посредником между ними является концепт, существующий в контексте, в
модусе речевого настоящего. Для того чтобы связывать нечто, существующее
49
в одном типе времени с самим собой, существующим сразу и в другом типе времени, и возникла
необходимость обратиться к концепту. Отсюда одна из насущных задач современности — выработка новой
концептуальной универсальности культуры, допускающей многообразие М. ц.
Библиография
1. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997.
2. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
3. Малахов B.C. Постмодернизм // Современная западная философия: Словарь. М., 1991.
4. Румянцев O.K. Диалектическая телеология. М., 1998.
5. Туровский М.Б. Философские основания истории культурологии (материалы семинаров) //
Постижение культуры. Вып. 7. М., 1988.
6. Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М., 1997.
7. Туровский М.Б. Предыстория интеллекта. М., 2000.
8. Сильвестров В.В. Универсальный текст культуры // Сильвестров В.В. Культура.
Деятельность. Общение. М., 1998.
9. Черняк Л. С. Кант: разум — художественный опыт — эмпирическое // Ё: Психотворец.
Обуватель. Филозоф. М., 2002.
ДРУГОЙ/ЧУЖОЙ
Классический для цивилизации путь от совершенно иноприродного варварского «чужого» к
культурному трансцендентальному «своему-другому» теперь уже нельзя безоговорочно оценить как
прогрессивно-благоприятный — по крайней мере на этом нельзя остановиться. Напр., для мифологичных
«другие» — чужие, «лисы», в отличие от нас, «медведей», и не имеют с нами ничего общего. Греки считали
культурными лишь себя, называя других варварами, у которых и голова вполне может располагаться не на
плечах, как у нормальных людей, а на груди. Для замкнутых на себя традиционных культур лишь свое
может быть нормой и ценностью, а все выходящее за границу собственного мира — чужое; и по отношению
к Чужаку уместны вражда и насмешка. Только с возникновением мировых религий и империй,
объединивших людей по надэтническим принципам, стало возможно уже всеобщее определение индивида
— например, как христианина или гражданина. Для средневековой Европы единство людей определяется
через веру, и внутри христианского мира представитель иной культуры (католик, православный, протестант)
может восприниматься как Д. (язычники же — чужие, которые, правда, могут стать своими). Просвещение
и Новое время принесли новое понимание единства людей — через разум, и такая новая универсальность
индивида предполагает отношение ко всякому человеку (кроме первобытных) как к Д. (см.: Национальная
культура, II). Но зато теперь в Д. потерялась
его инаковость, поскольку любые Д. существуют в едином со мной гомогенном однородном сознании,
гарантирующем общезначимость опыта, потому нет проблемы Д. Это однородное универсальное сознание
представлено трансцендентальным субъектом Канта, «Я» Фихте, Абсолютным Духом Гегеля. Лишь после
кризиса трансцендентального субъекта (сознания) в философию и культуры возвращается проблема Д.
[7:126-131]
Напомню рассуждение Ж.-П. Сартра о стыде. Если я сделал вульгарный жест, то, пока его никто не
видит, для меня это просто переживание. Но когда я поднял голову и оказалось, что кто-нибудь это видел,
мне становится стыдно. Значит, Д. выступает необходимым посредником отождествления меня с самим
собой. Я стыжусь того, каким кажусь Д., признавая, что являюсь таковым, как он меня видит. Причем сама
вульгарная значимость моего жеста немыслима в одиночестве, но только в перспективе свидетеля,
способного понять данный поступок в целостности человеческой жизни. Заметим, что источник стыда
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
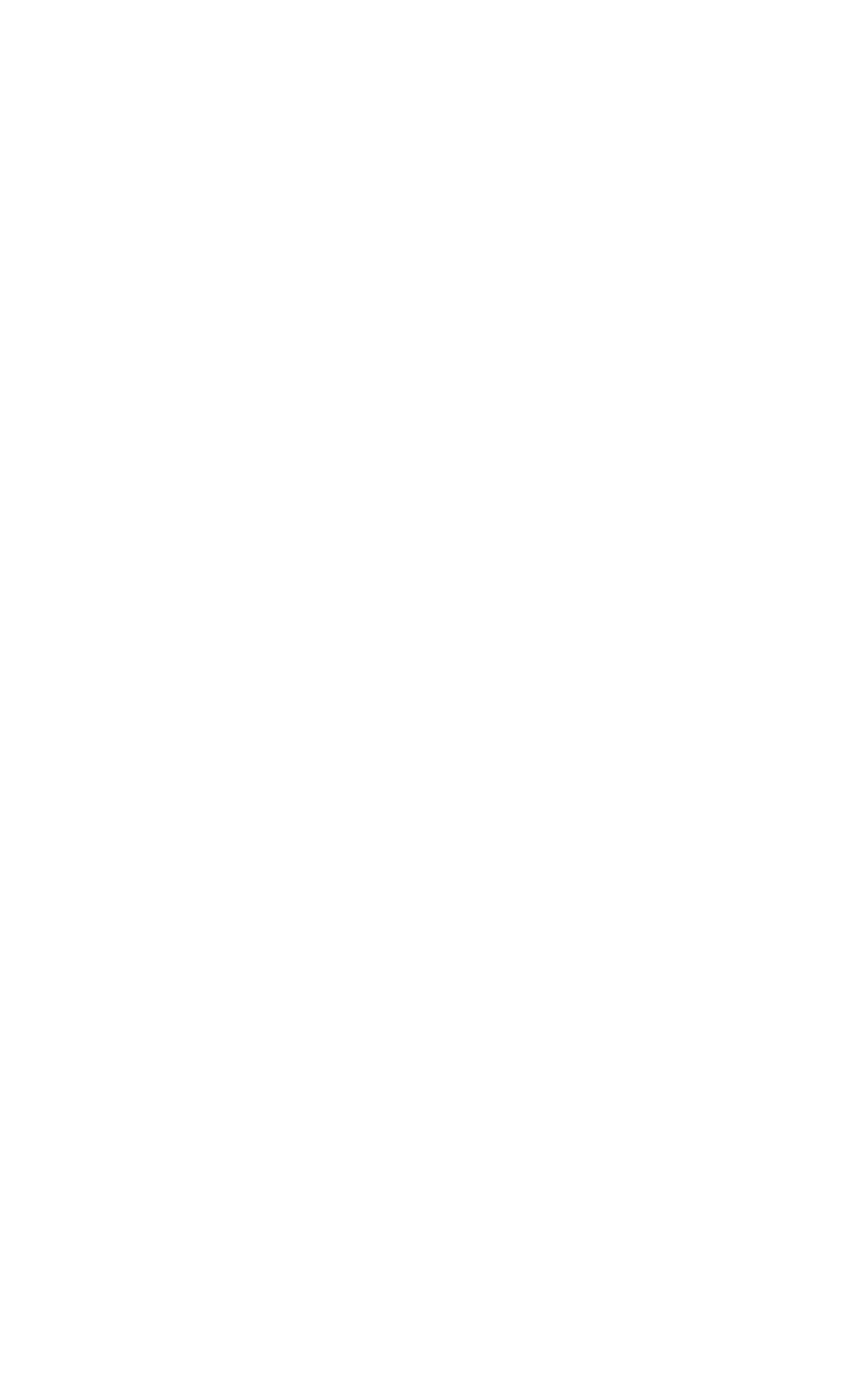
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
58-
-58
размещается не в Д., это именно мой стыд перед другими [9:246 — 247].
Для понимания приведенного рассуждения следует обратить внимание, что человек осознает себя в
первую очередь в модусе психики (она является для него самоочевидной), а Д. — в модусе тела. Однако у
Сартра речь идет о Д. как о душе, но не теле. Духовную же реальность Д. я могу утверждать только по
аналогии с реальностью моей психики, то есть — только als ob. Д. не является мне (мной), впрочем, и я ему
(им) не являюсь. Именно в таком смысле Д. никогда не представляет собой только конкретное
эмпирическое лицо, которое встречается в моем опыте. Напротив, в свете понятия Д. (а не в
трансцендентальном субъекте) как раз и конституируется общезначимость всякого опыта. Интерпретация
трансцендентального субъекта классической философией предполагает самопонимание Новым временем
себя как цели и результата истории; в интересующем нас аспекте — как движение от варварского
иноприродного чужого к цивилизованному трансцендентальному своему-другому. Такая однозначная
направленность, в свою очередь, требует ведения всей культуры как гомогенной, поскольку ее
универсальным образцом является европейская культура, причем лишенная своих уникальных
исторических характеристик.
В трансцендентальном Д. потеряна радикальная инаковость Д., потому постклассическая культура
вынуждена оглядываться на архаического, «первородного» чужого. Отношение с Д. как иным является
теперь не познавательным отношением (осуществляется не в гносеологии), а складывается в виде
взаимодействия одного бытия и другого бытия; Д. встречают, а не только конструируют. В.П. Визгин
предложил для различе-
50
ния Ч. и Д. следующую альтернативу. Чужого можно либо поглотить и ассимилировать в себе, при этом
не меняясь качественно, а лишь возрастая количественно, либо, обнаружив в себе открытость к Ч. (а
значит — уже потенциальному Д.), самому измениться навстречу ему, став чуждым себе, — ради
превращения Ч. в Д. (а не ради собственного саморазвития) [2: 267-280]. Возможно, второй путь следует
понять так, что речь идет о взаимодействии одного и другого бытия, радикально разных и суверенных, но
являющихся друг для друга целью.
Можно трактовать Канта так, что моральный человек есть как бы цель природы [6:180-201]. Но само
понятие природы как целого является трансцендентальной конструкцией европейского нововременного
разума. Тогда, если к такой трактовке отнестись всерьез и снять кантовское конформистское als ob, то
утверждение, что человек — цель природы (пусть это даже метафора) приобретет неожиданный смысл.
Тогда окажется, что именно европеец, как моральный человек, представляет «цель», причем не природы
вообще (это трансцендентальная конструкция), а европейской природы, сложившейся после альпийского
горообразовательного цикла. Но трактовка морального человека как европейца означала бы конец морали,
которая не может быть не универсальной. Европейский суперэтнос является центром (с нашей точки зрения
— результатом биогеохимической истории, и в этом нестрогом смысле — «целью») этого ландшафта, а
другой этнос составляет «цель» иного ландшафта. Тогда сформировавшийся в этом другом этносе человек
может быть уже вовсе не моральный, а, наоборот, для европейца — аморальный человек. Видимо,
человечество, рассмотренное в таком аспекте, является носителем не одной-единственной, а множества
«целей природы». Если Другого, которому возвращена бытийная чуждость, представить сразу в качестве
другого человека, тогда теряется трансцендентность Д. (хоть и Д., а ведь тоже человек), однако и
нечеловеческая природа Д. (например, Д. в качестве геологического ландшафта) порождает, как мы видели
выше, свои трудности.
Проблемы возникают и если удерживать инаковость другого через целеполагание. Этнос, рассмотренный
в качестве цели (своего ландшафта), объективируется, выступает как объект. Это понятно. Но как быть, если
в качестве цели выступаю я сам? Собственно, действительно чуждым для меня — целеполагающего
существа — являюсь я сам как объективная цель. Изощренность данного отчуждения в том, что цель и есть
такой объект, с которым я строю отношение так, как будто это отношение выстраивает он сам [12]. Тогда я
в качестве цели для того, кто полагает меня как цель,
оказываюсь таким объектом, с которым он выстраивает отношения так, как будто я ответствен за это
отношение, т. е. — как будто я способен полагать цели. А у меня и так присутствует сомнение:
действительно ли мои цели порождены мной, а не достались мне из предрассудков, от родителей и т. д.? В
этом аспекте требование, чтобы человек всегда выступал для меня не только средством, но и целью, кроме
общепонятного смысла, предполагает, что Д. человек должен быть для меня не метафорой моего «Я», а
чуждым инобытием, неопределенным и избыточным, принципиально непредсказуемым. Здесь хорошо
видно, что в целеполагании обязателен
ТРАНСЦЕНЗУС
цели.
Однако столь же обязательна и
ИММАНЕНТНОСТЬ
цели. Для меня истинной целью, целью как бесконечной
задачей может быть только тот, кто способен именно меня, избыточного и непредсказуемого, не всегда
владеющего собой (т. е. «трансцендентного» ему), сделать, в свою очередь, своей целью. Для среды такой
«целью» является организм, который осваивает ее в процессе их взаимного приспособления друг к другу.
Однако история вида (записанная в органном строении и жизнедеятельности организма) и есть энграмма
истории среды его обитания (живое не встроилось в планету, а построило ее); организм и среда — две
стороны единой биосферы. Среда имманентна организму: ведь он и есть выражение ее истории. И в таком
же смысле — как имманентная цель — человек является «целью» живого (а этнос — «целью» своих
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
59-
-59
биогеоценозов) [8:113-126]. Человек живет совсем в иной среде, не в биоценозе, а — в созданном им самим
ментальном пространстве. Однако ведь и отношения человека с ментальной «средой» своего обитания хотя
и принципиально иные, чем отношения организма со своим биоценозом, но не менее интимные.
Неизбывность трансцендентного Ч. в другом обнаруживается в представлении первобытных о тотеме.
Если у животного способы целедостижения записаны в органах, то у человека, в силу неопределенного
(всеобщего) характера его целей, эти способы конструируются как гипотезы, потому он не определен
относительно среды обитания, не имеет в мире своего места. А если это так, можно предположить, что в
тотемических представлениях первобытный человек (коллектив), освоив видовой опыт тотемного
животного (т. е. видит мир его глазами, ощущает его лапами), присваивает себе его территорию. Такое
территориальное, «почвенное» определение единства коллектива, связанного с определенным тотемом,
предполагает отношение к Д. коллективу как к иноприродному Ч. Это отношение выражено тем, что
замкнутость охотничьей группы и ее территории определила естественную враждебность
51
к другой группе, — и отсюда война, на которой мужчин обычно убивают, а женщин захватывают как
добычу. Поскольку в женщине воплощена целостность коллектива (выраженная идеей родства), этот захват
символизирует единственно возможную здесь позитивную связь между коллективами. Тем самым в
экзогамии объединена двойственная роль женщины: с одной стороны, она олицетворяет целостность
коллектива, а с другой — представляет отношение к другому [10:179-223 ]. Тогда жесткость табу на браки
внутри тотема, возможно, означает вовсе не боязнь инцеста, как полагал Фрейд [11:197-213], а запрет на
потерю единственного, кроме войны, средства связи с Д. коллективами.
С появлением земледелия территория становится первым подлинным медиатором, который начал
оформляться со времен неолитической революции, но в качестве медиатора земля выступает не как место
обитания, а как структура опосредствования, воплощающая в себе предпосылку воспроизведения
человеческого коллектива, его единство. Структуру же опосредствования выстраивает сам человек.
Обращаясь к конструированию этого опосредствования, М.К. Мамардашвили говорил, что человеческая
история начинается не с протыкания орудием труда (как медиатором) живота своему ближнему, а с плача по
умершему. Именно этот плач и есть первая собственно человеческая структура опосредствования между
миром и человеком, но все же именно структура, и как таковая она безлична. Догматизация в мифе
адресуемых ко времени предков событий в качестве образцовых является источником определенности
человеческих мыслей, и эта определенность осуществляется в форме ментальности (традиции, верования,
предрассудки, общественное сознание); таким образом, определенность для человека всегда оказывается
безличной или надличностной. Стабилизация в мифе структуры опосредствования, переадресование ее затем
герою эпоса и, наконец, рождение индивидуальной рефлексии, т. е. философии, — это путь к сознательному
выстраиванию в своей истории определения единства, всеобщности людей. Последняя была представлена
как Единое, Ум, Бог, Бытие, субстанция, трансцендентальный субъект, выступая как цель, целостность,
центр мира, и человек к этому Всеобщему приобщался, обретая тем самым свое всеобщее определение.
В современной культуре место индивидуализированного неделимого занимает бытие как время
личностного существования человека — соответственно, всеобщее оказывается тогда неопределенностью,
или будущим; и обнаруживается, что в истории европейской культуры тематизировалась как раз
открытость человека, отсутствие у него места в мире. Современная
ситуация, обнажившая изначальную тотальную «диаспорийность», неприкаянность человека,
провоцирует фантомные боли и поиск не теперь отсутствующей, а никогда и не существовавшей
территориальной (средовой) укорененности человека (даже право первобытного тотемного коллектива на
территорию «его животного» незаконно). Это ведет к обнажению, видимо, неуничтожимого, глубинного
пласта первобытного ужаса перед дезадаптацией, отсутствием своего места в мире. Возрождаются
истерические попытки поиска дочеловеческого, «фундаментального» единства людей через почву, кровь, а
вместе с ними из-за «другого» начинает выглядывать «Ч.». Мне представляется, последний не может быть
никогда окончательно элиминирован, но только очередной раз снят в новом понимании радикальной
инаковости Д.
Путь к такому пониманию Д. начали прокладывать еще с эпохи Просвещения. Представление о Д.
приобретает новую полновесность вместе с новой свободой Нового времени, когда человек уже не
вслушивается в бессмысленный лепет мира, а ставит предмет перед собой так, чтобы он отвечал, и притом
на внятном языке математики, только на задаваемые ему вопросы. Неосуществимость апелляции к
непосредственному, первичному языку вещей, обнаруженная Кантом, означает, что человек конструирует
свое отношение с объектом таким образом, как будто данное отношение строит сам объект. Причем, как
показал Л.С. Черняк [12], у Канта можно увидеть потенциальную возможность следующей интепретации:
речь идет не только о проекции схемы моей активности на объект, но — именно в силу осознанности этого
проектирования — также и о предоставлении объекту права проявить собственную активность. Тогда
можно было бы попробовать различить, где человек говорит от имени объекта, а где «собственная речь»
объекта. Но такая перспектива была закрыта Гегелем, понявшим природу как метафору разума, в качестве
его отчужденного бытия.
Гегелевское понятие связывало субъективный мир человеческой свободы с объективным миром
природной закономерности. Маркс продолжил идеологию гегелевской «орудийности понятия», определяя
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
60-
-60
человека через орудийное отношение: средство (например, плуг) выше, чем цель (французская булочка), так
как именно в своих средствах человек властвует над природой. Орудийное отношение, конечно, несет в себе
человеческую активность, но, во-первых, взятую как данность, и, во-вторых, она жестко направлена в одну
сторону (к миру), а главное, в-третьих, предполагается Иное как враждебная среда, которую надо покорить.
Такое отношение к Другому определило превращение мира в ареал борьбы человечества за свое выжи-
52
вание и стремление ассимилировать его ради чисто количественного прироста «тела» человеческой
цивилизации (а самость или «Я» выступило как центр и цель этой ассимиляции).
Постиндустриальная эпоха демонстрирует, что в основе производительной мощи человечества в
большей мере лежит не орудийная вооруженность человека, а его общительная природа. Если сравнить 600
тысяч лет человеческой истории с марафонской дистанцией в 60 км, окажется, что 59 км человек бежал,
сжимая в руке шельское рубило, а иные орудия появились только на последнем километре (как результат
неолитической революции) — и лишь на финишной стометровке возникла техника. Чем же тогда был занят
человек на протяжении всей своей истории? Он отрабатывал формы общения, которые и являются
истинным основанием невероятной продуктивности человеческой коллективности, сделавшей человечество
силой, соизмеримой со стихийными силами природы. В фундаменте и индустриальной, и
постиндустриальной цивилизации по-прежнему лежит искусство содержательного человеческого общения.
И эта содержательность заключается в том, что, используя метафору Ницше, за сотни тысячелетий своей
истории человек всего лишь научился держать свое слово, т. е. цивилизация держится на божественной
ответственности человеческого слова.
Такая переинтерпретация сущности человека — с его орудийности на его общительность — приводит к
необходимости, во-первых, заменить понятие (существующее вне времени и вне пространства) на концепт,
существующий в реальном времени живой общительной речи, обращенной к Д., и, во-вторых, — по-новому
понять инаковость Другого и «диалог» с ним.
Данное понимание инаковости Другого требует, как было показано выше, обращения к науке, несущей
опыт интеллектуально трезвого отношения к радикально внеинтеллигибельной реальности.
Еще Ил.Ил. Мечников попробовал построить отношение с Ч. таким образом, чтобы объединяющим
началом оказывалось не общее, а как раз различие. Например, фагоцитоз — это питание, ассимиляция Ч. Но
фагоцитоз, как показал Мечников, одновременно является и основой иммунитета: лейкоциты питаются
бактериями. По его гипотезе, первое многоклеточное — фагоцителла— возникает при обратимом
разделении пограничного слоя и внутреннего слоя, клетки которого специализируются на фагоцитозе. Тогда
иммунитет, как отношение с Ч., является не одним из многих свойств организма, а отношением,
выстраивающим организм, конституирующим его. Не только самозащита, но и целостность организма
выстраива-
ется взаимодействием с Ч., который становится уже не иноприродным Ч., а Д. — и даже помощником.
Подходу Мечникова созвучна и идея Леви-Стросса, сформулированная в работе «Руссо — отец
антропологии» [5], где он показывает, что Д. (со своим сознанием) находится не где-то вне меня, а еще до
моей встречи с ним жил в моем сознании (впрочем, как и все остальные, кого я встретил или могу
встретить).
Однако следует вспомнить, что Мечников — ученый-естествоиспытатель, и когда он говорит, что Д.
живет во мне, он имеет в виду реального Д., со своей плотью — используя современную терминологию, с
белковополисахаридной оболочкой, гелевой цитоплазмой, бактериальной хромосомой и другими
органоидами. Когда же Леви-Стросс говорит о Д. во мне, то он, конечно, не подразумевает, что абориген
реально находится во мне, но речь идет о лишь сознании Д. в моем сознании — тогда получается, что Д.
представлен во мне неопасно, не нарушает моего владения собой. С другой стороны, когда Мечников
говорит о Д. во мне, он подразумевает — плавает где-то в крови, но все равно это еще не во мне. А у Леви-
Стросса Д. действительно во мне — в моем сознании, в моей душе. Получается, что либо Д. представлен
основательно, опасно — во плоти, со своей «свободой», но тогда не совсем во мне, а где-то рядом. Либо Д.
действительно во мне, но тогда это не сам Д., а его сознание. Иначе говоря, и в том и в другом случае не
получается, чтобы Д. со своей свободой воли был приниципально отличен от меня и равноправен со мной.
Как представляется, обращение к концепциям биологии (которая традиционно занимается проблемой
среды обитания организма как его другого) за объяснительными моделями оправданно. Естественно-
научный вариант такого отношения с Д., при котором Д. и принципиально отличен от меня, и равноправен
мне, предложил В.И. Вернадский. У него живое и косное вещество, с одной стороны, вполне равноправны, а
с другой — принципиально различны, т. к. планета — источник вещества и энергии, а живое — источник и
центр круговоротов веществ (биогенной миграции атомов). Между косным и живым веществом существуют
отношения, построенные на свободном самоограничении (см.: Ноосфера, II). Как я понимаю, доказывая, что
жизнь, как и материя, вечна, он обосновывает суверенность живого — для того чтобы круговорот веществ
выступил как свободный взаимный дар, который нельзя удержать, но необходимо дарить обратно. Поэтому
в концепции Вернадского предусматривается, что человек, осуществляя свое целеполагание, должен
учитывать интересы планеты как своего-другого: ведь она является его интимной внутренней сущностью;
гово-
53
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
