Васильев Л.С. Древний Китай. Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

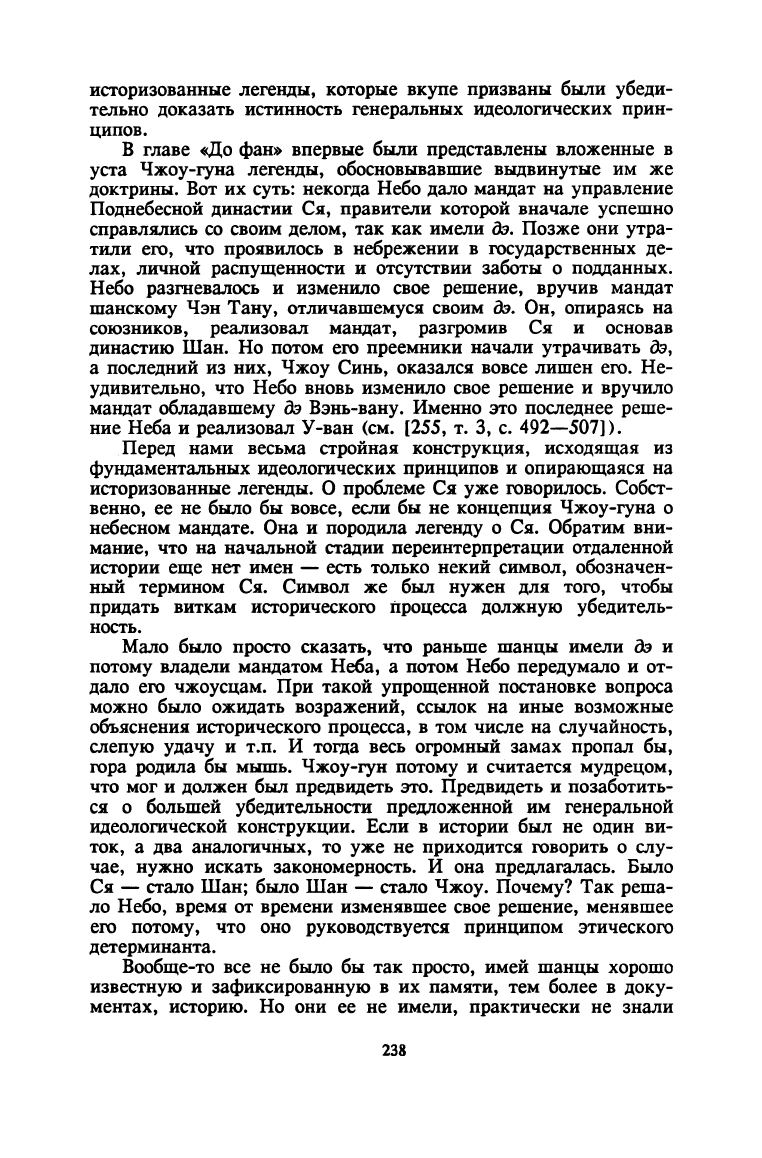
моторизованные легенды, которые вкупе призваны были убеди-
тельно доказать истинность генеральных идеологических прин-
ципов.
В главе «До фан» впервые были представлены вложенные в
уста Чжоу-гуна легенды, обосновывавшие выдвинутые им же
доктрины. Вот их суть: некогда Небо дало мандат на управление
Поднебесной династии Ся, правители которой вначале успешно
справлялись со своим делом, так как имели дэ. Позже они утра-
тили его, что проявилось в небрежении в государственных де-
лах, личной распущенности и отсутствии заботы о подданных.
Небо разгневалось и изменило свое решение, вручив мандат
шанскому Чэн Тану, отличавшемуся своим дэ. Он, опираясь на
союзников, реализовал мандат, разгромив Ся и основав
династию Шан. Но потом его преемники начали утрачивать дэ,
а последний из них, Чжоу Синь, оказался вовсе лишен его. Не-
удивительно, что Небо вновь изменило свое решение и вручило
мандат обладавшему дэ Вэнь-вану. Именно это последнее реше-
ние Неба и реализовал У-ван (см. [255, т. 3, с. 492—507]).
Перед нами весьма стройная конструкция, исходящая из
фундаментальных идеологических принципов и опирающаяся на
историзованные легенды. О проблеме Ся уже говорилось. Собст-
венно, ее не было бы вовсе, если бы не концепция Чжоу-гуна о
небесном мандате. Она и породила легенду о Ся. Обратим вни-
мание, что на начальной стадии переинтерпретации отдаленной
истории еще нет имен — есть только некий символ, обозначен-
ный термином Ся. Символ же был нужен для того, чтобы
придать виткам исторического процесса должную убедитель-
ность.
Мало было просто сказать, что раньше шанцы имели дэ и
потому владели мандатом Неба, а потом Небо передумало и от-
дало его чжоусцам. При такой упрощенной постановке вопроса
можно было ожидать возражений, ссылок на иные возможные
объяснения исторического процесса, в том числе на случайность,
слепую удачу и т.п. И тоща весь огромный замах пропал бы,
гора родила бы мышь. Чжоу-гун потому и считается мудрецом,
что мог и должен был предвидеть это. Предвидеть и позаботить-
ся о большей убедительности предложенной им генеральной
идеологической конструкции. Если в истории был не один ви-
ток, а два аналогичных, то уже не приходится говорить о слу-
чае, нужно искать закономерность. И она предлагалась. Было
Ся — стало Шан; было Шан — стало Чжоу. Почему? Так реша-
ло Небо, время от времени изменявшее свое решение, менявшее
его потому, что оно руководствуется принципом этического
детерминанта.
Вообще-то все не было бы так просто, имей шанцы хорошо
известную и зафиксированную в их памяти, тем более в доку-
ментах, историю. Но они ее не имели, практически не знали
.238
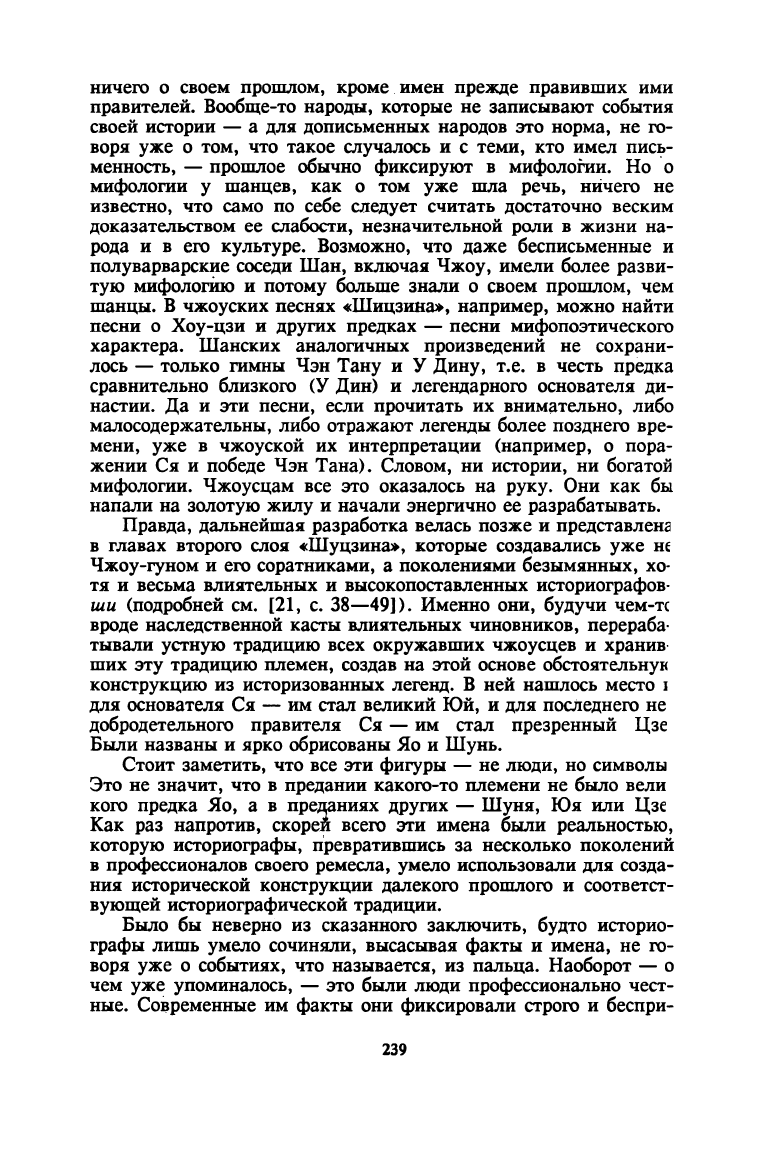
ничего о своем прошлом, кроме имен прежде правивших ими
правителей. Вообще-то народы, которые не записывают события
своей истории — а для дописьменных народов это норма, не го-
воря уже о том, что такое случалось и с теми, кто имел пись-
менность, — прошлое обычно фиксируют в мифологии. Но о
мифологии у шанцев, как о том уже шла речь, ничего не
известно, что само по себе следует считать достаточно веским
доказательством ее слабости, незначительной роли в жизни на-
рода и в его культуре. Возможно, что даже бесписьменные и
полуварварские соседи Шан, включая Чжоу, имели более разви-
тую мифологию и потому больше знали о своем прошлом, чем
шанцы. В чжоуских песнях «Шицзина», например, можно найти
песни о Хоу-цзи и других предках — песни мифопоэтического
характера. Шанских аналогичных произведений не сохрани-
лось — только гимны Чэн Тану и У Дину, т.е. в честь предка
сравнительно близкого (У Дин) и легендарного основателя ди-
настии. Да и эти песни, если прочитать их внимательно, либо
малосодержательны, либо отражают легенды более позднего вре-
мени, уже в чжоуской их интерпретации (например, о пора-
жении Ся и победе Чэн Тана). Словом, ни истории, ни богатой
мифологии. Чжоусцам все это оказалось на руку. Они как бы
напали на золотую жилу и начали энергично ее разрабатывать.
Правда, дальнейшая разработка велась позже и представлена
в главах второго слоя «Шуцзина», которые создавались уже не
Чжоу-гуном и его соратниками, а поколениями безымянных, хо-
тя и весьма влиятельных и высокопоставленных историографов-
ши (подробней см. [21, с. 38—49]). Именно они, будучи чем-тс
вроде наследственной касты влиятельных чиновников, перераба-
тывали устную традицию всех окружавших чжоусцев и хранив
ших эту традицию племен, создав на этой основе обстоятельнун
конструкцию из историзованных легенд. В ней нашлось место i
для основателя Ся — им стал великий Юй, и для последнего не
добродетельного правителя Ся — им стал презренный Цзе
Были названы и ярко обрисованы Яо и Шунь.
Стоит заметить, что все эти фигуры — не люди, но символы
Это не значит, что в предании какого-то племени не было вели
кого предка Яо, а в преданиях других — Шуня, Юя или Цзе
Как раз напротив, скорей всего эти имена были реальностью,
которую историографы, превратившись за несколько поколений
в профессионалов своего ремесла, умело использовали для созда-
ния исторической конструкции далекого прошлого и соответст-
вующей историографической традиции.
Было бы неверно из сказанного заключить, будто историо-
графы лишь умело сочиняли, высасывая факты и имена, не го-
воря уже о событиях, что называется, из пальца. Наоборот — о
чем уже упоминалось, — это были люди профессионально чест-
ные. Современные им факты они фиксировали строго и беспри-
.239
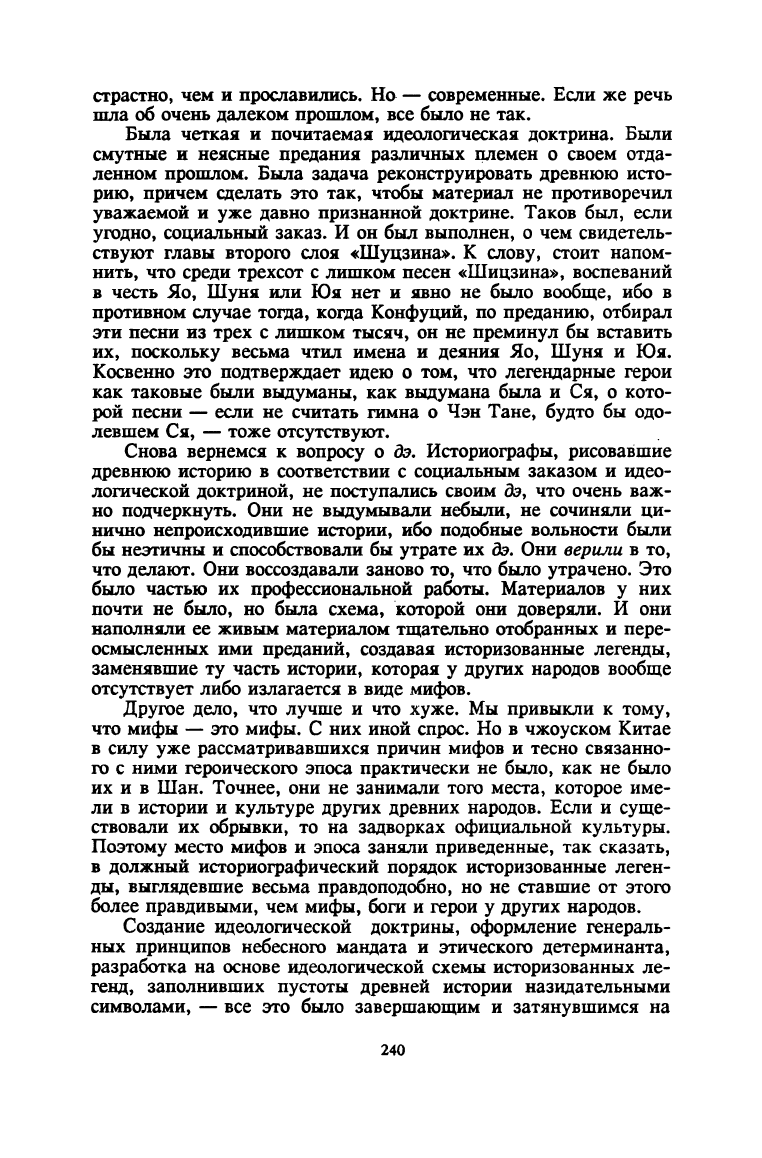
страстно, чем и прославились. Но — современные. Если же речь
шла об очень далеком прошлом, все было не так.
Была четкая и почитаемая идеологическая доктрина. Были
смутные и неясные предания различных племен о своем отда-
ленном прошлом. Была задача реконструировать древнюю исто-
рию, причем сделать это так, чтобы материал не противоречил
уважаемой и уже давно признанной доктрине. Таков был, если
угодно, социальный заказ. И он был выполнен, о чем свидетель-
ствуют главы второго слоя «Шуцзина». К слову, стоит напом-
нить, что среди трехсот с лишком песен «Шицзина», воспеваний
в честь Яо, Шуня или Юя нет и явно не было вообще, ибо в
противном случае тогда, коща Конфуций, по преданию, отбирал
эти песни из трех с лишком тысяч, он не преминул бы вставить
их, поскольку весьма чтил имена и деяния Яо, Шуня и Юя.
Косвенно это подтверждает идею о том, что легендарные герои
как таковые были выдуманы, как выдумана была и Ся, о кото-
рой песни — если не считать гимна о Чэн Тане, будто бы одо-
левшем Ся, — тоже отсутствуют.
Снова вернемся к вопросу о дэ. Историографы, рисовавшие
древнюю историю в соответствии с социальным заказом и идео-
логической доктриной, не поступались своим дэ, что очень важ-
но подчеркнуть. Они не выдумывали небыли, не сочиняли ци-
нично непроисходившие истории, ибо подобные вольности были
бы неэтичны и способствовали бы утрате их дэ. Они верили в то,
что делают. Они воссоздавали заново то, что было утрачено. Это
было частью их профессиональной работы. Материалов у них
почти не было, но была схема, которой они доверяли. И они
наполняли ее живым материалом тщательно отобранных и пере-
осмысленных ими преданий, создавая историзованные легенды,
заменявшие ту часть истории, которая у других народов вообще
отсутствует либо излагается в виде мифов.
Другое дело, что лучше и что хуже. Мы привыкли к тому,
что мифы — это мифы. С них иной спрос. Но в чжоуском Китае
в силу уже рассматривавшихся причин мифов и тесно связанно-
го с ними героического эпоса практически не было, как не было
их и в Шан. Точнее, они не занимали того места, которое име-
ли в истории и культуре других древних народов. Если и суще-
ствовали их обрывки, то на задворках официальной культуры.
Поэтому место мифов и эпоса заняли приведенные, так сказать,
в должный историографический порядок историзованные леген-
ды, выглядевшие весьма правдоподобно, но не ставшие от этого
более правдивыми, чем мифы, боги и герои у других народов.
Создание идеологической доктрины, оформление генераль-
ных принципов небесного мандата и этического детерминанта,
разработка на основе идеологической схемы историзованных ле-
генд, заполнивших пустоты древней истории назидательными
символами, — все это было завершающим и затянувшимся на
.240
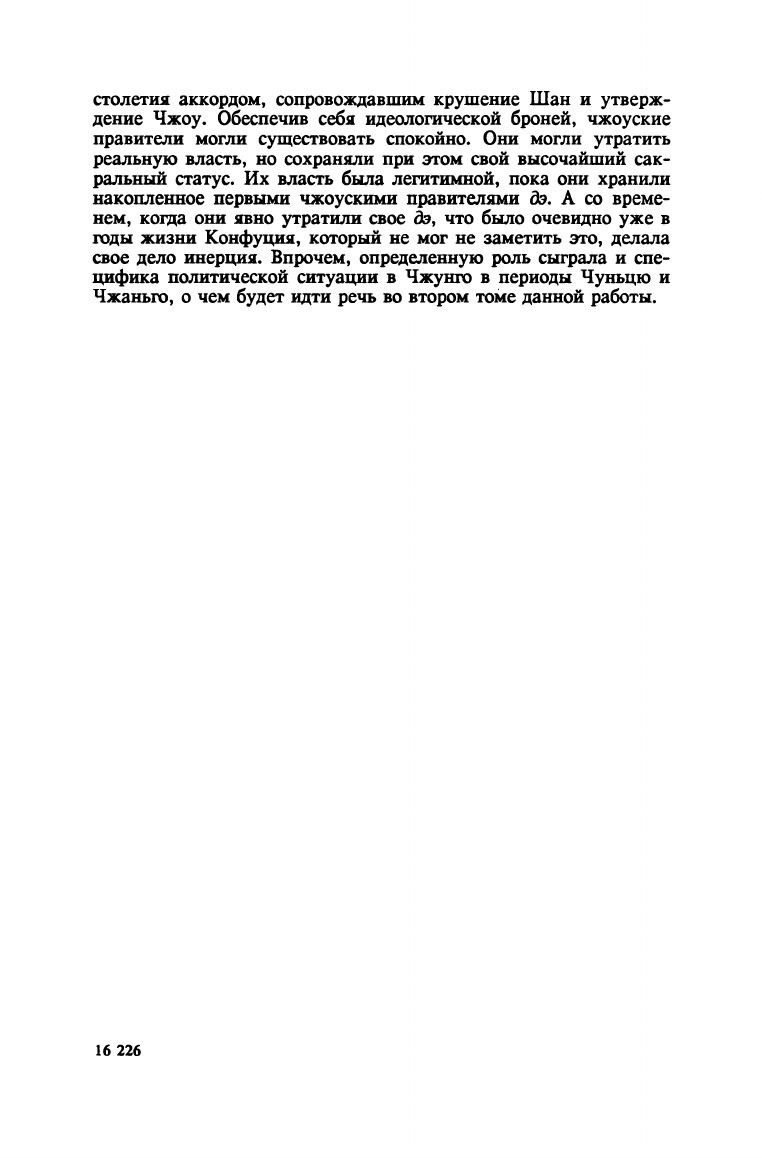
столетия аккордом, сопровождавшим крушение Шан и утверж-
дение Чжоу. Обеспечив себя идеологической броней, чжоуские
правители могли существовать спокойно. Они могли утратить
реальную власть, но сохраняли при этом свой высочайший сак-
ральный статус. Их власть была легитимной, пока они хранили
накопленное первыми чжоускими правителями дэ. А со време-
нем, коща они явно утратили свое дэ, что было очевидно уже в
годы жизни Конфуция, который не мог не заметить это, делала
свое дело инерция. Впрочем, определенную роль сыграла и спе-
цифика политической ситуации в Чжунго в периоды Чуньцю и
Чжаньго, о чем будет идти речь во втором томе данной работы.
14 226
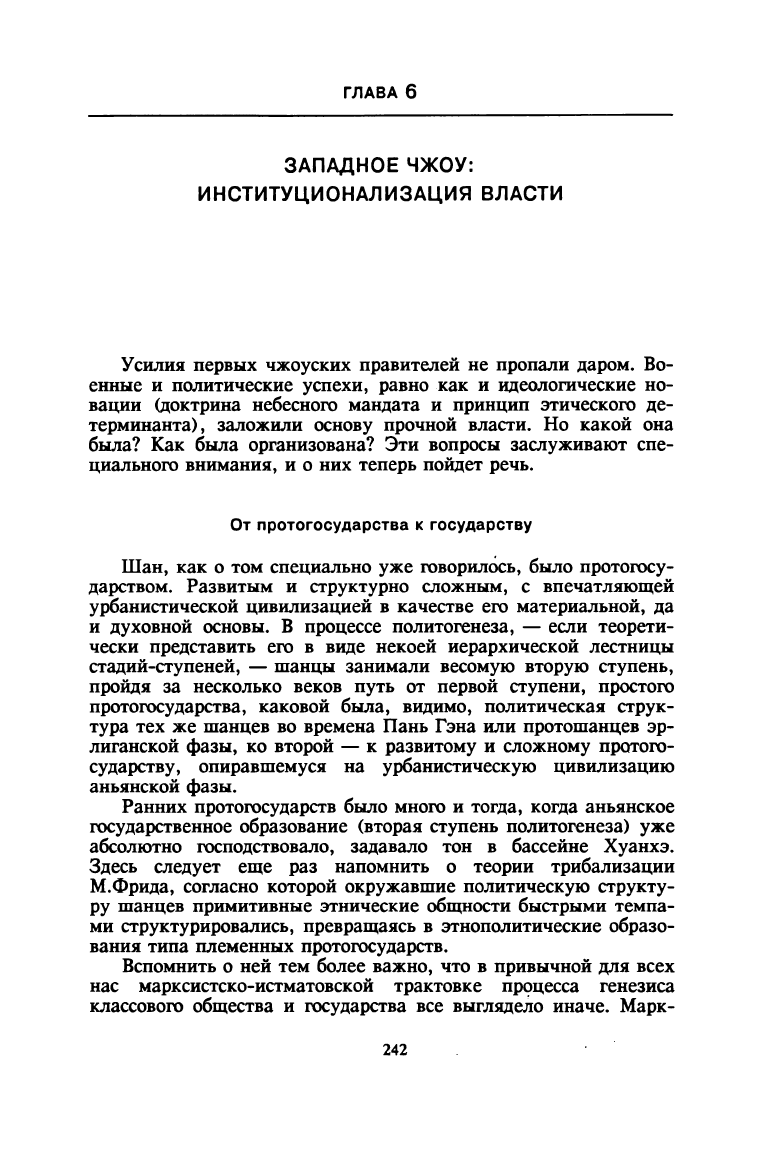
ГЛАВА 6
ЗАПАДНОЕ ЧЖОУ:
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ
Усилия первых чжоуских правителей не пропали даром. Во-
енные и политические успехи, равно как и идеологические но-
вации (доктрина небесного мандата и принцип этического де-
терминанта), заложили основу прочной власти. Но какой она
была? Как была организована? Эти вопросы заслуживают спе-
циального внимания, и о них теперь пойдет речь.
От протогосударства к государству
Шан, как о том специально уже говорилось, было протогосу-
дарством. Развитым и структурно сложным, с впечатляющей
урбанистической цивилизацией в качестве его материальной, да
и духовной основы. В процессе политогенеза, — если теорети-
чески представить его в виде некоей иерархической лестницы
стадий-ступеней, — шанцы занимали весомую вторую ступень,
пройдя за несколько веков путь от первой ступени, простого
протогосударства, каковой была, видимо, политическая струк-
тура тех же шанцев во времена Пань Гэна или протошанцев эр-
лиганской фазы, ко второй — к развитому и сложному протого-
сударству, опиравшемуся на урбанистическую цивилизацию
аньянской фазы.
Ранних протогосударств было много и тогда, когда аньянское
государственное образование (вторая ступень политогенеза) уже
абсолютно господствовало, задавало тон в бассейне Хуанхэ.
Здесь следует еще раз напомнить о теории трибализации
М.Фрида, согласно которой окружавшие политическую структу-
ру шанцев примитивные этнические общности быстрыми темпа-
ми структурировались, превращаясь в этнополитические образо-
вания типа племенных протогосударств.
Вспомнить о ней тем более важно, что в привычной для всех
нас марксистско-истматовской трактовке процесса генезиса
классового общества и государства все выглядело иначе. Марк-
.242
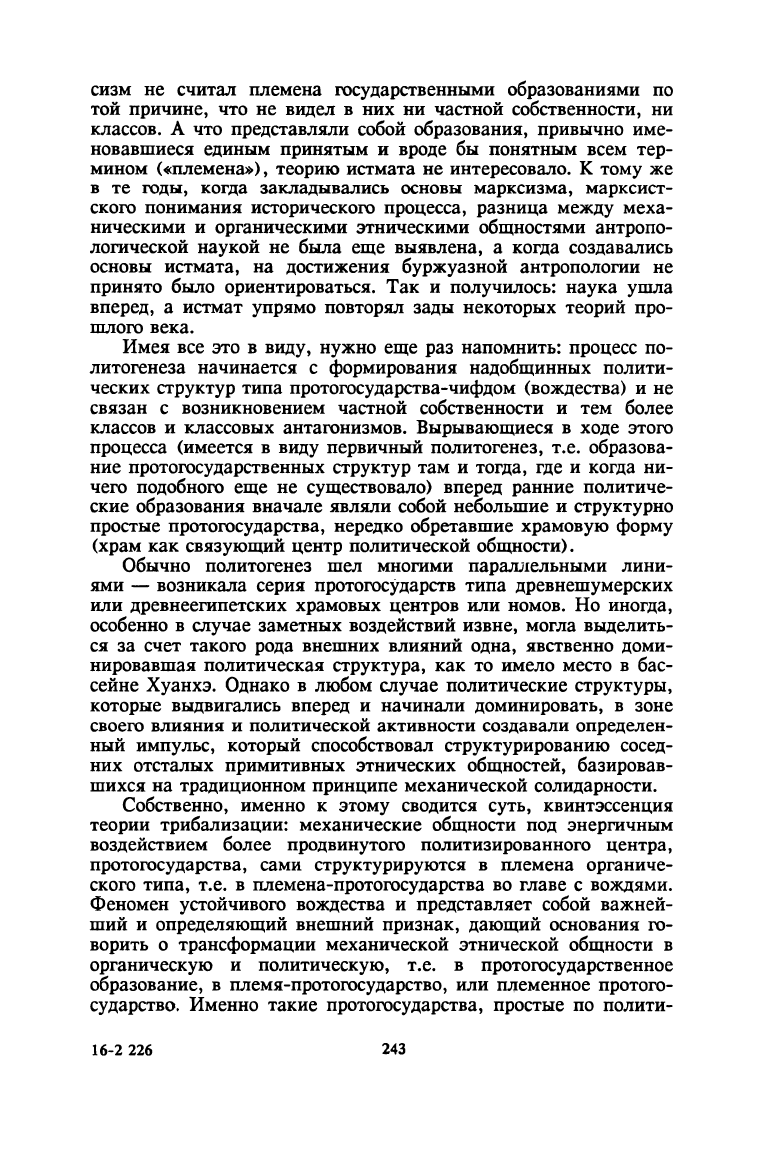
сизм не считал племена государственными образованиями по
той причине, что не видел в них ни частной собственности, ни
классов. А что представляли собой образования, привычно име-
новавшиеся единым принятым и вроде бы понятным всем тер-
мином («племена»), теорию истмата не интересовало. К тому же
в те годы, когда закладывались основы марксизма, марксист-
ского понимания исторического процесса, разница между меха-
ническими и органическими этническими общностями антропо-
логической наукой не была еще выявлена, а когда создавались
основы истмата, на достижения буржуазной антропологии не
принято было ориентироваться. Так и получилось: наука ушла
вперед, а истмат упрямо повторял зады некоторых теорий про-
шлого века.
Имея все это в виду, нужно еще раз напомнить: процесс по-
литогенеза начинается с формирования надобщинных полити-
ческих структур типа протогосударства-чифдом (вождества) и не
связан с возникновением частной собственности и тем более
классов и классовых антагонизмов. Вырывающиеся в ходе этого
процесса (имеется в виду первичный политогенез, т.е. образова-
ние протогосударственных структур там и тогда, где и когда ни-
чего подобного еще не существовало) вперед ранние политиче-
ские образования вначале являли собой небольшие и структурно
простые протогосударства, нередко обретавшие храмовую форму
(храм как связующий центр политической общности).
Обычно политогенез шел многими параллельными лини-
ями — возникала серия протогосударств типа древнешумерских
или древнеегипетских храмовых центров или номов. Но иногда,
особенно в случае заметных воздействий извне, могла выделить-
ся за счет такого рода внешних влияний одна, явственно доми-
нировавшая политическая структура, как то имело место в бас-
сейне Хуанхэ. Однако в любом случае политические структуры,
которые выдвигались вперед и начинали доминировать, в зоне
своего влияния и политической активности создавали определен-
ный импульс, который способствовал структурированию сосед-
них отсталых примитивных этнических общностей, базировав-
шихся на традиционном принципе механической солидарности.
Собственно, именно к этому сводится суть, квинтэссенция
теории трибализации: механические общности под энергичным
воздействием более продвинутого политизированного центра,
протогосударства, сами структурируются в племена органиче-
ского типа, т.е. в племена-протогосударства во главе с вождями.
Феномен устойчивого вождества и представляет собой важней-
ший и определяющий внешний признак, дающий основания го-
ворить о трансформации механической этнической общности в
органическую и политическую, т.е. в протогосударственное
образование, в племя-протогосударство, или племенное протого-
сударство. Именно такие протогосударства, простые по полити-
13-2 226
243
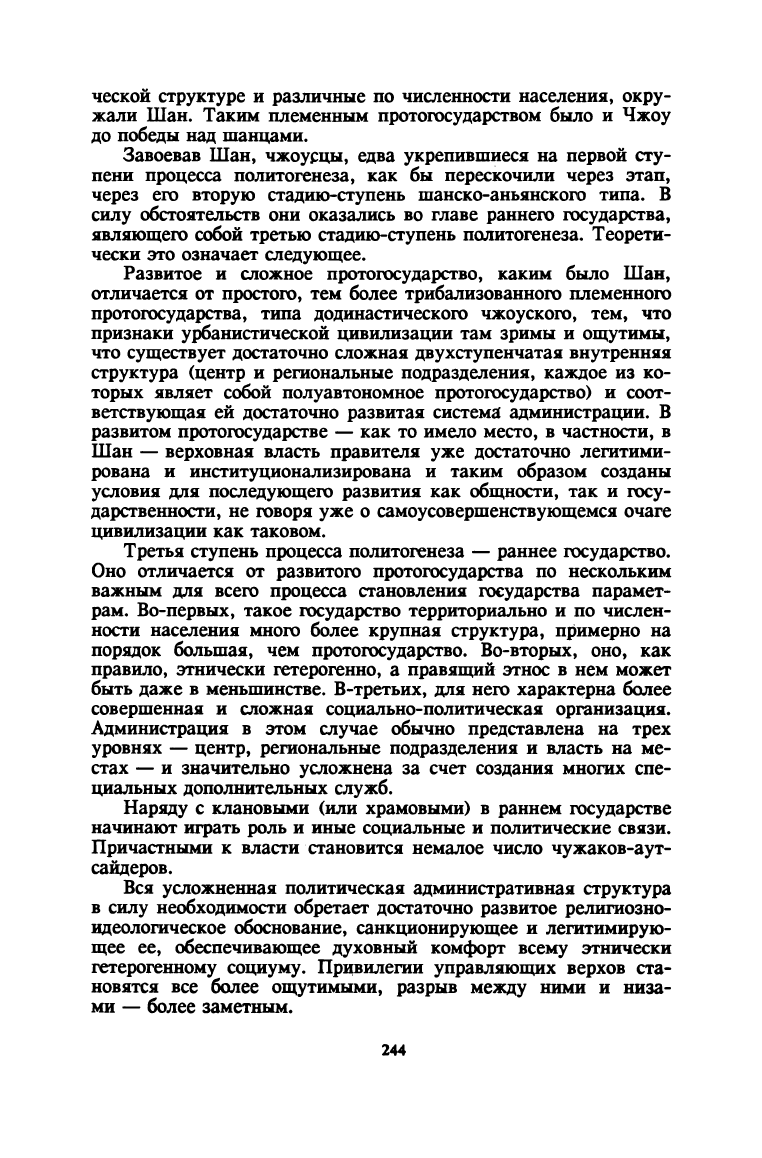
ческой структуре и различные по численности населения, окру-
жали Шан. Таким племенным протогосударством было и Чжоу
до победы над шанцами.
Завоевав Шан, чжоусцы, едва укрепившиеся на первой сту-
пени процесса политогенеза, как бы перескочили через этап,
через его вторую стадию-ступень шанско-аньянского типа. В
силу обстоятельств они оказались во главе раннего государства,
являющего собой третью стадию-ступень политогенеза. Теорети-
чески это означает следующее.
Развитое и сложное протогосударство, каким было Шан,
отличается от простого, тем более трибализованного племенного
протогосударства, типа додинастического чжоуского, тем, что
признаки урбанистической цивилизации там зримы и ощутимы,
что существует достаточно сложная двухступенчатая внутренняя
структура (центр и региональные подразделения, каждое из ко-
торых являет собой полуавтономное протогосударство) и соот-
ветствующая ей достаточно развитая система администрации. В
развитом протогосударстве — как то имело место, в частности, в
Шан — верховная власть правителя уже достаточно легитими-
рована и институционализирована и таким образом созданы
условия для последующего развития как общности, так и госу-
дарств енности, не говоря уже о самоусовершенствующемся очаге
цивилизации как таковом.
Третья ступень процесса политогенеза — раннее государство.
Оно отличается от развитого протогосударства по нескольким
важным для всего процесса становления государства парамет-
рам. Во-первых, такое государство территориально и по числен-
ности населения много более крупная структура, примерно на
порядок большая, чем протогосударство. Во-вторых, оно, как
правило, этнически гетерогенно, а правящий этнос в нем может
быть даже в меньшинстве. В-третьих, для него характерна более
совершенная и сложная социально-политическая организация.
Администрация в этом случае обычно представлена на трех
уровнях — центр, региональные подразделения и власть на ме-
стах — и значительно усложнена за счет создания многих спе-
циальных дополнительных служб.
Наряду с клановыми (или храмовыми) в раннем государстве
начинают играть роль и иные социальные и политические связи.
Причастными к власти становится немалое число чужаков-аут-
сайдеров.
Вся усложненная политическая административная структура
в силу необходимости обретает достаточно развитое религиозно-
идеологическое обоснование, санкционирующее и легитимирую-
щее ее, обеспечивающее духовный комфорт всему этнически
гетерогенному социуму. Привилегии управляющих верхов ста-
новятся все более ощутимыми, разрыв между ними и низа-
ми — более заметным.
.244
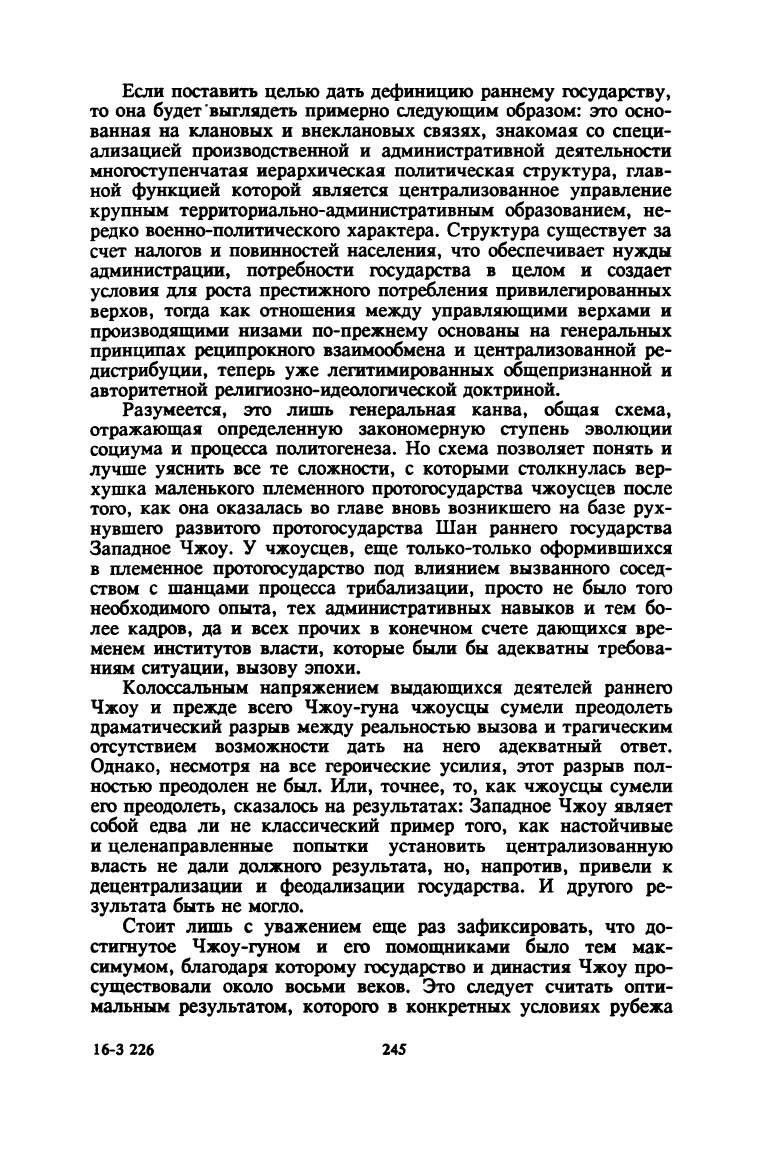
Если поставить целью дать дефиницию раннему государству,
то она будет выглядеть примерно следующим образом: это осно-
ванная на клановых и внеклановых связях, знакомая со специ-
ализацией производственной и административной деятельности
многоступенчатая иерархическая политическая структура, глав-
ной функцией которой является централизованное управление
крупным территориально-административным образованием, не-
редко военно-политического характера. Структура существует за
счет налогов и повинностей населения, что обеспечивает нужды
администрации, потребности государства в целом и создает
условия для роста престижного потребления привилегированных
верхов, тоща как отношения между управляющими верхами и
производящими низами по-прежнему основаны на генеральных
принципах реципрокного взаимообмена и централизованной ре-
дистрибуции, теперь уже легитимированных общепризнанной и
авторитетной религиозно-идеологической доктриной.
Разумеется, это лишь генеральная канва, общая схема,
отражающая определенную закономерную ступень эволюции
социума и процесса политогенеза. Но схема позволяет понять и
лучше уяснить все те сложности, с которыми столкнулась вер-
хушка маленького племенного протогосударства чжоусцев после
того, как она оказалась во главе вновь возникшего на базе рух-
нувшего развитого протогосударства Шан раннего государства
Западное Чжоу. У чжоусцев, еще только-только оформившихся
в племенное протогосударство под влиянием вызванного сосед-
ством с шанцами процесса трибализации, просто не было того
необходимого опыта, тех административных навыков и тем бо-
лее кадров, да и всех прочих в конечном счете дающихся вре-
менем институтов власти, которые были бы адекватны требова-
ниям ситуации, вызову эпохи.
Колоссальным напряжением выдающихся деятелей раннего
Чжоу и прежде всего Чжоу-гуна чжоусцы сумели преодолеть
драматический разрыв между реальностью вызова и трагическим
отсутствием возможности дать на него адекватный ответ.
Однако, несмотря на все героические усилия, этот разрыв пол-
ностью преодолен не был. Или, точнее, то, как чжоусцы сумели
его преодолеть, сказалось на результатах: Западное Чжоу являет
собой едва ли не классический пример того, как настойчивые
и целенаправленные попытки установить централизованную
власть не дали должного результата, но, напротив, привели к
децентрализации и феодализации государства. И другого ре-
зультата быть не могло.
Стоит лишь с уважением еще раз зафиксировать, что до-
стигнутое Чжоу-гуном и его помощниками было тем мак-
симумом, благодаря которому государство и династия Чжоу про-
существовали около восьми веков. Это следует считать опти-
мальным результатом, которого в конкретных условиях рубежа
14-3 226
245
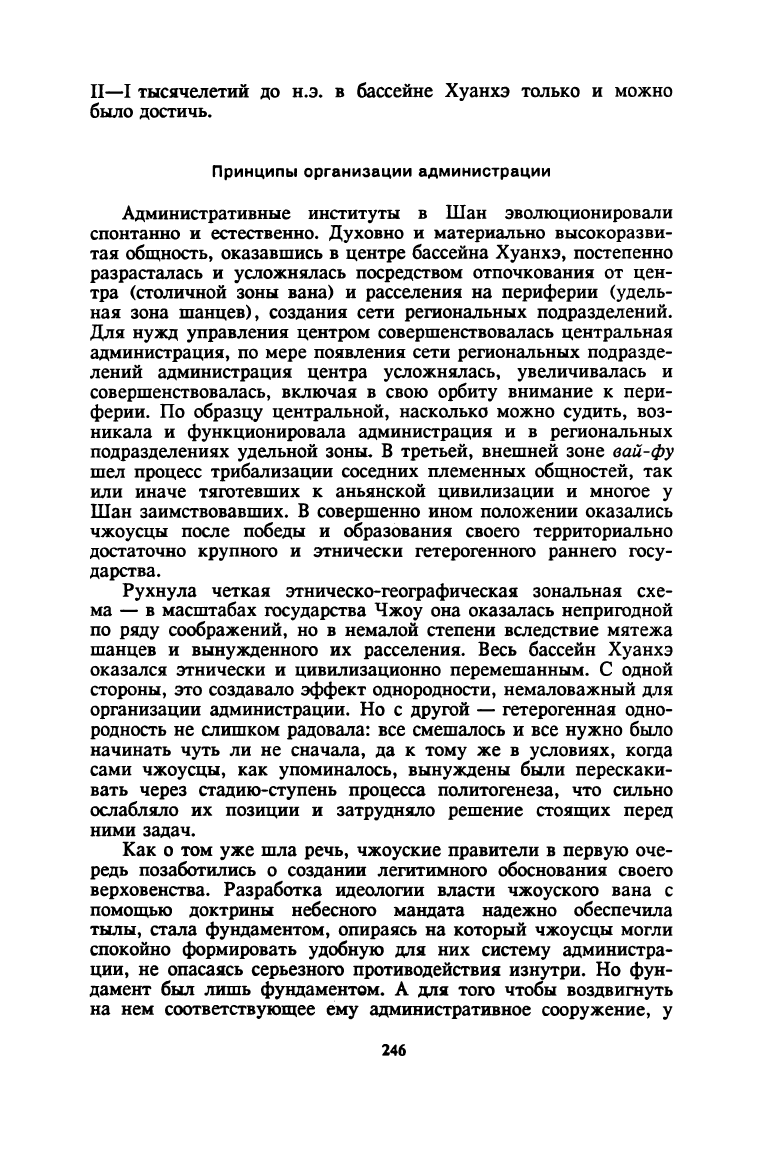
II—I тысячелетий до н.э. в бассейне Хуанхэ только и можно
было достичь.
Принципы организации администрации
Административные институты в Шан эволюционировали
спонтанно и естественно. Духовно и материально высокоразви-
тая общность, оказавшись в центре бассейна Хуанхэ, постепенно
разрасталась и усложнялась посредством отпочкования от цен-
тра (столичной зоны вана) и расселения на периферии (удель-
ная зона шанцев), создания сети региональных подразделений.
Для нужд управления центром совершенствовалась центральная
администрация, по мере появления сети региональных подразде-
лений администрация центра усложнялась, увеличивалась и
совершенствовалась, включая в свою орбиту внимание к пери-
ферии. По образцу центральной, насколько можно судить, воз-
никала и функционировала администрация и в региональных
подразделениях удельной зоны. В третьей, внешней зоне вай-фу
шел процесс трибализации соседних племенных общностей, так
или иначе тяготевших к аньянской цивилизации и многое у
Шан заимствовавших. В совершенно ином положении оказались
чжоусцы после победы и образования своего территориально
достаточно крупного и этнически гетерогенного раннего госу-
дарства.
Рухнула четкая этническо-географическая зональная схе-
ма — в масштабах государства Чжоу она оказалась непригодной
по ряду соображений, но в немалой степени вследствие мятежа
шанцев и вынужденного их расселения. Весь бассейн Хуанхэ
оказался этнически и цивилизационно перемешанным. С одной
стороны, это создавало эффект однородности, немаловажный для
организации администрации. Но с другой — гетерогенная одно-
родность не слишком радовала: все смешалось и все нужно было
начинать чуть ли не сначала, да к тому же в условиях, когда
сами чжоусцы, как упоминалось, вынуждены были перескаки-
вать через стадию-ступень процесса политогенеза, что сильно
ослабляло их позиции и затрудняло решение стоящих перед
ними задач.
Как о том уже шла речь, чжоуские правители в первую оче-
редь позаботились о создании легитимного обоснования своего
верховенства. Разработка идеологии власти чжоуского вана с
помощью доктрины небесного мандата надежно обеспечила
тылы, стала фундаментом, опираясь на который чжоусцы могли
спокойно формировать удобную для них систему администра-
ции, не опасаясь серьезного противодействия изнутри. Но фун-
дамент был лишь фундаментом. А для того чтобы воздвигнуть
на нем соответствующее ему административное сооружение, у
.246
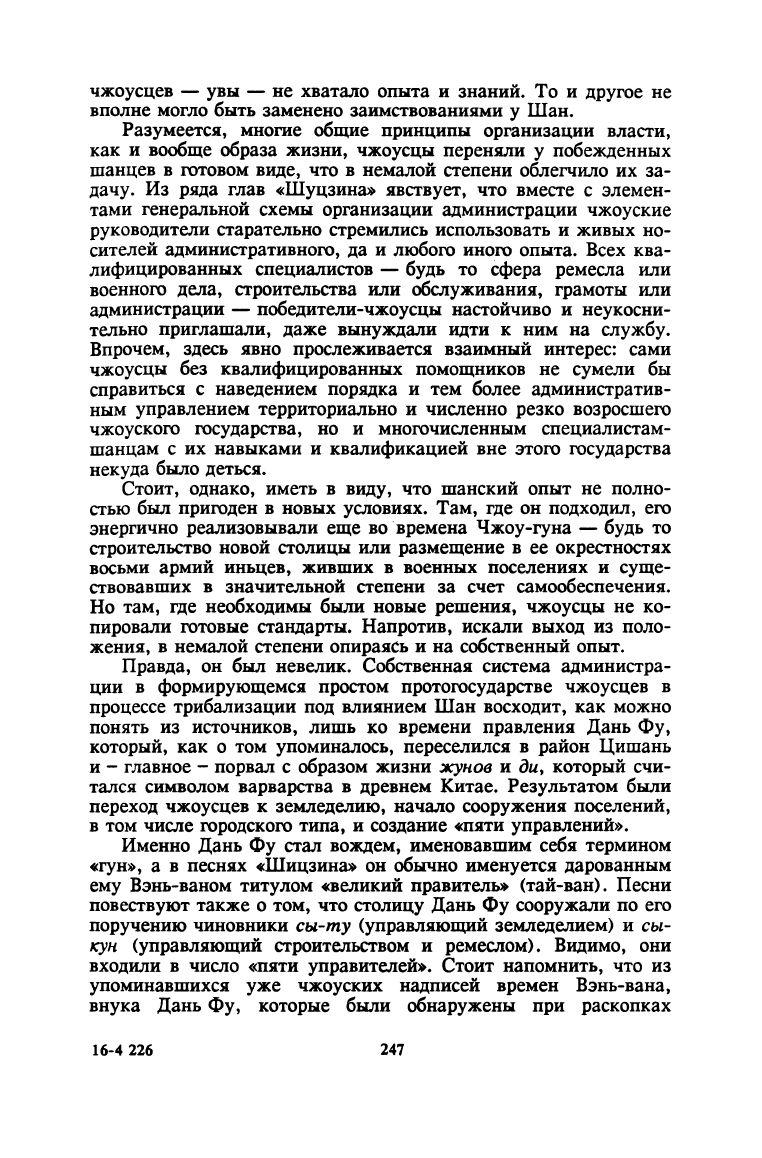
чжоусцев — увы — не хватало опыта и знаний. То и другое не
вполне могло быть заменено заимствованиями у Шан.
Разумеется, многие общие принципы организации власти,
как и вообще образа жизни, чжоусцы переняли у побежденных
шанцев в готовом виде, что в немалой степени облегчило их за-
дачу. Из ряда глав «Шуцзина» явствует, что вместе с элемен-
тами генеральной схемы организации администрации чжоуские
руководители старательно стремились использовать и живых но-
сителей административного, да и любого иного опыта. Всех ква-
лифицированных специалистов — будь то сфера ремесла или
военного дела, строительства или обслуживания, грамоты или
администрации — победители-чжоусцы настойчиво и неукосни-
тельно приглашали, даже вынуждали идти к ним на службу.
Впрочем, здесь явно прослеживается взаимный интерес: сами
чжоусцы без квалифицированных помощников не сумели бы
справиться с наведением порядка и тем более административ-
ным управлением территориально и численно резко возросшего
чжоуского государства, но и многочисленным специалистам-
шанцам с их навыками и квалификацией вне этого государства
некуда было деться.
Стоит, однако, иметь в виду, что шанский опыт не полно-
стью был пригоден в новых условиях. Там, где он подходил, его
энергично реализовывали еще во времена Чжоу-гуна — будь то
строительство новой столицы или размещение в ее окрестностях
восьми армий иньцев, живших в военных поселениях и суще-
ствовавших в значительной степени за счет самообеспечения.
Но там, ще необходимы были новые решения, чжоусцы не ко-
пировали готовые стандарты. Напротив, искали выход из поло-
жения, в немалой степени опираясь и на собственный опыт.
Правда, он был невелик. Собственная система администра-
ции в формирующемся простом протогосударстве чжоусцев в
процессе трибализации под влиянием Шан восходит, как можно
понять из источников, лишь ко времени правления Дань Фу,
который, как о том упоминалось, переселился в район Цишань
и - главное - порвал с образом жизни жунов и
ди>
который счи-
тался символом варварства в древнем Китае. Результатом были
переход чжоусцев к земледелию, начало сооружения поселений,
в том числе городского типа, и создание «пяти управлений».
Именно Дань Фу стал вождем, именовавшим себя термином
«гун», а в песнях «Шицзина» он обычно именуется дарованным
ему Вэнь-ваном титулом «великий правитель» (тай-ван). Песни
повествуют также о том, что столицу Дань Фу сооружали по его
поручению чиновники сы-ту (управляющий земледелием) и сы-
кун (управляющий строительством и ремеслом). Видимо, они
входили в число «пяти управителей». Стоит напомнить, что из
упоминавшихся уже чжоуских надписей времен Вэнь-вана,
внука Дань Фу, которые были обнаружены при раскопках
16-4 226 247
