Васильев B.B., Кротов A.A. История философии
Подождите немного. Документ загружается.


Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
331
обучение на теологическом факультете Копенгагенского университета. Физически
намного слабее своих сверстников, Кьеркегор выделялся на их фоне своими
незаурядными интеллектуальными способностями. В 1840 г. он выдерживает экзамен по
теологии, а в 1841 г. с успехом защищает магистерскую диссертацию «О понятии иронии
с постоянной оглядкой на Сократа». Ирония и юмор, как две основные формы
комического, играют далеко не случайную роль в учении Кьеркегора. К этим понятиям
Кьеркегор возвращается и в последующих своих сочинениях.
В 1841 г. он отправляется в свою первую поездку в Берлин, где посещает лекции
Фридриха Шеллинга. Будучи открытым оппонентом Гегеля, Шеллинг критиковал
последнего за недостаточное внимание к конкретному, за сведение всего к бесконечной
цепочке переходящих друг в друга понятий. Критика Гегеля, к которому до этого
времени Кьеркегор относился с большим почтением, была воспринята им очень живо и,
несомненно, оказала влияние на эволюцию его философского мировоззрения, однако
философию самого Шеллинга он воспринял без восторга и в целом скептически.
Свою карьеру писателя Кьеркегор начинает как публицист, однако уже в 1843 г. он
публикует сразу четыре самостоятельных произведения, двумя из которых —
двухтомным трудом «Или-Или» (под псевдонимом Виктор Эремита) и книгой «Страх и
трепет» (под псевдонимом Йоханнес де Силенцио) — были заложены основы
экзистенциальной философии. Не менее плодотворным оказался и 1844 г., когда вышли в
свет «Философские крохи» (под псевдонимом Иоханнес Климакус) и «Понятие страха»
(под псевдонимом Вигилий Хауфниенсий). Насыщенное философскими идеями
«Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»» выходит уже в 1846
г. Наконец, необходимо упомянуть книгу «Болезнь к смерти», опубликованную в 1852 г.
под именем Анти-Климакус.
Значительная часть трудов Кьеркегора, таким образом, была опубликована под
псевдонимами, и поскольку ни для кого не было секретом, кто именно под ними
скрывается, основной причиной подобной «таинственности» следует считать
методологическую позицию философа, которую сам Кьеркегор называл «косвенным
изложением». В то же время, ряд произведений, прежде всего на специальную
религиозную тематику, Кьеркегор публикует под собственным именем, к примеру
«Поучительные беседы различного толка» (1847) или «Христианские беседы» (1848).
Однако для понимания особого стиля и метода философствования Кьеркегора особый
интерес представляют три статьи, подписанные его настоящим именем. При жизни
Кьеркегора бы-
435
ла опубликована только одна, самая небольшая по объему — «Об авторстве моих
работ» (1851). Две другие — «Единственный»: две «заметки» относительно авторства
моих работ» и «Точка зрения на авторство моих работ» — были опубликованы
посмертно в 1859 г. Ни одна из перечисленных работ, к сожалению, до сих пор не
переведена на русский язык.
Серен Кьеркегор скончался в 1855 г. в возрасте 42 лет. Труды Кьеркегора оказали
значительное влияние не только на философию, но и на европейскую культуру в целом.
Его идеями вдохновлялись М. Хайдеггер и К. Ясперс, М. Унамуно и К. Барт. Среди
представителей русской философии следует назвать Н. А. Бердяева и Л. Шестова. Его
художественный талант и тонкое чутье психолога высоко ценили Г. Ибсен и А. П. Чехов.
Отношение к гегелевской философии и рационализму.
Отношение к гегелевской философии и рационализму. В молодости Кьеркегор был
страстным поклонником Гегеля. Следы юношеского восхищения маститым немецким
профессором еще можно заметить в магистерской диссертации «О понятии иронии», хотя
уже здесь набирает силу полемический тон. В дальнейшем расхождения становятся
непримиримыми, а полемика перестает скрашиваться формулами вежливости,
отдающими дань великому немецкому философу. Неприятие Кьеркегором гегелевской
философии можно свести к двум основным моментам — неприятию абсолютного
идеализма, включая диалектический метод, при помощи которого происходит
разворачивание понятий, и неприятию философского истолкования религии. Что касается
абсолютного идеализма, то Кьеркегор отстаивает первичность и полноту существования,
которое подвергается неизбежному искажению со стороны абстрактного мышления в
понятиях. Диалектическому моменту снятия Кьеркегор противопоставляет доведенное до
крайности противоречие, освободить от которого человека способна лишь вера, но никак
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
332
не философия. Поскольку поиски человеком самого себя означают поиски им утерянной
связи с Богом, философия с самого начала оказывается неотделимой от религии и ей
подчиненной. У Гегеля философия и религия тождественны по своему содержанию и
различаются только по форме. Бог оказывается познаваемым, что ничуть не смущает
Гегеля, и совершенно неприемлемо для Кьеркегора. Сокровенно-личная религиозность,
конфликт общего и частного означают для Гегеля неразвитые формы сознания, а у
Кьеркегора они становятся центральными вопросами, предметом анализа подлинной
философии. Осуждаемая Гегелем «немудрствующая чистая религиозность», носителем
которой является человеческая индивидуальность, становится для Кьеркегора искомой
целью. В этом смысле философия для Кьеркегора только вторична: теоретическая
философия недостаточна и чаще всего ошибочна, а подлинная философия —
осуществленная Кьеркегором попытка совместить концептуальное изложение с
литературным текстом — способна лишь сориентировать человека, помочь ему вступить
на путь подлинного самопознания, путь веры.
Вторым по значению европейским философом, с которым Кьеркегор ведет
непрекращающийся спор, является Сократ. В своем дневнике за 1854 г. Кьеркегор
запишет: «Вне христианства Сократ единственный в своем роде». Именно так, как к
величайшему из людей во всем дохристианском мире, и относился Кьеркегор к Сократу.
А потому шла ли речь об иронии или о сократовском понимании греха как неведения,
Кьеркегор не столько упрекает, сколько оправдывает Сократа, который в своем
бескомпромиссном служении истине сумел достичь тех границ, за которыми начинается
христианская вера.
436
Необходимо, наконец, сказать несколько слов об отношении Кьеркегора к Декарту, и
прежде всего к его знаменитой формуле cogito ergo sum. С XVII в., с философии Декарта
начинается новая эпоха в европейской философии — эпоха субъективности. Во времена
Кьеркегора, вместе с кризисом рациональности эта эпоха подходит к концу, а Кьеркегор
становится первым, кто открыто отказывается от понятия субъекта. На место субъекта
приходит экзистенция. С точки зрения Кьеркегора, в выводе cogito ergo sum
постулируется тождество мышления и бытия, однако это тождество никак не
обосновывается и оказывается пустой тавтологией: мышление и есть единственный
способ существования чистого субъекта. Если же под Я в cogito мы будем подразумевать
единичного индивида, то и тогда ценность высказывания будет весьма сомнительной,
поскольку мышление неотделимо от существования, а значит, ничего нового в
заключение нам не сообщается.
Основные положения и понятия философии Кьеркегора. Понятие «человек».
Основные положения и понятия философии Кьеркегора. Понятие «человек».
Человек, согласно Кьеркегору, — это прежде всего человек существующий, экзистенция,
соединяющая в себе вечное и временное, бесконечность и конечность. В
«Заключительном ненаучном послесловии к «Философским крохам» Кьеркегор поясняет,
что «человек как он есть в действительности, соединяющий в себе бесконечность и
конечность, обладает своей действительностью именно постольку, поскольку
бесконечным интересом к существованию удерживает в себе и то и другое».
В самом начале первой главы «Болезни к смерти» приведенное определение
дополняется новым конструктивным решением, напоминающим фихтеанский анализ
сознания. Человек, по-прежнему, понимается как «синтез бесконечного и конечного,
временного и вечного, свободы и необходимости», но теперь на первый план выдвигается
отношение между противоположностями. Человеческое Я имеется тогда, когда указанное
отношение относится к самому себе. Этико-религиозная направленность такого
понимания Я становится очевидной, когда Кьеркегором выдвигается следующий
постулат: совокупность отношений, из которых состоит человеческая самость, не
является самостоятельной. Самополаганию отношения, — акту самосознания, когда
«отношение относится к самому себе», — предшествует сила, которая его полагает. В
итоге мы имеем в наличии три отношения — (1) отношение между
противоположностями, (2) отношение к этому отношению, или человеческое Я, и (3)
отношение к иному, или Богу.
Экзистенциал «отчаянья». Определение «веры» через понятие «греха».
Экзистенциал «отчаянья». Определение «веры» через понятие «греха». Главной
темой книги «Болезнь к смерти» является, конечно, не самопознание как таковое, а
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
333
этическое самопознание, приводящее человека к Богу. «Смертельной болезнью» и
одновременно отправной точкой для самосознания оказывается отчаянье. Как отмечал Л.
Шестов, началом философии для Кьеркегора является не удивление, как учили греки, а
отчаянье. Отчаянье представляет собой внутреннее несоответствие в синтезе, когда
отношение относится к самому себе. Рассуждения Кьеркегора о неизбежности отчаянья
можно было бы сопоставить с учением Шопенгауэра о страдании: как наша жизнь, хотим
того или нет, пронизана страданием, так же каждый из нас несет в себе зерно отчаянья.
Из структуры человеческого Я Кьеркегор выводит два вида настоящего отчаянья:
желание избавиться от своего Я и страстное желание быть самим собой. Неподлинным
или неистинным отчаяньем Кьеркегор называет такое отчаянье, когда человек не сознает
своего Я. Именно поэтому Кьеркегор замечает, что «отчаяться в чем-то — это еще не
настоящее отчая-
437
нье». Действительный предмет любого отчаянья — собственное Я человека. Итак,
универсальность отчаянья не означает его однородность, напротив, отчаянье может
избирать самые различные пути, обобщая которые мы получаем три формы, или вида,
отчаянья: (1) отчаянье, когда человек не знает своего Я (неистинное отчаянье); (2)
отчаянье, когда не желают быть собою; (3) отчаянье, когда желают быть собою.
Кьеркегор требует от отчаявшегося идти до конца: осознавая свой грех, необходимо
продолжать желать оставаться собой, и тогда мы обретем веру и в этой вере преодолеем
свое отчаяние. Состояние, когда отчаянье полностью отступает, Кьеркегор описывает
следующим образом: «в отношении к самому себе, желая быть собою, Я погружается
посредством собственной ясной прозрачности в ту силу, которая его полагает» ( 1:350). В
этой формуле мы находим кьеркегоровское понимание веры. Иное определение веры —
через парадокс и абсурд — содержится в произведении «Страх и трепет», о котором речь
пойдет чуть позже. Что касается понятия «греха», то Кьеркегор понимает под грехом
«отчаяние перед Богом». Идея позитивности, изначально присутствующая в понятии
греха, подытоживает концептуальные рассуждения Кьеркегора: «Грех подразумевает Я,
поднятое к бесконечной мощи идеей Бога, а стало быть, подразумевает также
максимальное осознание греха как действия. Именно это выражено в тезисе, что грех —
это нечто положительное; его позитивность состоит как раз в том, чтобы быть перед
Богом» ( 1: 350).
Как мы видели, не всякое отчаянье приводит к вере. Спасение, обретение веры
означает одновременно обретение самого себя. Тернистый путь к вере, однако, Кьеркегор
описывает не только посредством экзистенциала отчаянья. Другим известным учением
датского философа является учение о трех стадиях жизни, которое он наиболее полным
образом излагает в «Или-Или», своем первом крупном — книга была опубликована в 2
томах общим объемом около 800 страниц — и первом опубликованном под псевдонимом
произведении, вышедшем в свет в 1843 г., то есть на десятилетие раньше чем
повествующее об отчаянье «Болезнь к смерти». Если быть точным, в «Или-Или»
подробно освещены только две стадии — эстетическая и этическая, а описание
религиозной стадии содержится в книгах «Страх и трепет» (1843) и «Стадии жизненного
пути» (1845).
Эстетическая стадия.
Эстетическая стадия. На первой эстетической стадии человек находится в поиске
удовольствия и наслаждения, не важно телесного или интеллектуального. Всегда
неудовлетворенное желание постоянно меняет свой объект. Больше всего этой стадии
соответствует тип романтика-индивидуалиста, а также Дон Жуан, находящийся в вечном
поиске новых ощущений. Нерон, как ни странно, также приводится в пример
Кьеркегором, поскольку и его основной мотив — жажда наслаждений. Эстетическое
существование в действительности может принимать самые разнообразные формы,
однако три характеристики остаются неизменными. Первая — это наслаждение. Вторая
— это непосредственность, когда над своим душевным развитием, безразлично достигает
ли оно каких-либо высот или граничит со скудоумием, человек не трудился, а лишь
пользуется уже имеющимся как даром. Наконец, третья — это этическая
индифферентность, т. е. безразличие к этической стороне происходящего.
Этическая стадия и понятие «выбора».
Этическая стадия и понятие «выбора». Вторую этическую стадию человеческого
существования Кьеркегор связывает с выбором. Ее героями являются Агасфер и Сократ.
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
334
Именно понятием выбора оправдывается жесткая по-
438
становка проблемы в названии книги — «Или-Или». Кьеркегор обращает внимание
читателя на то, что речь идет не о простом выборе, когда предлагаемые варианты
фактически эквивалентны, а об «абсолютом выборе». Если в человеке находит свой
выход подлинная свобода воли, то «выбрать» человек способен только одно — самого
себя как свободу, свое собственное Я, которое является центром этической жизни.
Религиозная стадия. «Телеологическое устранение этического» и
определение «веры» через понятие «абсурда».
Религиозная стадия. «Телеологическое устранение этического» и определение
«веры» через понятие «абсурда». Итак, в работе «Или-Или» раскрывается, прежде
всего, дилемма между эстетическим и этическим началом в человеке. «Страх и трепет»
раскрывает суть религиозной стадии и заменяет «либо-либо» на «ни-ни»: чтобы вступить
на путь веры человек должен отказаться не только от эстетических приоритетов, но и от
этики со всеми ее максимами и универсальными постулатами. Вера стоит выше этики.
Этику Кьеркегор определяет как «всеобщее», т. е. признает ее общечеловеческий и
универсальный характер. И все же Кьеркегор отстаивает возможность «телеологического
устранения этического»: более высокий τέλος — вера — устраняет этическое, не
разрушает, а именно устраняет, сохраняя в высшем.
Центральным понятием для третьей религиозной стадии является вера. Вера в Бога —
высшее, на что способен человек. Величайшее зло — безбожие. Но вера, согласно
Кьеркегору, начинается там, где прекращается мышление, и если понимание, как
производное мышления, отражает отношение человека к человеку, то вера выражает
собой отношение человека к божественному. Таким образом, вера иррациональна, однако
Кьеркегор находит понятия, помогающими приблизиться к ее сути. Речь идет о парадоксе
и абсурде. Вера является «самым великим и самым трудным из всего возможного»,
поскольку для ее достижения требуется «заглянуть в глаза невозможности». Что же
именно можно назвать невозможным, парадоксальным, абсурдным? Кьеркегор
определяет веру как парадокс, согласно которому «единичный индивид в качестве
единичного стоит выше всеобщего» (1: 54).
Вера Авраама и тема молчания в философии Кьеркегора.
Вера Авраама и тема молчания в философии Кьеркегора. Одной из важных для
Кьеркегора тем является тема молчания, которая заслуживает внимания, поскольку
является неотъемлемой частью учения, т. е. обоснована концептуально. Авраам молчит
не потому, что боится нарушить покой своих близких, Исаака и Сарры, трагическим
известием, и не потому, что желает, как это обычно происходит с трагическим героем,
скрыть одному ему ведомую тайну, а потому что не может говорить или, иными словами,
потому что ему нечего сказать. «Единичный индивид» молчит, поскольку у него
отсутствует связь со всеобщим, поскольку его никто и никогда не поймет. Из этой
«непонятности» для всех других следует сразу несколько важных выводов. Никто не
может дать ему совета, в том числе и другой рыцарь веры, поскольку «когда другой
индивид должен пройти тот же путь, он совершенно таким же образом должен стать
единичным», а значит, и не нуждается ни в каких указаниях.
Единичный индивид.
Единичный индивид. Центральным понятием философии Кьеркегора является,
несомненно, «единичный индивид» (Enkelte), a понятием, противостоящим ему, —
«всеобщее». Необходимо иметь в виду, что «единичный индивид» представляет собой
совершенно особое понятие, поскольку не имеет определения, не обладает никакими
свойствами, кроме одного — быть индивидом, т. е. единственным, единичным.
«Единичный индивид» Кьеркегора — это индивид, не просто стоящий выше всеобщего,
но индивид, находя-
439
щийся в абсолютном отношении к Абсолюту, т. е. нашедший Бога, вступивший на
путь веры.
Становление «единичного индивида», и это очень важно отметить, так как здесь пути
философии жизни и даже экзистенциальной философии и философии Кьеркегора
расходятся уже навсегда, есть становление посредством само-рефлексии, само-сознания.
Мышление предваряет действие и отвечает за анализ его последствий, но к этому «до» и
«после» человек должен каким-то образом прийти. Вспомним, что отчаянье, чтобы стать
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
335
позитивным, т. е. открыть человеку путь к осознанию своей греховности, должно быть
непременно сопряжено с рефлексией о самом себе: отчаянье должно осознавать себя,
осознавать, что оно есть действие, и его напряженность возрастает вместе с возрастанием
осознания Я. Человек ответствен за свой грех именно потому, что в его власти как
сознательного существа грешить или не грешить.
Однако философия Кьеркегора — это не только и столько философия
индивидуальности, как ее многие пытаются представить. Ее главной целью является не
возвеличивание индивида, а, как неоднократно подчеркивал сам Кьеркегор, — ответ на
вопрос, что означает стать христианином. Понятия «единичного индивида»,
«повторения», «отчаянья», «страха» и многие другие не имеют самостоятельного
значения, и экзистенциализм Кьеркегора не может быть охарактеризован иначе как
именно христианский экзистенциализм. В то же время, то, каким образом датский
философ пытается донести свои идеи до читателя, определяется его особым,
нетрадиционным отношением к христианству и его догматам, а потому определить, что
же все-таки преобладает в его мировоззрении — религиозность или экзистенциальная
направленность, оказывается чрезвычайно сложно.
Способ философствования: стиль и метод у Кьеркегора.
Способ философствования: стиль и метод у Кьеркегора. Кьеркегор не стремится
создать никакой системы и намеренно не соблюдает общепринятые нормы научного
изложения: свой собственный стиль он называет «диалектической лирикой»
(подзаголовок к работе «Страх и трепет») или заявляет, что предпочитает говорить «по-
человечески», или, наконец, уверяет, что ему хотелось бы «считаться дилетантом,
который, конечно же, занимается философской спекуляцией, но сам пребывает за
пределами этой спекуляции».
Очевидно, что в традиционном смысле творчество Кьеркегора не является
философией, а относится скорее к разряду назидательной литературы, но столь же
очевидно, что именно такой способ философствования, лишенный систематики и
непосредственно граничащий с искусством, уже к началу ХХ века закрепил за собой
право называться философией.
Отвлекаясь от религиозной составляющей его творчества, попытаемся выявить то, что
вынуждает Кьеркегора применять описанный выше новый способ философствования.
Выше рассудка, выше рефлексии Кьеркегор ставит страсть. Стремление Кьеркегора
заключается в том, чтобы повлиять на современников, изменить их, потому что ни их
поведение, ни их самосознание его не устраивают. Ему не нравится, что «люди слишком
мало верят в дух», что они «бездуховны», и он хочет, чтобы они «обрели мужество
верить в могущество духа». Страсть, соответственно, понимается не как некая низшая
бессознательная сила, управляющая нашими поступками, а как то, что составляет
неотъемлемую часть духовности, т. е. страсть одухотворяется. Так, надежными он
признает не заключения холодного рассудка, а заключения страсти, поскольку они есть
единственно убеждающие. Более того, не разум
440
определяет подлинно человеческое, а страсть, высшим проявлением которой является
вера.
Заключения рассудка, а вместе с ними всякого рода спекуляции и вырастающие из них
философские системы, оказываются неубедительными и главное недейственными,
поскольку неспособны обеспечить как раз то, что они призваны обеспечить, а именно —
переход от мысли к действию. Подлинное самосознание есть не созерцание, а действие,
привести к которому способен не научный или, что то же самое, философский труд, а
скорее проповедь, которая представляет собой не что иное, как «искусство убеждать».
Кьеркегора можно назвать своим собственным биографом, и не только потому, что он
оставил нам в наследие целые тома дневниковых записей, но и потому, что сама его
жизнь (как творческая, так и личная) проблематизирует понятие авторства. Об этом
говорит как постоянная и вполне продуманная игра с псевдонимами, так и желание
соответствовать «описанным Я» в реальной жизни. К слову сказать, население
Копенгагена, хотя он и был королевской столицей, составляло в те времена
приблизительно 200 тысяч человек, то есть он был небольшим городом, в котором жизнь
интеллектуальной элиты была, если можно так выразиться, у всех на виду. Этим не раз
пользовался Кьеркегор. Так, во время написания «Или-или» Кьеркегор был так погружен
в работу, что у него за целый день выдавалось только несколько свободных минут,
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
336
которые он проводил, появляясь в театре на глазах у всей публики. Слухи, естественно,
утверждали, что он только и делал, что посещал представления, но этого-то и добивался
Кьеркегор — эффект был произведен. Известно также, что его единственной отрадой
были ежедневные прогулки по Копенгагену, и что за ним закрепилась слава «шпиона»,
который все и обо всех знает.
Но вернемся к теме авторства и к стремлению Кьеркегора всячески запутать читателя,
но только не дать ему возможность приписывать все произведения одному автору. В
самом деле, если бы он просто хотел скрыть свое имя, то мог бы пользоваться каким-то
одним псевдонимом, но он их постоянно меняет: книга «Страх и трепет» была подписана
Иоханнесом де Силенцио, «Повторение» — Константином Констанцием, «Понятие
страха» — Виталием Хауфниенсием, «Философские крохи» — Иоханнесом Климакусом,
а «Болезнь к смерти», последняя большая работа Кьеркегора, — Анти-Климакусом. Что
это — безобидная игра, или за этим скрывается какой-то смысл?
В действительности, у Кьеркегора был хорошо продуманный план. Такой вывод
можно сделать на основании дневниковых записей и трех работ, посвященных
непосредственно проблеме авторства, о которых мы упоминали при изложении
биографии Кьеркегора. План заключался в следующем: философские произведения
Кьеркегора публиковались под псевдонимами, но параллельно — т. е. с минимальным
разрывом по дате публикации — выходили в свет его религиозные произведения.
Первые, таким образом, представляли собой «косвенную форму изложения», а вторые,
напротив, несли в себе прямое, непосредственное сообщение. Со всей строгостью
данному плану Кьеркегор следовал в течение пяти лет — с 1843 по 1848 г. Казалось бы,
это не такой большой срок, однако перечень опубликованных за этот период
произведений является довольно внушительным. Преимущество «косвенной формы
изложения» Кьеркегор видел в «отсутствии авторитета», что служило эффективным
способом воздействия на читателя, вовлекая его, хотя и не сов, сем честным путем, в
истину. Такой метод, кроме того, прекрасно подходил
441
для борьбы с разного рода иллюзиями. В качестве основных «мишеней» для
закамуфлированной, иронической и косвенной критики Кьеркегор избрал веру в
непогрешимость абсолютную истинность систематической философии гегелевского
образца, а также ничем не обоснованную убежденность простого обывателя в том, что он
является христианином, притом правоверным. Не надо забывать, однако, что план,
разработанный Кьеркегором, был единым и в конечном счете и философские и
религиозные труды преследовали одну общую цель — сообщить понимание того, что
означает быть христианином.
Кьеркегор не только следовал своему плану, но и не скрывал его, опасаясь, что иначе
он будет неверно понят. Между тем избежать последнего ему не удалось. Ничуть не
удивительным, однако вызывающим сожаление является тот факт, что литературно-
философские труды Кьеркегора завоевали известную популярность, тогда как работы по
религиозной тематике не вызвали особого интереса. Более того, многие были убеждены в
том, что все дело в возрастных предпочтениях: в начале Кьеркегор писал эстетические по
своему характеру произведения, а с возрастом стал более серьезным и перешел на
нравоучения. Судя по дневниковым записям, Кьеркегор глубоко переживал такое явное
непонимание, сводившее на нет его усилия.
Псевдонимы Кьеркегора, следовательно, ни в коем случае не означают, что он хочет
показаться тем, кем в действительности не является; они только не позволяют вынести об
авторе окончательного суждения, т. е. подвести «индивида» под какое-либо понятие
(будь-то «занимательный писатель» или «тонкий психолог») и, уже исходя из этого,
оценивать все его творчество. Иными словами, «единичный индивид» остается самим
собой только относительно себя, только он способен судить о самом себе, и манера
Кьеркегора преподносить себя читателю представляет собой наглядный пример,
иллюстрацию этого важного тезиса.
Мы уже говорили о теме молчания в творчестве Кьеркегора. Сам Кьеркегор, конечно,
не молчит (ему это и не нужно, поскольку, по собственному убеждению, он является
лишь одним из нас, а не «рыцарем веры»), но его речь, пусть даже целиком и полностью
искренняя, лишена непосредственности и доступности. Не обнаруживая себя, Кьеркегор,
хочет, чтобы его убеждения стали убеждениями читателя. Этой цели служат в том числе
юмор и ирония, так как увидеть юмористическую сторону происходящего может лишь
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
337
тот, кто в этом происходящем не участвует, иначе говоря, тот, кто сумел
дистанцироваться, взглянуть на все с иной точки зрения. Этому также служит
многократное варьирование хорошо известных сюжетов, которое вовлекает читателя
помимо его воли в мир бесконечных возможностей, в борхесовский «сад расходящихся
тропок», где роль наблюдателя просто не предусмотрена — всякий входящий становится
тотчас со-творцом или активным участником.
Универсальные философские пропозиции указывают только на общее и бессильны
выразить то, что отличает одного человека от другого, т. е. неуловимую субъективность
нашего существования, и, следовательно, спекулятивная философия заканчивается там,
где начинаются различия. Разоблачение спекулятивной философии не было для
Кьеркегора самоцелью: он продолжает верить в существование абсолютной и
единственной истины (т. е. того, что существует помимо языковой реальности), путь к
которой должна указать его собственная философия. Поскольку такая истина не может
заключаться во всеобщем, она должна быть обнаружена в человеческой субъективности.
Ис-
442
тина заключена в Боге, но она раскрывается только через человека как «единичного
индивида», через его личное (а значит субъективное) отношение к Богу, которое и
называется «верой».
Заключение: экзистенциализм Кьеркегора.
Заключение: экзистенциализм Кьеркегора. В заключение скажем несколько слов об
экзистенциализме Кьеркегора. Прежде всего, как уже было отмечено выше, Кьеркегор
коренным образом переосмысливает центральное понятие любой философии, понятие
истины. Если вся предшествующая философия полагала, что источником истины
является разум, то датский философ осмеливается поднять вопрос о «непогрешимости
человеческого разума» и заявить, что «истина есть субъективность». Его философия
начинается не с удивления, и не потому, что в человеке заложена страсть к познанию, а с
отчаянья (9: 429). Однако этого еще недостаточно, чтобы причислить Кьеркегора к
экзистенциальным мыслителям; для этого необходимо, чтобы его философия была так
или иначе сопряжена с понятием «существования». Схоластика, как известно, развивала в
различных направлениях идею Аристотеля о различении сущности и существования,
признавая сущность предшествующей существованию. Кьеркегор перевернул
соотношение этих двух категорий, и существование стало предшествовать сущности.
Предметом его философии становится «единичный индивид», или, как он его еще
называет, «существующий мыслитель», «существующий индивид», т. е.
неопредмеченная, избегающая всяких определений индивидуальность, в которой
мышление и осуществление, осознание и поступок оказываются слитыми воедино. Но не
только отношение сущности к существованию характеризует экзистенциальную
философию. В таком случае и Фихте, и Шеллинга можно было бы также назвать
экзистенциальными философами, так как истоком всего, началом бытия они считали
«чистую деятельность», становление, в отношении которого сущность может быть только
чем-то вторичным. Пауль Тиллих определяет экзистенциализм как «мышление, которое
сознает конечность и трагедию всякого человеческого существования» (2: 454). Значит,
другой важной чертой экзистенциального мышления является его трагичность.
Страдание, по Кьеркегору, есть неизбежное и должное в человеческом существовании:
только постигнув его суть и глубину, человек способен отыскать дорогу к спасению,
восстановить утраченную гармонию. Экзистенциальное мышление, далее, это такое
мышление, к определению которого следует отнести выход за собственные пределы.
Именно так, в терминах экзистенциальной философии ХХ в., можно истолковать
кьеркегоровское понимание существования. Не сила разума или, точнее, не
интеллектуальные усилия — ведь вера, согласно Кьеркегору, доступна независимо от
интеллектуальных достоинств человека, — а глубокие переживания выталкивают
человека на уровень подлинного или действительного существования, за пределы его
наличного бытия. Повторяя ранее высказанный тезис, Кьеркегор не отвергает мышления
и рефлексии как таковых, а лишь отказывает в существовании «чистой мысли», которая
своей абстрактностью подменяет естественную связь между мышлением и
существованием, соединенными воедино в человеческой экзистенции.
Литература
1. Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
338
2. Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Киев, 1994.
443
3. Кьеркегор С. Несчастнейший. М., 2002.
4. Кьеркегор С. Повторение: опыт экспериментальной психологии Константина
Констанция / Пер. с дат. П. Ганзена, сверенный с оригиналом, испр., доп. и
прокомментир. Д. Лунгиной. М., 1997.
5. Кьеркегор С. «Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»» /
Пер. с дат. Д. Лунгиной // Логос. 1997. № 10
6. Роде П. П. Серен Кьеркегор, сам свидетельствующий о себе и своей жизни.
Челябинск, 1998.
7. Доброхотов А. Л. Апология когито, или Проклятие Валаама. Критика Декарта в
«Ненаучном послесловии» Кьеркегора // Логос. № 10. 1997
8. Мир Кьеркегора: Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора.
М., 1994.
9. Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. М., 1992.
Глава 4. ГЕГЕЛЬЯНСТВО
Гегельянская философия проделала весьма сложную эволюцию в течение XIX — ХХ
вв. Мало кто из последователей Гегеля был полностью согласен с философом, и в
большинстве своем гегельянцы предпочитали самостоятельный путь мысли, вследствие
чего мы не можем ставить знак равенства между философией Гегеля и гегельянством.
Исключение составляет так называемая гегелевская школа, возникшая еще при жизни
философа, куда входили преимущественно его ученики и друзья, пытавшиеся создать
ортодоксальный образ гегелевской философии. Именно благодаря их усилиям вскоре
после смерти Гегеля было издано собрание его трудов, так называемое «издание друзей»
(1832— 1840), включавшее как работы опубликованные при жизни, так и записи его
лекционных курсов. Гегелевская философия предстала в виде завершенной и всеохватной
системы абсолютного идеализма. Стремление сохранить во всей полноте и
неприкосновенности наследие учителя и закрепить те позиции, которые гегелевская
философия занимала при жизни своего основателя, привело Габлера, Гешеля, Хинрикса,
Дауба, так называемых правых гегельянцев, к более консервативным позициям в области
религии и политики, чем было свойственно гегелевской мысли изначально. Это вызвало
ответную реакцию со стороны левых гегельянцев, или младогегельянцев, молодых
немецких мыслителей, стремившихся, наоборот, придать гегелевской философии
критический и даже революционный смысл (Штраус, Бауэр, Штирнер). С их точки
зрения, гегелевская философия позволяла критически мыслящему индивиду отстаивать
свободу личности в борьбе против угнетающих человека религии и государства. Близкие
к младогегельянцам позиции занимал Л. Фейербах (см. главу Фейербах). Деятельность
младогегельянцев вызвала раскол среди сторонников Гегеля и создала образ гегелевской
системы как внутренне противоречивого учения. Наиболее значительный критический
удар по гегелевской системе был нанесен учением Маркса (см. главу Марксизм),
обратившим диалектический метод против самого Гегеля, за что его иногда заслуженно
называют «лучшим гегельянцем». Это приводит к тому, что к середине XIX в.
гегелевская философия постепенно теряет свои позиции, уступая место шеллингианству
и кантианству. Тем не менее и в дальнейшем последователей гегелевской мысли мы
находим практически во всех ведущих «философских» странах Европы. Наряду с Кантом
Гегель становится одним из самых влиятельных немецких философов, а его учение
становится классикой философской мысли, вдохновившей немало философов на
создание собственных оригинальных концепций. Самым выдающимся сторонником
абсолютного идеализма в Великобритании можно считать Фрэнсиса Брэдли, в США
крупнейшим абсолютным идеалистом был Джо-
445
сайя Ройс, во Франции одним из самых оригинальных и влиятельных толкователей
Гегеля считается Александр Кожев. Учения этих мыслителей мы рассмотрим в данной
главе.
Фрэнсис Герберт Брэдли
Фрэнсис Герберт Брэдли родился в 1846 г. в пригороде Лондона в семье
евангелического священника. После окончания Оксфордского университета в 1870 г.
Брэдли стал научным сотрудником оксфордского колледжа Мертон. Известность
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.
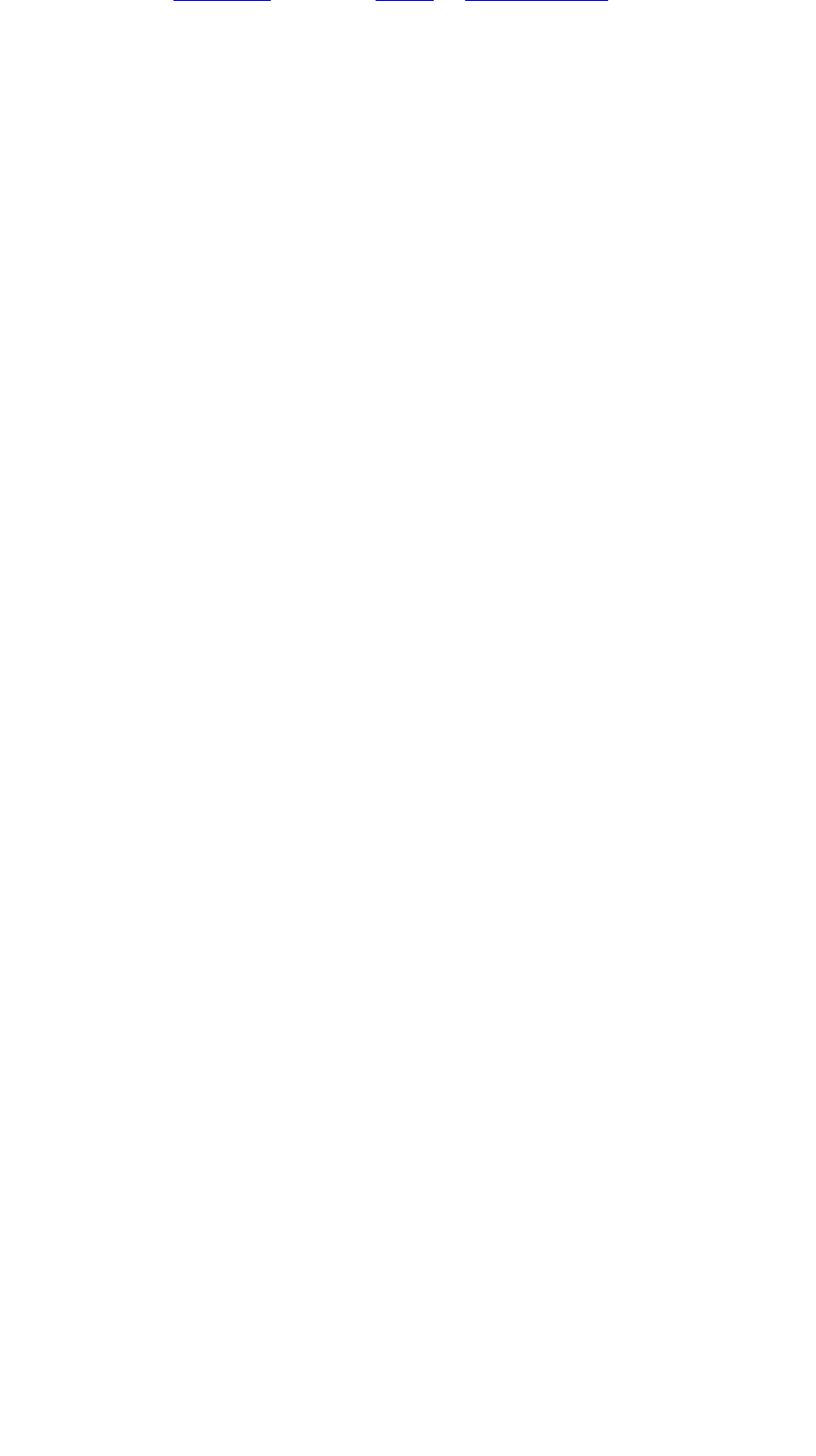
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
339
принесла ему первая крупная работа по этическим проблемам «Этические исследования»
(1876), где он изложил свои взгляды на мораль в полемике с другими этическими
позициями. В этой работе отчетливо просматривается влияние гегелевской мысли.
Философ отстаивает подход к морали с позиции социального целого в противовес
утилитаризму, индивидуализму и кантовскому формализму. Главным трудом Брэдли
является объемное сочинение под заглавием «Явление и реальность» (1893), где он
представил в развернутом виде позицию абсолютного идеализма. Умер Брэдли в 1924 г.
Метафизика, по Брэдли, это «попытка познать реальность в ее отличии от явления»,
это «исследование первых принципов или абсолютных истин», а также «стремление
постичь Вселенную в целом, а не фрагментарным и ограниченным образом» (7: 1).
Ограниченность нашего познания не может считаться абсолютным препятствием, а
только относительным, поскольку наше знание включает и знание об этой
ограниченности. Брэдли изначально отвергает позиции агностицизма и скептицизма в
философии, его убеждение в абсолютном характере человеческого познания ориентирует
его сразу же в направлении классического философского идеализма. Однако в отличие от
Гегеля главным средством постижения Абсолюта у Брэдли становится не логика, а
метафизика, базирующаяся на опыте. Логика — это всего лишь один из способов, на
котором строится наше познание, но логика не может претендовать на роль
окончательного и единственного критерия абсолютных истин. На эту роль, по мнению
Брэдли, в полном соответствии с британской эмпирической традицией в большей степени
подходит опыт. Однако этот опыт должен соответствовать, характеру абсолютной
реальности и быть полным, всеохватным, целостным опытом, соединяющим в своей
фундаментальности обыкновенное познание с познанием метафизическим.
Опыт — фундамент познания. Он в своей основе имеет непосредственное чувство,
присутствующее еще до разделения на субъект и объект, на вещи и качества. Только
такой опыт, объединяющий познание в целом, может поднять познание до той
абсолютной реальности, которая задает для Брэдли цель и единство всего нашего
познания. Таким образом, основами метафизики у него оказываются: с одной стороны,
представление о реальности самой по себе, носящей абсолютный характер, с другой
стороны, первенство в познании такого же абсолютного опыта. Сталкиваясь с
традиционной дилеммой идеализма и реализма, Брэдли делает однозначный выбор в
пользу идеализма. Реальность представляет собой нечто родственное идеям, сознанию,
духу, утверждается совершенно определенно тождество истинного знания и реальности.
Идеализм должен носить не только абсолютный, но и критический характер. Этот
критический характер собственной метафизики Брэдли основывает на фундаментальном,
с его точки зрения, разделении между явлением и реальностью.
Критериями, отвечающими, по мысли Брэдли, абсолютной реальности являются
непосредственность, всеохватность, цельность, непротиворечивость. «Аб-
446
солютная реальность такова, что она не противоречит себе» (7: 120). Это целое не
предполагает внутренних противоречий и внешних отношений. Для Абсолюта все
отношения являются внутренними и несущественными, а все противоречия заранее
снятыми. Им предпринимается критика основных философских категорий прежней
метафизики: субстанция, качество, отношение, вещь, пространство и время, движение и
изменение, активность и причинность, субъективность и объективность — все они
обнаруживают свою внутреннюю противоречивость и все должны быть отнесены к
уровню познания явления, но никак не абсолютной реальности. Концепция личности
также должна быть отнесена к уровню явления. Однако тем не менее Брэдли утверждает,
что «каждая душа существует на некоем уровне, где нет разделения на субъективное и
объективное, на Я и предмет в каком-либо смысле» (7: 89). Окончательный вывод Брэдли
таков: «Личность представляет собой, без сомнения, высшую форму опыта, которой мы
обладаем, но даже с учетом этого она не является истинной формой. Она не дает нам
факты так, как они есть в реальности, а то, как она дает нам факты, представляет собой
лишь явление и ошибочно» (7:119).
При всей подвижности границы между субъективным и объективным, внешним и
внутренним мы всегда имеем некоторый остаток, как выражается Брэдли. «Главное
заключается в нашей способности чувствовать различие между ощущаемой нами
собственной личностью и предметом» (7: 93). Это создает в нас «идею неустранимого
остатка», несводимого ни к субъекту, ни к объекту (7: 93). Таким образом, понятие
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
340
личности подводит Брэдли к той самой грани, которая отделяет в его собственной
концепции реальность и явление. Личность как то, что реально существует, как,
подчеркнем, и сама совокупность явлений в целом, так или иначе «принадлежит
реальности» (7: 104). Позиция Брэдли состоит в том, что реальность содержит в себе и
себя, и явление. «Явления существуют. Даже если мы объявляем некий факт явлением, у
него нет иной возможности существовать кроме как в реальности. А реальность, взятая
лишь с одной стороны или в отрыве от явления, обратилась бы в ничто» (7: 132).
Второй принципиальной составляющей концепции Брэдли становится опыт. Отказ от
чисто рационалистических рассуждений и предпочтение опытного познания
обнаруживает в Брэдли представителя британской философской традиции. Опыт Брэдли
понимает в первую очередь через соотношение с Абсолютом. Опыт есть то, что
соединяет в себе познание и реальность и образует то пространство, где разрешаются
противоречия конечного существования и познания явлений. «Бытие и реальность
находятся в неразрывном единстве с чувствительностью» (7; 146). «Сам Абсолют есть
единая система и ... его содержание представляет собой не что иное, как чувственный
опыт. Это единый и всеохватный опыт, который содержит в согласии все обособленные
части» (7: 146 — 7). При такой трактовке опыта Брэдли вынужден характеризовать его
как прежде всего «интуитивный опыт» (7: 278), где сливаются воедино идеи и факты.
Брэдли настаивает, что «опыт заранее находится в обоих мирах и в единстве с
реальностью» (7: 525), однако это не позволяет ему преодолеть собственное
фундаментальное разделение между Абсолютом и явлением и заставляет, отворачиваясь
от Абсолюта, более подробно обращаться к противоречиям процесса познания, с тем
чтобы сблизить процесс познания с абсолютной реальностью.
Прибегая к классической формуле эмпиризма, Брэдли подчеркивает, что «нет ничего в
мысли, будь то материя или отношения, помимо тех, которые
447
проистекают из восприятия» (7: 380). Представление о существовании без мышления
так же односторонне, как и мышление, оторванное от реальности. Однако любые факты,
касающиеся физического и психического миров, являются нам исключительно «в форме
мыслей» (7: 383). «Вне нашего конечного опыта не существует ни естественного мира
природы, ни вообще какого-либо иного мира» (7: 379). Поэтому в качестве критерия
истины Брэдли избирает не соответствие реальности вне познания, а реальность самого
познания, которую он определяет как «годность» (validity). «Любая истина, которая не
может продемонстрировать, как она работает, является по большей части неистинной» (7:
400).
Вместе с тем Брэдли-метафизик подчеркивает, что этот критерий годности не
ограничивается простым представлением познания как набора «работающих средств
познания» безотносительно их связи с реальностью самой по себе. Каждый шаг нашего
познания заключает в себе нечто от «характера абсолютной реальности» (7: 362). Мысль
должна не только опираться на опытный материал реальности, но и преодолевать его,
преодолевая тем самым и себя, и свою собственную ограниченность. Таким образом,
позитивный критерий науки (годность) дополняется у Брэдли еще и метафизическим
критерием, ориентирующим познание на проникновение вглубь реальности. Таким
образом, процесс познания представлен Брэдли как компромисс между эмпирическим,
конкретно-научным познанием и познанием метафизическим. Метафизика Абсолюта
призвана соединять в единое целое процесс познания и ориентировать его на все более
глубокое проникновение в абсолютную реальность.
Джосайя Ройс родился в 1855 г. в городе Грасс-Вэлли в Калифорнии.
Джосайя Ройс родился в 1855 г. в городе Грасс-Вэлли в Калифорнии. С 1871 по 1875
г. он учился в Калифорнийском университете в Беркли, затем в течение года учился в
Германии, слушал лекции Виндельбанда и Лотце. По возвращении в Америку Ройс
получил в 1878 г. степень доктора философии. С 1882 г. и до самой смерти в 1914 г. Ройс
работал на философском факультете Гарвардского университета.
Ройс в течение всей жизни был решительным сторонником идеализма, основными
ориентирами для философии он признавал Платона, Аристотеля, Канта и Гегеля. При
этом он остро чувствовал необходимость модернизации философского идеализма с
учетом новейших перемен в мировоззрении и науке западной цивилизации, изменений в
области морального и религиозного сознания, образа жизни современных ему людей.
Ройс считает, что в современных условиях идеализму необходимо придать новую
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. —
М.: Академический Проект: 2005. — 680 с.
