Варлен М.В. Гражданство: Россия и СНГ
Подождите немного. Документ загружается.


7. Правовые основы института гражданства в странах СНГ с 1990 по 2009<г.
Независимо от судьбы бывшего СССР населяющие его территорию народы
связывает не только общее прошлое, но и в какой-то мере будущее. Принципы,
положенные в основу деятельности Содружества Независимых Государств, -
экономическое, военное, политическое и культурное сотрудничество, взаимопомощь
и поддержка - предполагают наличие и развитие разнообразных связей не только
между государствами, но и между народами и отдельными гражданами,
проживающими в так называемом постсоветском пространстве.
К сожалению, из этих связей, видимо, надолго исключены народы
Прибалтийских республик, но в отношении граждан государств - членов
Содружества эти связи имеют практическую основу. Речь идет о безвизовом въезде
в государства СНГ, создании таможенного союза, рублевой зоны и т.д. Развиваются
двусторонние и многосторонние связи между отдельными государствами - членами
Содружества. Все это не может не оказывать воздействия на положение отдельных
граждан, проживающих за пределами своих государств или периодически с
различными целями посещающих государства ближнего зарубежья.
В связи с этим представляется целесообразным идти по пути сближения или
по крайней мере координации законодательства государств СНГ в различных
сферах, в том числе в области конституционного права. Исходя из предмета
настоящего исследования речь прежде всего идет о законодательстве о
гражданстве.
В этом процессе можно выделить обстоятельства, как способствующие, так и
препятствующие такого рода деятельности. С одной стороны, общее историческое
прошлое обеспечивает как бы равные "стартовые" возможности для всех государств
Содружества в законотворчестве рассматриваемой области.
С другой - во всех государствах СНГ наблюдается отказ от советского
прошлого, тех актов, которые действовали в данной сфере правоотношений. К тому
же конституционно-правовые институты, как никакие другие, атрибутивно связаны с
таким качеством государства, как государственный суверенитет. Поэтому
воздействие на данную сферу отношений требует максимальной осторожности и
максимального учета особенностей национальных интересов государств СНГ.
Последнее обстоятельство не могло не сказаться на содержании и способах
воздействия органов Содружества на правовое регулирование рассматриваемых
отношений. Как известно, одним из координационных органов Содружества является
Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ. Основным результатом
ее деятельности является издание рекомендательных законодательных актов.
Характерно, что в зависимости от сферы правового регулирования эти
рекомендательные акты имеют не только различное содержание, но и различные
концептуальные подходы.
Так, в основу рекомендательных уголовного, гражданского кодексов и
некоторых других актов МПА практически полностью положены соответствующие
нормативно-правовые акты Российской Федерации. А работа над соответствующими
актами, образующими содержание политико-правовых институтов, происходит по
более сложной схеме*(205).
Сначала делегации национальных парламентов утверждают согласованные
принципы, которые могут быть положены в основу того или иного
рекомендательного акта, а затем, после их одобрения самими парламентами,
разрабатывается уже более подробный и объемный акт. По такой схеме пошли
разработчики проекта Рекомендательного Кодекса о местном самоуправлении.
Прежде чем перейти к работе над его содержанием, было принято постановление
91
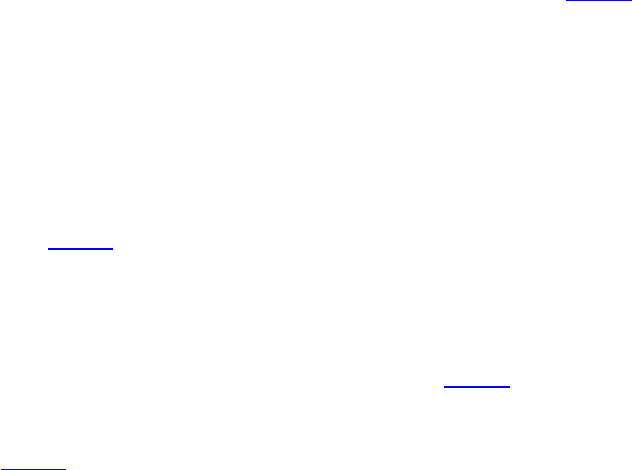
МПА от 29 октября 1994 г., которым была утверждена Декларация о принципах
местного самоуправления в государствах - участниках СНГ*(206).
В настоящий момент в стадии согласования делегациями находится сам
проект Рекомендательного Кодекса о местном самоуправлении. К слову, автор
полагает, что такой подход может быть распространен и на иные частноправовые
сферы нормативно-правового регулирования.
Думается, что по такому же пути должна осуществляться работа над
Рекомендательным законом о гражданстве государств СНГ. Причем первый шаг на
этом пути уже сделан: 29 октября 1992 г. МПА был одобрен Рекомендательный
законодательный акт "О согласованных принципах регулирования
гражданства"*(207).
Однако прежде чем перейти к анализу содержания данного акта,
представляется необходимым сказать несколько слов о природе подобных актов.
Несмотря на то что рекомендательные акты издаются в соответствии с Регламентом
Межпарламентской Ассамблеи и их перечень определен Основными направлениями
сближения национальных законодательств*(208), добрая половина всех
подписанных в рамках СНГ документов (не только рекомендательных, но и актов,
имеющих большую юридическую силу), как справедливо отмечает Е.Г. Моисеев, не
работает*(209). Причина такого положения очевидна - это отсутствие механизмов
инкорпорирования положений рекомендательных актов в национальное
законодательство государств СНГ. Вариантов решения данной проблемы может
быть по меньшей мере два. Первый - закрепление соответствующих норм в
Регламенте МПА и Уставе СНГ. Это наиболее радикальный и наименее приемлемый
в современных условиях путь. Дело в том, что реализация данного подхода на
практике будет означать изменение правовой природы Содружества, его
постепенное превращение в конфедерацию подобно Союзу Беларуси и России, а в
перспективе - в федерацию, к чему вряд ли готово большинство государств СНГ.
Второй путь - это создание соответствующих норм в национальном
законодательстве государств СНГ. Но для успешного движения по этому пути
необходимо прежде всего издание соответствующего рекомендательного акта той
же МПА. А его дальнейшая судьба на современном этапе очевидна.
Возможен, правда, путь "снизу", когда каждое государство - член Содружества
по собственной инициативе признает обязательность для себя рекомендательных
актов МПА, по крайней мере одобренных с участием делегации его парламента.
Очевидно, что такой путь теоретически возможен, но должно быть государство, с
которого может быть начат этот процесс. Наиболее удачным примером проявления
такой доброй воли могли бы стать действия Российской Федерации в этом
направлении. Потребуется внесение изменений в деятельность Федерального
Собрания, т.е. изменения Конституции РФ. Как известно, порядок внесения поправок
в действующую Конституцию РФ отличается повышенной сложностью, что делает
решение этой задачи даже теоретически малореальной.
Следовательно, чтобы создать рекомендательный акт, который будет
положительно воспринят всеми государствами СНГ и добровольно инкорпорирован
ими в национальное законодательство, его содержание либо должно быть
идеальным, либо давать ощутимые преимущества всем участникам Содружества. С
этих позиций и должен быть, по мнению автора, рассмотрен Рекомендательный
законодательный акт "О согласованных принципах регулирования гражданства".
Итак, он открывается ст. 1, которая в лучших традициях современной
законодательной техники раскрывает содержание понятия гражданства. В основном
оно мало чем отличается от того определения, которое дано в действующем Законе
Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации", за исключением
одного обстоятельства. Закон России исходит из концепции гражданства как
92
устойчивой правовой связи физического лица с государством, а Рекомендательный
акт определяет эту связь как политико-правовую. Данный подход неизбежно
потребует внесения соответствующих изменений в российский закон, а также законы
некоторых других государств СНГ. Однако не секрет, что формула "политико-
правовая связь" была характерна для законов о гражданстве советского типа и
зачастую воспринимается депутатами, а также отдельными исследователями как
непосредственно связанная с данным политическим режимом. При таком подходе
может встать вопрос не просто о редакционном уточнении нормы закона, а о
концептуальной его переработке, что не может не вызвать дополнительных
сложностей.
Многие другие положения Рекомендательного акта устанавливают общие
принципы гражданства: всеобщее право на гражданство, запрет лишения
гражданства (ст. 2), запрет дискриминации в вопросах гражданства (ст. 3), принципы
равного гражданства (ст. 5), сохранения гражданства за лицами, проживающими за
границей (ст. 12), и при заключении или расторжении ими брака (ст. 11), приоритет
правил международного договора над национальным законодательством (ст. 15),
судебный порядок обжалования нарушений в вопросах гражданства и др., не
вызывают возражений и в целом соответствуют общепризнанным принципам и
нормам международного права, действующим в этой сфере.
Очевидно, что основой для данного акта послужил действующий Закон
Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации". Однако в ряде
положений Рекомендательный акт пошел даже дальше российского Закона. Так,
ст. 7 содержит прямое указание в виде императивной нормы, устанавливающей
правило: дети, рожденные на территории одного из государств - участников
Содружества, не должны становиться лицами без гражданства. Остается неясным,
какое из государств в этом случае должно нести ответственность за нарушение
данного правила: то, на территории которого родился ребенок, или то, где он
фактически находится. Для беженцев эта проблема представляется актуальной. Тем
более что если виновной стороной оказывается государство, из которого они
бежали, то они оказываются лишены практической возможности это сделать.
Рекомендательный акт (ст. 6) содержит указание на необходимость учета
постоянного проживания на данной территории лица, в отношении которого
решается вопрос о приобретении гражданства. Но, очевидно, эта норма может
толковаться как в пользу заинтересованного лица, так и наоборот - в сторону
установления длительных сроков постоянного проживания как необходимого
условия приобретения гражданства. Тогда данная норма может рассматриваться как
элемент механизма натурализации, отрицаемый данным актом. Видимо, было бы
целесообразно установить предельный срок постоянного проживания, необходимый
для приобретения гражданства конкретной страны.
В то же время в Рекомендательном акте отсутствуют отдельные принципы,
которые было бы целесообразно в нем закрепить. Так, в российском Законе, как
известно, закреплен принцип единого гражданства. На первый взгляд это
традиционная норма, характерная для особой, исторически сложившейся природы
Российского федеративного государства, имеющего в своем составе республики-
государства, с собственным республиканским гражданством. Однако Конституция
унитарного государства - Республики Узбекистан - устанавливает этот принцип в
отношении граждан данной республики, проживающих на территории Республики
Каракалпакстан, и наоборот. Конституция Республики Крым от 6 мая 1992 г. также
устанавливала собственное гражданство для жителей данной республики, входящей
в состав Украины. Тот факт, что данная конституция утратила силу, вовсе не
означает, что эта проблема не возникнет вновь в Крыму, Нагорно-Карабахской
автономной области или любом другом регионе какого-либо государства
93

Содружества. Думается, что такую перспективу полностью исключать нельзя, и
Рекомендательный акт мог бы в силу своей правовой природы установить
соответствующие положения, позволяющие единообразно решать эту проблему во
всех государствах СНГ, в которых она может возникнуть.
Следующий принцип, нуждающийся в закреплении в рассматриваемом акте, -
принцип двойного гражданства. Автор сознает, что это предложение не может быть
однозначно воспринято не только государствами Содружества, но и многими
развитыми государствами Европы и Америки. Как известно, лишь незначительное
количество государств мира предоставляет право на второе гражданство своим
гражданам. Характерно, что семь из них входят Содружество: Азербайджанская
Республика, Республики Казахстан и Молдова, Российская Федерация, Украина и
Республика Туркменистан*(210).
Правда, только Закон о гражданстве Туркменистана (ст. 9) не устанавливает
каких-либо условий для реализации гражданином этого права. Все остальные
исходят из наличия либо международного договора (Казахстан - ст. 3, Украина - ст. 1
и 10), либо разрешения президента страны (ст. 9 Закона о гражданстве
Азербайджанской Республики).
Закон Республики Беларусь фактически устанавливает первое правило, но в
"обратной форме": гражданин утрачивает гражданство вследствие приобретения
другого гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
(ст. 20). Все остальные государства Содружества (законы Армении - ст. 1, Грузии -
ст. 1, Киргизии - ст. 5, Узбекистана - ст. 10) прямо устанавливают запрет двойного
гражданства для своих граждан.
Рассматривая эту проблему, нельзя не согласиться с А.В. Мицкевичем, что
запрещение двойного гражданства может создавать трудности, особенно в условиях
распада единого государства. Речь идет о проблеме ограничения собственности на
землю, на занятие предпринимательской деятельностью, участие в политической
жизни страны и др.
Думается, что принцип двойного гражданства мог бы получить закрепление в
рассматриваемом акте в такой формуле: "Национальным законодательством
государства - члена Содружества Независимых Государств может быть установлено
право граждан иметь одновременно гражданство другого государства,
приобретаемое в порядке и на условиях, установленных законом соответствующего
государства". Такая формулировка, с одной стороны, не будет иметь обязывающего
характера для национального парламента. А с другой - даст юридические основания
соответствующим правозащитным движениям и отдельным гражданам добиваться
от депутатов решения данного вопроса в законодательной форме.
Видимо, было бы целесообразно заимствовать и еще одну норму из общих
положений российского Закона о гражданстве - о документах, подтверждающих
национальное гражданство. Разумеется, есть сложившаяся международная
практика по этому вопросу, тем не менее, учитывая безвизовый порядок
пересечения границ, признаваемый большинством государств СНГ, было бы
нелишне установить общие правила паспортного режима в масштабах Содружества.
Таким образом, по мнению автора, содержание общих принципов
регулирования гражданства в государствах Содружества в целом соответствует
общепризнанным принципам и нормам международного права, нуждается в
существенном дополнении и уточнении по перечисленным выше позициям.
Следует отметить один любопытный факт. Как известно, Рекомендательный
акт был одобрен МПА 29 декабря 1992 г., т.е. до принятия большинством государств
Содружества собственных законов о гражданстве. При этом очевидно, что
установленные тем или иным нормативно-правовым актом принципы должны
получить реализацию в текущем законодательстве соответствующей страны. Тем не
94
менее если взять институт приобретения гражданства, то оказывается, что
признание гражданства предусмотрено лишь в законах Российской Федерации и
Армении; восстановление в гражданстве - в Армении, Молдове, Российской
Федерации, Украине; оптация - в Молдове и Российской Федерации.
Только два основания приобретения гражданства - по рождению и в порядке
приема - предусмотрены законами всех государств СНГ. Это свидетельствует о том,
что большинством государств СНГ не восприняты и, соответственно, не
реализованы действующим законодательством те демократические принципы,
которые установлены Рекомендательным актом. Более того, законами Молдовы и
Азербайджана предусмотрены нормы о лишении гражданства этих государств, а в
Законе о гражданстве Таджикистана имеется внутреннее противоречие в данном
вопросе.
Следовательно, можно заключить, что Рекомендательный акт в том виде, в
котором он был одобрен МПА, не оказал существенного воздействия на
национальное законодательство о гражданстве государств - участников СНГ.
С одной стороны, это можно рассматривать как следствие несовершенства
общих механизмов нормативно-правового регулирования отдельного закона
парламентами государств Содружества.
Подводя итог сказанному, можно заключить:
1. Действующий Рекомендательный законодательный акт "О согласованных
принципах регулирования гражданства" по своему содержанию в целом
соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права.
Однако в части, касающейся принципов двойного гражданства, единого гражданства,
документов, удостоверяющих принадлежность к гражданству, и ряда
процессуальных положений, он все же нуждается в совершенствовании и
дополнении.
2. Практика реализации положений Рекомендательного акта показывает
несовершенство правовой природы и механизма действия подобного рода актов,
характерных для большинства актов Содружества, в особенности актов,
принимаемых Межпарламентской Ассамблеей.
3. Назрела необходимость разработки более подробного модельного закона о
гражданстве государств СНГ, отражающего те демократические положения и
практический опыт, накопленный прежде всего Российской Федерацией. Однако по
перечисленным выше причинам возникают немалые сложности с практической
реализацией этого предложения.
Представляется необходимым перейти к анализу национального
законодательства о гражданстве государств - участников СНГ.
В соответствии со ст. 15 Всеобщей декларации прав человека и ст. 16, 24
Международного пакта о гражданских и политических правах большинство
государств - участников Содружества закрепляют в конституциях право на
гражданство и его гарантии. Закрепляется также положение о том, что порядок
приобретения и прекращения гражданства определяется законом. В Республике
Таджикистан вопросы гражданства Конституция относит к ведению конституционного
закона, а Конституция Республики Молдова - к ведению органического закона.
Основополагающие для каждого суверенного государства принципы
гражданства заложены в его конституции.
В соответствии со ст. 25 Всеобщей декларации прав человека и Конвенцией о
сокращении безгражданства одним из важнейших принципов является обязанность
каждого государства принимать меры для сокращения числа апатридов на его
территории.
Для построения суверенного и демократического государства имеют значение
принципы признания и уважения достоинства, основных прав и свобод человека,
95

равноправия в юридических отношениях. К ним относятся право каждого человека
на гражданство и невозможность его принудительного изъятия или изменения. Этот
принцип заложен в Конституциях Азербайджанской Республики*(211) (ст. 60, 61),
Республики Беларусь (ст. 10), Грузии (ст. 13), Республики Казахстан (ст. 10),
Кыргызской Республики (ст. 13), Республики Молдова (ст. 17), Туркменистана (ст. 7),
Украины (ст. 25).
Например, ст. 61 Конституции Азербайджана гласит:
"Гражданин Азербайджанской Республики ни при каких обстоятельствах не
может быть лишен гражданства Азербайджанской Республики.
Гражданин Азербайджанской Республики ни при каких обстоятельствах не
может быть изгнан из Азербайджанской Республики или выдан иностранному
государству. У гражданина Азербайджанской Республики, находящегося за
границей, есть право в любое время возвратиться в Азербайджанскую Республику".
Статья 25 Конституции Украины закрепляет: "Гражданин Украины не может
быть лишен гражданства и права переменить гражданство.
Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан
другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам,
находящимся за ее пределами".
Так, конституции всех государств в той или иной форме регулируют эти
отношения.
Конституция Кыргызской Республики закрепляет, что принадлежность
человека к республике и его статус определяются гражданством.
Гражданином Таджикистана считается лицо, которое на день принятия
Конституции является гражданином Республики Таджикистан.
Во многих странах - членах СНГ в основу этих отношений положены принципы
единства и равенства гражданства; сохранения гражданства за лицами,
проживающими вне пределов государства; защита и покровительство гражданам в
стране и за ее пределами.
Термин "физическое лицо" нуждается в расшифровке, так как во многих
законах СНГ данный термин употребляется, но нигде в отличие от термина
"юридическое лицо" не раскрывается законодателями.
Республика Казахстан определяет гражданство как устойчивую политико-
правовую связь лица с государством, выражающую совокупность их взаимных прав
и обязанностей.
Республика Украина определяет гражданство как постоянную правовую связь
лица и Украинского государства, находящую свое отражение в их взаимных правах и
обязанностях.
Гражданство Республики Беларусь - неотъемлемый атрибут государственного
суверенитета Республики Беларусь, определяющий принадлежность лица к
государству, обусловливающий совокупность его прав и обязанностей и их защиту
со стороны Республики Беларусь.
Гражданство Республики Молдова определяется как постоянные политико-
правовые отношения между физическим лицом и государством Республикой
Молдова, выражающиеся в их взаимных правах и обязанностях.
Гражданство Грузии означает политико-правовой союз лица с Грузинским
государством, который выражается в единстве взаимных прав и обязанностей,
основывается на уважении достоинства человека, признании его прав и свобод.
Одной из проблем не только государств - участников СНГ, но и других членов
мирового сообщества является двойное гражданство.
Вопросы двойного гражданства, по мнению автора, предпочтительнее решать
на двусторонней или многосторонней договорной основе. Попытка решения этого
вопроса в одностороннем порядке в законодательстве отдельно взятого государства
96
способна привести к коллизиям законодательств и, как следствие, конфликтам
между государствами. Дальнейшее развитие эти нормы конституций получают в
законах о гражданстве.
На сегодняшний день законы о гражданстве действуют во всех государствах
СНГ: Закон Азербайджанской Республики от 6 октября 1993 г., 30 сентября 1998 г.
"О гражданстве Азербайджанской Республики"; Закон Республики Армения от 18
ноября 1995 г. "О гражданстве Республики Армения"; Закон Республики Беларусь от
18 октября 1991 г., с изменениями и дополнениями от 15 июня 1993 г., 8 сентября
1995 г., 3 марта 1997 г. "О гражданстве Республики Беларусь"; Закон Республики
Грузия от 25 марта 1993 г., с изменениями и дополнениями от 24 июня 1993 г. "О
гражданстве Грузии"; Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 г. "О
гражданстве Республики Казахстан"; Закон Кыргызской Республики от 18 декабря
1993 г. "О гражданстве Кыргызской Республики"; Закон Республики Молдова от 5
июня 1991 г. с изменениями и дополнениями от 8 октября 1996 г. "О гражданстве
Республики Молдова" (2 июня 2000 г. принята новая редакция Закона, которая была
уточнена и дополнена 5 июня 2003 г.); Конституционный закон Республики
Таджикистан от 4 ноября 1995 г. "О гражданстве Республики Таджикистан"; Закон
Туркменистана от 30 сентября 1992 г. "О гражданстве Туркменистана"; Закон
Республики Узбекистан от 2 июля 1992 г. "О гражданстве Республики Узбекистан";
Закон Украины от 8 октября 1991 г. с изменениями и дополнениями от 14 июля и 14
октября 1994 г., 16 апреля 1997 г., 23 марта 2000 г. "О гражданстве Украины" (26
февраля 2001 г. принята новая редакция закона, поправки в закон приняты 9 июля
2005 г.).
Законы о гражданстве содержат различные определения самого понятия
гражданства, закрепляя его как:
- политико-правовую связь (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан,
Молдова);
- политическую и правовую связь, а также взаимные права и обязанности
(Азербайджан);
- правовую связь (Российская Федерация, Таджикистан, Украина);
- принадлежность лица к государству (Беларусь, Туркменистан);
- политико-правовой союз лица с государством (Грузия).
Общим для всех законов является выражение совокупности взаимных прав и
обязанностей граждан.
Обращение к международной практике позволяет выделить три
разновидности договоров, касающихся вопросов двойного гражданства.
Первая - договоры, направленные на урегулирование вопросов двойного
гражданства. К ним относится Соглашение между Российской Федерацией и
Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное
23 декабря 1993 г.
Вторую разновидность составляют договоры, направленные на ликвидацию
двойного гражданства. Примером служат договоры, заключенные СССР после
Второй мировой войны со вновь образованными социалистическими государствами.
К третьей группе относятся соглашения, которые само двойное гражданство
не отменяют, однако направлены на устранение последствий двойного гражданства.
Анализ международной практики позволяет выделить три основных подхода к
разрешению вопросов двойного гражданства: признание двойного гражданства;
запрещение двойного гражданства; допущение двойного гражданства.
Страны - участницы СНГ, обращаясь к вопросу двойного гражданства,
выразили свое отношение к нему через нормы, закрепленные в законах. Так Законы
о гражданстве России, Казахстана, Молдовы, Украины и Беларуси признают двойное
гражданство за гражданами своего государства, если оно предусмотрено
97

международным договором, а в Азербайджане - президентом страны.
Для приобретения второго гражданства гражданином Украины необходимо
направить ходатайство в компетентные органы, получить от них разрешение и
вступить в гражданство той страны, с которой Украиной подписан договор о двойном
гражданстве. Не допускают для граждан своего государства двойное гражданство
Грузия, Киргизия и Узбекистан. Закон о гражданстве Туркменистана
предусматривает возможность двойного гражданства, не ставя каких-либо условий.
Возникновение института двойного гражданства или воссоздание единого
гражданства - процесс будущего. Независимо от политической ситуации люди хотят
свободно перемещаться из одной страны в другую и пользоваться основными
правами и свободами человека. Реальность подтолкнула к необходимости
максимального сближения национальных законодательств. Следовательно, нужно
создать соответствующую законодательную базу для этого, отвечающую
международным нормам и принципам.
Однако двойное гражданство порождает целый ряд практических проблем.
Двойное гражданство ставит под сомнение прочность и неоспоримость той
устойчивой правовой связи, которая существует между гражданином и
государством. А также множество других проблем правового, морального и
экономического характера.
Конечно, можно по-разному подходить и относиться к проблеме двойного
гражданства. В каждом конкретном случае и с каждым государством вопрос должен
решаться отдельно. Законодательство Туркменистана, Таджикистана, России
допускает двойное гражданство. Это означает, что для человека, имеющего двойное
гражданство, наступают определенные правовые последствия. Каковы эти
последствия - определяется договором, заключенным между соответствующими
государствами.
В декабре 1993 г. Туркменистан и Россия заключили Соглашение об
урегулировании вопросов двойного гражданства*(212).
Соглашение направлено на уважение и защиту прав человека, оно
предоставляет им большую свободу в выборе гражданства.
В соответствии с Соглашением каждая из сторон признает за своими
гражданами право приобрести, не утрачивая ее гражданства, гражданство другой
стороны. Дети, каждый из родителей которых состоял на момент рождения ребенка
в гражданстве обеих сторон, приобретают с момента рождения гражданство обоих
государств. До достижения ими 18-летнего возраста родители могут выбрать им
гражданство одного из государств путем отказа от гражданства другого государства
в форме письменного заявления.
Лицо, состоящее в гражданстве обоих государств, в полном объеме
пользуется правами и свободами, а также несет обязанности гражданина того
государства, на территории которого оно постоянно проживает. Это означает, что
нельзя одновременно и в полной мере активно пользоваться правами обоих
гражданств. Вытекающие из гражданства права и обязанности можно реализовать
только там, где человек проживает в данный момент.
Социальное обеспечение лиц с двойным гражданством производится в
соответствии с законодательством страны, на территории которой они постоянно
проживают, или соответствующими соглашениями сторон.
Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, проходят обязательную
военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на
момент призыва. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон и прошедшие
обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на
военную службу в другом государстве.
Здесь возникает вопрос о том, зачем человеку двойное гражданство, если он
98

не может полноценно осуществить свои политические права. Например, лицо,
обладающее двойным гражданством, может реализовать свое право избирать и тем
самым влиять на события, происходящие в стране его гражданства, только в том
государстве, на территории которого оно постоянно проживает. Почему российские
граждане, находясь за рубежом, могут изъявить свою волю, обратившись в
посольство Российской Федерации, а лицо с двойным гражданством нет?
Следовательно, лица, обладающие статусом двойного гражданства,
пользуются всеми правами, и на них распространяется законодательство страны
пребывания, если они там проживают на постоянной основе.
Идентичны положения Договора об урегулировании вопросов двойного
гражданства между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 7
сентября 1995 г.*(213)
Как говорилось выше, для решения проблем, возникших после распада СССР,
нужно выбрать путь детальной разработки и законодательного закрепления
института двойного гражданства или кодификации законодательства СНГ о
гражданстве и выработки модельного закона о гражданстве. Последний, видимо,
наиболее реален и практичен. Тем более что первый шаг уже сделан:
Межпарламентской Ассамблеей принят рекомендательный законодательный акт "О
согласованных принципах регулирования гражданства".
По инициативе России готовятся многосторонние соглашения по
формированию единого правового пространства СНГ*(214).
Несмотря на известное разнообразие в национальном законодательном
регулировании отношений гражданства, наблюдается тенденция сближения
содержания законодательства о гражданстве различных государств.
Развитие процесса интеграции в постсоветском пространстве в рамках СНГ
диктует необходимость соответствующей корректировки политики входящих в
Содружество государств по проблеме гражданства и соответствующих прав
человека.
Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ выработала
принципы регулирования отношений гражданства, признала их нормативное
значение и подчеркнула, что они служат целям повышения уровня защиты прав
человека в СНГ, сокращения случаев безгражданства, облегчения контактов между
людьми, установления и поддержания дружественных и добрососедских отношений
со всеми государствами, которые готовы рассматривать их как основу своего
внутреннего законодательства о гражданстве.
Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ в акте "О
согласованных принципах регулирования гражданства" рекомендовано использовать
сформулированные в названном акте принципы регулирования гражданства в
национальном законодательстве государств-участников, а также при заключении
двусторонних и многосторонних договоров.
Таким образом, принципы гражданства все более находят свое закрепление в
международно-правовых актах и конституциях государств, что свидетельствует о
значимости и актуальности этих отношений лиц с государством, а также нередко
рассматриваются в качестве основ конституционного строя в демократическом
правовом государстве.
Признание института двойного гражданства при условии заключения Россией
международного договора скорее было рассчитано на перспективу, с учетом
интеграционных процессов между государствами, входящими в СНГ. Распад СССР и
образование независимых государств, СНГ в определенной степени сделали еще
более актуальным и привлекательным институт двойного гражданства в
благоприятных для этого условиях, в целях решения острых проблем защиты прав и
свобод сотен тысяч людей - соотечественников, оказавшихся не по своей воле в
99

различных государствах.
К институту двойного гражданства настороженно и даже резко отрицательно
относится общественность ряда государств, входящих в СНГ. Видимо, этим
обстоятельством объясняется то, что положение о признании двойного гражданства
не получило закрепления в акте Межпарламентской Ассамблеи государств -
участников СНГ от 29 декабря 1992 г. "О согласованных принципах регулирования
гражданства"*(215). За ограничение применения института двойного гражданства
либо за полный отказ от него выступают и отечественные авторы (С.А. Авакьян,
А.И. Ковлер, О.Е. Кутафин, Н.А. Ушаков и др.).
Как справедливо указывает А.В. Мицкевич, признание двойного гражданства
(хотя бы и под определенными условиями) выглядит более демократично, чем
полный отказ от него*(216).
В некоторых странах СНГ двойное гражданство допускается в порядке
исключения, как правило, по специальному разрешению главы государства
(Азербайджан, Молдова). Во многих государствах - участниках СНГ двойное
гражданство допускается на основе международного договора (Белоруссия,
Казахстан, Молдова, Россия, Украина). Страны Балтии (бывшие советские
республики) не признают двойное гражданство.
Независимый Туркменистан признал двойное гражданство. И уже 23 декабря
1993 г. между Российской Федерацией и Туркменистаном было подписано
Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое прекратило
свое действие согласно предписанному двустороннему Протоколу о прекращении
действия указанного Соглашения от 10 апреля 2003 г.
В настоящее время действует Договор между Российской Федерацией и
Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Российская Федерация также подписала соответствующие соглашения с Арменией,
Казахстаном, но они, однако, до сих пор не ратифицированы.
Указанные Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства
обязывают стороны учитывать наличие у своих граждан также гражданства другой
стороны и, в частности, не требовать от них выполнения определенных гражданских
обязанностей, если эти обязанности были выполнены по отношению к другой
стороне. Достаточно конкретно урегулирован вопрос о прохождении военной службы
лицами с двойным гражданством: лица, состоящие в гражданстве обеих стран,
проходят обязательную военную службу в той стране, на территории которой они
проживают. Если они прошли обязательную военную службу в одной из них, они
освобождаются от призыва в другой.
В соглашениях о двойном гражданстве говорится, что лица, состоящие в
гражданстве обеих сторон, пользуются защитой и покровительством каждой из
сторон. Вряд ли это положение можно считать достаточно четким. Поэтому здесь
необходима большая конкретизация. Следовало бы указать, что в таких случаях
соответствующая сторона обязана предоставлять стороне, оказывающей защиту,
необходимую информацию и помощь. Договоры о двойном гражданстве должны
быть более детальными, иначе их эффект в плане защиты соответствующих лиц
будет минимальным*(217).
Таким образом, законы о гражданстве определяют содержание и основные
принципы этого правового института в соответствии с большинством
общепризнанных принципов и норм международного права. Анализ перечисленных
законов показывает значительное их сходство в этой части, объясняющееся, по
мнению автора, политической и исторической близостью государств - участников
Содружества Независимых Государств, а также влиянием рекомендательных актов
СНГ на национальное законодательство государств-участников.
100
