Рорти P. Философия и зеркало природы
Подождите немного. Документ загружается.


Карнап и другие логические позитивисты Венского Кружка придали
термину „метафизика" уничижительный смысл бессмысленности; и на
очереди был термин „эпистемология". Виттгенштейн и его
последователи, главным образом в Оксфорде, обнаружили, что все, что
осталось от философии, заключается в терапии: в избавлении философов
от заблуждения, что были какие-то эпистемологические проблемы.
Но я полагаю, что в этом вопросе было бы полезнее сказать, что
эпистемология продолжает существовать, хотя и в новом облачении и в
новом статусе. Эпистемология, или нечто на нее похожее, просто
занимает место в качестве раздела психологии, и, следовательно,
естественных наук. Она изучает естественный феномен, а именно
физический человеческий субъект. Этот человеческий субъект
соответствует определенному экспериментально контролируемому входу
— например, определенным структурам излучения в подобранных
частотах, — и по ходу времени субъект выдает на выходе описание
трехмерного внешнего мира и его историю. Отношение между скудным
входом и обильным выходом есть отношение, которое мы склонны
изучать по той же самой причине, которая всегда подсказывается
психологией; а именно для того, чтобы понять, как наблюдения
соотносятся с теорией, и каким образом теория природы превосходит
всякое доступное наблюдение
7
.
Рассмотрим первое утверждение Куайна, согласно которому мотивы,
лежащие в основе эпистемологии, всегда заключались в том, чтобы
„увидеть, как наблюдения соотносятся с теорией и каким образом теория
природы превосходит всякое доступное наблюдение". Наиболее
интеллектуальные историки считали поразительным то обстоятельство, что
раздел философии, называемый нами теперь „теорией познания", играл
столь малую роль в мыслях философов до XVII века. Если же смотреть на
это с точки зрения Куайна, то трудно видеть, почему это могло бы быть
именно так. Мы могли бы предположить, что нужда в выборе между
радикально отличными теориями относительно планет и баллистических
снарядов стала настоятельной во времена Галилея и Декарта и что,
следовательно, западный интеллект был потрясен тем, как „некоторая теория
природы превосходит доступные наблюдения". Но это предположение
достаточно хило. В античное время и средние века было много
конкурирующих теорий о небесах, но мы должны хорошенько порыться в
Платоне и Аристотеле, чтобы найти хоть что-то, напоминающее
„эпистемологию", если эпистемология означает разговор о дистанции между
теорией и наблюдениями и способах преодоления этой дистанции. Мы
можем издавать радостные крики при чтении некоторых пассажей из
Теэтета и О душе; неокантианские историки греческой философии типа
Целлера часто делали это. Но мало что по-настоящему можно найти в
7
W. V. Quine, Ontological Relativity and Other Essays (New York, 1969), pp. 82—83.
164

этом отношении в IV веке и практически ничего во Второй анали-
тике (где Аристотель, который знал все о противоречиях между
конкурирующими научными теориями и конкурировал с лучшими из
них, обсуждает статус и методологию науки). Если картезианство,
возникнув в XVII веке, изумило мир, то это не потому, что оно
предлагало новое видение уже давно обсуждавшихся вопросов от-
носительно соотношения теории и наблюдений. Скорее, дело в том,
что картезианство серьезно рассматривало вопросы, которых, как за-
метил с некоторым возмущением Жильсон, схоласты, будучи людьми
благоразумными, не задавали
8
.
Чтобы понять, почему XVII век заинтересовался соотношением
теории и наблюдения, мы должны спросить, почему фантазии Декарта
захватили воображение Европы. Как говорит Куайн, „эпистемологи
грезили о первой философии, более устойчивой, нежели наука, фи-
лософии, которая должна служить обоснованием нашего познания
внешнего мира"
9
. Но почему же буквально все стали внезапно грезить
об одних и тех же вещах? Почему теория познания стала чем-то
большим, чем вялые академические упражнения, состоящие в ответах
Сексту Эмпирику? Грезы о первой философии, более устойчивой, чем
наука, имеют такую же долгую историю, как Государство, и можно
согласиться с Дьюи и Фрейдом, что то же самое изначальное
побуждение лежит в основе как религии, так и Платонизма. Но это не
позволяет нам понять, почему все должны считать первой фи-
лософией, из всего круга мыслимых вещей, именно эпистемологию.
Было бы неуклюже настаивать на такой интерпретации фразы
Куайна. Но я делаю это, тем не менее, по той причине, что понимание
современной философии, с моей точки зрения, требует более радикаль-
ного разрыва с традицией, нежели этого хочет Куайн, или чем это
нужно для его целей. Его радушный лозунг — „Не выбрасывайте
эпистемологии — пусть она будет психологией" — звучит вполне
разумно, если наша цель заключается в том, чтобы показать, что
можно спасти в эмпиризме, если мы отбросим две его догмы. Но если
мы хотим узнать, почему имеет смысл быть эмпиристом, хотя сейчас
эмпиризм волнует воображение в меньшей степени и не является
морально обязывающим, мы должны пока оставить этот предмет
вовсе и обратиться к вопросу, которым Куайн пренебрегает совсем.
Для этого я приступаю к некоторым вещам, которые Куайн говорит о
психологии. Я хочу показать, насколько далекими будут любые
психологические открытия того сорта, которые его интересуют,
8
«С точки зрения средневековой философии, Декарт играл роль indisciplinatus —
человека, который гордится тем, что настаивает, независимо от характера дисциплины,
на одной и той же степени достоверности, как бы ни была она при этом неуместной.
Короче, Декарт больше не признавал промежуточного между истинным и ложным;
его философия представляет собой радикальное устранение понятия „вероятного"»,
(Etienne Gilson, Etudes sur le Role de la Pensée Médiévale dans la Formation du Système
Cartésien [Paris, 1930], p. 235).
9
W. V. O. Quine. „Grades of Theoreticity", in Experience and Theory, ed. L. Foster
and J. W. Swanson (Amherst, Mass., 1970), p. 2.
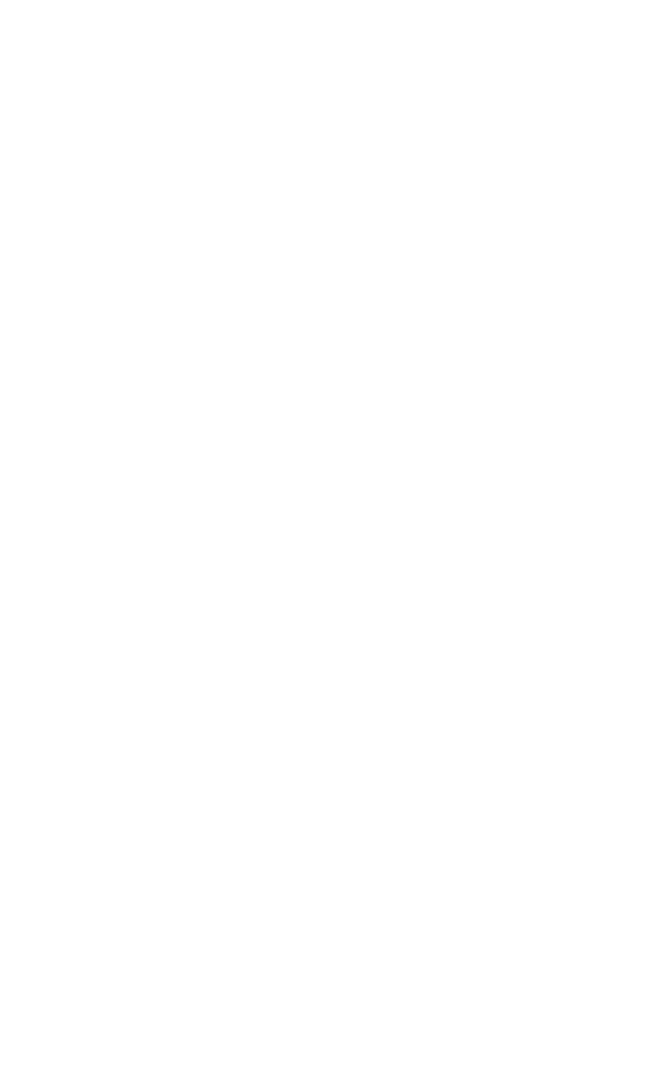
от вопросов обоснования науки или вопросов соотношения теории и
наблюдения.
Связь между эмпирической психологией восприятия и
эмпиристской эпистемологией, я полагаю, основывается по большей
части на слишком неопределенном использовании таких слов, как
„наблюдение", „информация" и „свидетельство". Подобного рода
использование позволяет Куайну говорить вещи такого типа: „Нервные
окончания... представляют места входа необработанной информации
о мире"
10
и „В качестве входа нашего познавательного механизма лучше
всего рассматривать просто стимуляцию наших сенсорных рецеп-
торов"
11
. Предположим, мы задаем вопрос: может ли психология
открыть, что обработка информации начинается не на сетчатке (пер-
вые нервные клетки, на которые попадает свет)? Может ли она
открыть, что это на самом деле происходит на линзах или же в тех
местах, где оптический нерв переходит в визуальную часть коры
головного мозга? Может ли она открыть, что все происходящее до
последнего момента будет не информацией, а просто электричеством?
Очевидно, нет, так как весьма трудно понять, что могло бы считаться
экспериментальным критерием „информации" или „переработки
информации". Куайн, однако, пишет так, как будто есть такие
критерии. Он отмечает, что эпистемология уже разрывалась между
двумя критериями „данности" (datal): „причинной близостью к фи-
зическим стимулам" и „фокусом осознания". Но, говорит он,
Дилемма разрешается, и напряжение ослабевает, когда мы отка-
зываемся от мечты о первой философии, более устойчивой, чем
наука. Если мы интересуемся только причинным механизмом
нашего познания внешнего мира, а не оправданием этого познания
в терминах, первичных по отношению к науке, мы можем в конце
концов установить теорию видения в стиле Беркли, основанную на
цветовых пятнах в двумерном поле... Мы можем рассматривать
человека как черный ящик в физическом мире, подвергающийся
внешне детерминированным стимулам на входе и выдающий на
выходе поток свидетельств о внешнем мире. Какая часть внут-
ренней работы черного ящика может быть окрашена сознанием —
это уж как получится"
12
.
Но если мы забудем об обосновании и будем интересоваться
причинным механизмом, мы определенно не будем говорить о цве-
товых пятнах в двумерном визуальном поле. Мы не будем пользоваться
различием между данным и выводным, и поэтому не будет нужды в
понятии „визуального поля" для поддержки первого. Мы можем
говорить о иррадиирующих пятнах на двумерной сетчатке или импуль-
сах в оптическом нерве, но это будет решаться выбором черного
ящика, а не открытием критерия исследования. Куайн рассасывает
10
Ibid., p. 3.
11
Quine, „Epistemology Naturalized", in Ontological Relativity, p. 84.
12
Quine, „Grades of Theoreticity", in Experience and Theory, pp. 2—3.
166

дилемму, изменяя мотивы исследования. Если интересоваться только
причинными механизмами, не стоит тогда беспокоиться об осознании.
Но эпистемологи, которые грезят так, как это описал Куайн, заинте-
ресованы не только в причинных механизмах. Они заинтересованы,
например, в том, чтобы отметить различие между Галилеем и оскор-
бляющими справедливость профессорами, которые отказывались смот-
реть в его телескоп.
Если в самом деле нет экспериментальных критериев того, откуда
приходят данные о реальности, тогда предположение Куайна, что мы
должны отказаться от понятия „чувственных данных" и начать го-
ворить в причинном ключе о нервных окончаниях и в эпистемо-
логическом ключе — о предложениях наблюдения
13
, не разрешает
дилеммы, которой больна эпистемология. Скорее, оно позволяет эпис-
темологии сойти со сцены. Потому что если мы имеем психофи-
зиологию для объяснения причинных механизмов, и социологию и
историю науки для регистрации тех случаев, когда при воцарении или
свержении теорий вовлекаются или же избегаются предложения
наблюдения, тогда эпистемологии делать нечего. Можно было бы
подумать, что этот результат совпадает с мнением Куайна, но на
самом деле он опровергает его. Сопротивление становится особенно
явным, когда Куайн упрекает таких авторов, как Полани, Кун и
Хансон в том, что они хотят совсем избавиться от понятия наблю-
дения
14
. Куайн полагает, что это вполне удовлетворительное понятие,
и хочет реконструировать его в терминах интерсубъективности. Он
определяет „предложение наблюдения" как такое, в котором „все
говорящие на языке выносят один и тот же вердикт при условии
одних и тех же совпадающих стимулов. Прибегая к отрицательной
формулировке, можно сказать, что предложение наблюдения таково,
что оно нечувствительно к различию в отношении прошлого опыта
внутри речевого сообщества"
15
. Куайн полагает, что за исключением
случая слепых, безумных и людей, страдающих кое-какими „отклоне-
ниями" (с. 88), мы можем сказать, какие предложения удовлетворяют
условию, согласно которому их понимание „зависит от присутствия
сенсорной стимуляции и не зависит от накопленной до того инфор-
мации". Это равносильно определению „присутствующей сенсорной
стимуляции" в терминах бесспорности определенных предложений.
Куайн полагает, что это сохраняет силу эмпиристского понимания и в
то же время устраняет понятие значения, которое ассоциируется с
«идеей „идеи"».
Я полагаю, что Куайн прав, избрав такую линию для сохранения
того, что было истинно в эмпиризме, потому что при этом становится
совершенно ясно, что если нечто и „заменяет" эпистемологию, то это
история и социология науки, но никак не психология. Но Куайн
рассуждает не так. Рассмотрим другой пассаж относительно „данных":
13
Ibid., p. 3.
14
Ibid., p. 5, „Epistemology Naturalized", p. 87.
15
Quine, „Epistemology Naturalized", pp. 86—87.
167

Что считать наблюдением, может быть установлено в терминах
стимуляции сенсорных рецепторов, и сознание включается там,
где может.
В старые антипсихологические времена вопрос об эпистемо-
логической первичности был спорным. Что эпистемологически пер-
вично по отношению к чему? Является ли Gestalten первичным по
отношению к сенсорным атомам...? Теперь, когда нам позволена
апелляция к физической стимуляции, проблема рассасывается; А
эпистемологически первично по отношению к В, если А причинно
ближе, чем В, к сенсорным рецепторам. Или, в более совершенной
формулировке, говорите в точных терминах причинной близости к
сенсорным рецепторам и откажитесь от разговора об эпистемо-
логической первичности (с. 84—85).
Тут загадочным является то, что мы определили „предложение
наблюдения" в терминах consensus gentium; мы можем отделить
наблюдение от теории, не заботясь и не зная о том, какая часть
нашего тела представляет сенсорные рецепторы, заботясь в гораздо
меньшей степени, когда и где в нервах начинается „обработка инфор-
мации". Нам не требуется никакого объяснения причинных меха-
низмов для выделения того, что является интерсубъективно приемле-
мым, — мы просто делаем это в обычных разговорах. Поэтому
психология не может сказать нам о причинной близости ничего
такого, что заслуживало бы, чтобы это знали те, кто желает про-
должения „эпистемологии в психологическом облачении". Другими
словами, раз уж мы выбираем предложения наблюдения разговорным
образом, а не неврологически, дальнейшие поиски того, „как наблю-
дения соотносятся с теорией", представляются вопросом, которым
должны заниматься Поляни, Кун, и Хансон. Что психология может
добавить к их объяснению того, как ученые творят и уничтожают
теории? Куайн говорит им, что
...некоторые иконоборцы-философы науки подвергли сомнению
само понятие предложения наблюдения только сейчас, когда оно
перестало представлять проблему. Это их замедленная реакция
против старого сомнительного понятия данного. Но сейчас, когда
мы расстались со старой мечтой о первой философии, давайте
порадуемся тому, что у нас в распоряжении теперь есть концепции,
не представляющие проблем. Нервный вход — первая из них, и
предложение наблюдения — вторая
16
.
Но эти концепции, какими бы непроблематичными они ни были,
не являются новыми. Как электричество, нервный вход не является
новым; как „информация" он проблематичен. Понятие „предложения
наблюдения", как его определил Куайн, старо так же, как первый
юрист, который спросил свидетеля: „Что вы на самом деле видели?"
Если нам и есть чему возрадоваться, так это тому, что мы больше
16
Quine, „Grades of Theoreticity", pp. 4—5.
168

не задаем определенных вопросов — обнаружили ли мы нечто новое
в том, что нужно сделать, или некоторые новые термины, в которых
нужно мыслить. Куайн говорит нам, что не стоит больше беспокоиться
о сознании, раз мы отказались от рациональной реконструкции. Но,
судя по всему, он вернул все назад, эксплицируя наблюдаемость в
терминах интерсубъективности. Поэтому он должен либо позволить
Поляни, Куну и Хансону сказать, что „наблюдение" есть вопрос
соглашения на нынешний день, либо должен показать, как психо-
логические открытия могут сделать большее, чем это понятие. Если
они не могут этого, тогда определение „зависимости от присутству-
ющей сенсорной стимуляции" в терминах интерсубъективности будет
взывать к старым эпистемологическим, но никак не психологическим,
целям.
Мое обсуждение Куайна грешило буквальной интерпретацией его
слов. Куайну, скорее всего, была безразлична судьба слова „эписте-
мология". Но небезразличной, вероятно, ему была судьба его позиции,
близкой к Дьюи, согласно которой наука и философия плавно пере-
ходят друг в друга и не могут рассматриваться как имеющие раз-
личные методы или предметы. Он противился тому, чтобы дать волю
оксонианскому разговору о „философии как анализе концепций", и он
ассоциировал Виттгенштейна и „терапевтический позитивизм" с
такого рода разговорами. Я уже отмечал, что мы готовы скорее
находить общее между Виттгенштейном и Дьюи — а именно их
взгляд, что естественный поиск понимания шел у современных фило-
софов рука об руку с неестественным поиском достоверности. С этой
точки зрения, надежды и страхи, которые инспирировались психо-
логией в различное время у философов, были также заблуждением
17
.
Утверждая вместе с Уиздомом и Баусма, что „эпистемология" есть
собрание навязчивых мыслей по поводу определенности, которые
рассасываются терапией, и вместе с Куайном, что эпистемологические
импульсы должны быть удовлетворены психологическими результа-
тами, мы должны сказать: мы можем иметь психологию или ничего
другого.
Если бы в этой книге не ставился в качестве одного из главных
вопрос о том, почему мы имеем в нашей культуре такой феномен как
„философия", саму проблему можно было бы оставить в покое.
17
См.: Виттгенштейн Л. Философские исследования, с. 319 по поводу „запутан-
ности и бесплодия в психологии": „Существование экспериментального метода застав-
ляет нас полагать, будто мы располагаем средством справиться с беспокоящей нас
проблемой, однако проблема и метод лежат здесь в разных плоскостях". См. также
предупреждение Дьюи о движении, которое со временем превратится в „бихевио-
ристическую психологию", которой восхищается Куайн: „Старый дуализм ощущения
и идеи повторяется в современном дуализме периферийной и центральной структур и
функций; старому дуализму души и тела вторит эхо современного дуализма стимула и
реакции..."; и снова, „...ощущение в качестве стимула не означает никакого
конкретного психического существования. Он означает просто функцию, и изменения
в значимости его будут иметь место в зависимости от того, что требуется сделать в
соответствующей области". („The Reflex Arc Concept in Psychology in The Early Works
of John Dewey, vol. 5 [Carbondale, 1972], pp. 96, 107).
169

Но ввиду этого исторического вопроса различие между ничем и
психологией является важным. Дьюи усматривал в не-„научных"
аспектах философии религиозные и социальные мотивы, и присо-
единял к тезису об отсутствии границы между философией и наукой
оскорбительное различение того, чем была философия и тем, чем она
должна стать. Куайн неохотно флиртует с генетическим ложным
выводом и добросердечно рассматривает себя и Локка в качестве
сотоварищей по исследованию „соотношения теории и наблюдения":
Локк, полагает он, сбился с правильного пути по причине неверной
теории значения, но мы, нынешние философы, наставлены на пра-
вильный путь (психологии). Но это добросердечие скрывает как раз
то, что представляет важность для исторического понимания: интерес
Локка к предположению скептицизма о том, что наши субъективные
модусы понимания (apprehension) могут скрывать от нас реальность, и
отказ Куайна беспокоиться вообще по поводу скептицизма.
Безразличие Куайна по поводу скептицизма видно из того, что он
отождествляет элементы опыта с элементами познания, а объяснение
— с обоснованием. Психология, через обнаружение элементов опыта,
объясняет познание. Эпистемология, (мнимо) обнаруживая элементы
познания, оправдывает неэлементарное знание. Никто не захочет
обоснованного „человеческого познания" (в противоположность
некоторой конкретной теории или отчету), пока он не будет напуган
угрозой скептицизма. Никто не будет отождествлять эпистемологию с
психологией до тех пор, пока он не освободился от страха перед
скептицизмом в такой степени, чтобы считать „обосновывание
человеческого познания" этакой шуткой. Поэтому, хотя мы можем
сердечно соглашаться с Куайном, что если должны делаться открытия
о человеческом познании, они должны, по-видимому, идти от психо-
логии, мы можем также симпатизировать взгляду, который Куайн
приписывает Виттгенштейну: с эпистемологией надо сделать все, что
„вылечивает философов от заблуждения, что существовали эписте-
мологические проблемы". Такая терапия не отделяет философию от
науки: она делает философию просто здравым смыслом или наукой,
мобилизованными для „напоминания о конкретных целях"
18
.
3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
КАК ПОДЛИННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ
Чтобы получить психологическую теорию, которая могла бы ска-
зать кое-что о соотношении теории и наблюдения, нам нужна, как
минимум, такая теория, которая воспроизведет „внутренне" обычное
„публичное" обоснование утверждений через обстоятельства и другие
утверждения. Другими словами, нам нужны ментальные сущности,
которые могут иметь те же самые отношения к публичным утверж-
дениям и друг к другу, как это имеет место между посылками и
заключениями в речи или между свидетельствами очевидцев и об-
18
Виттгенштейн Л. Философские исследования. С. 130.
170

винения в суде и т. д. Но всякий раз, когда психологическая теория
пытается дать ответ на эти требования, поднимается крик о „беско-
нечном регрессе". Таким образом, Малькольм говорит:
Если мы говорим, что способ, с помощью которого человек знает,
что перед ним находится собака, заключается в его убеждении,
согласно которому создание „подходит" к его Идее собаки, тогда
нам нужно задать вопрос: „Откуда он знает, что это пример
именно этой ситуации с „подходит"?" Что направляет его в этой
уверенности? Нуждается ли он в Идее второго порядка, которая
показывает ему, что значит для какой-то вещи подходить под
Идею? Другими словами, не нуждается ли он в модели ситуации
„подходит"? ...При этом получается бесконечный регресс, и ничего
не объясняется
19
.
Трудность, известная со времени Райла, заключается в том, что если
мы не ограничиваемся утверждением „он видит это" в качестве
достаточного обоснования знания человеком того, что перед ним
собака, тогда мы не способны вообще ничего обосновать. Потому что
хотя менталистское объяснение дает нам просто причинное объяснение
распознавания собаки, оно не дает ответа на вопрос: „Откуда он
знает?" Оно ничего не говорит нам о свидетельствах человека в
пользу его представления, а просто утверждает, что человек приходит
к нему. С другой стороны, поскольку оно все-таки предлагает обос-
нование исходного публичного притязания-на-знание, оно представ-
ляет повод к дальнейшему исследованию.
Фодор критикует мнение Райла, согласно которому ничего из
того, что имеет „парамеханистический" характер, не может улучшить
нашего понимания распознавательного восприятия, и замечает, что
„кажущаяся простота позиции Райла покупается ценой того самого
сорта сомнительных теорий обучения и восприятия, на которые тра-
диционно пытались найти ответ"
20
. Он продолжает свою мысль, ут-
верждая, что „никакая простая история об обучении ассоциациям" не
позволит ответить на эти вопросы:
Но если то общее, что имеют различные способы исполнения
мелодии „Лиллибулеро", представляет собой нечто абстрактное,
то отсюда следует, что система ожиданий, составляющая рецепт
для восприятия песни, должна быть в некотором смысле абс-
трактной. ..
19
Malcolm, „Myth of Cognitive Process", p. 391. Сравни с Райлом — Ryle, The
Concept of Mind (New York, 1949), ch. 7, и с Виттгенштейном, Философские иссле
дования, с. 297—299. См. также: Дж. Пассмор — Passmore J., Philosophical Reasoning
(London, 1961), ch. 2 („The Infinite Regress Argument"), где он обсуждает использование
Райлом этого аргумента. Я сравнил антикартезианское использование этого аргумента
Виттгенштейном и Пирсом в своей работе „Pragmatism, Categories, and Language",
Philosophical Review 49 (1961), 197—223.
20
Fodor, „Could There Be a Theory of Perception?", Journal of Philosophy 63
(1966), 375.
171

...Соответствующие ожидания должны быть сложными и абс-
трактными, так как перцептуальные тождества поразительно не-
зависимы от физических однородностей среди стимулов. Поскольку
именно это перцептуальное „постоянство" традиционно предпо-
лагается психологами и эпистемологами в качестве необходимого
для объяснения бессознательных выводов и других парамеханис-
тических передач, следует заметить, что трактовка Райла пригла-
шает к рассмотрению всех тех вопросов, которые поднимаются
этим постоянством (с. 377—378).
Мы можем согласиться с Фодором, что если существуют „вопросы,
поднимаемые в связи с постоянством", тогда Райл приглашает их к
рассмотрению. Но Райл мог бы легко ответить, что именно понятие
„сложных и абстрактных ожиданий" (например, множества бессоз-
нательных выводов, включающих обращение к некоторым правилам
или некоторым абстрактным парадигмам) производит впечатление,
что здесь есть вопрос. Вероятно, только картина маленького человечка,
находящегося в уме и применяющего правила, составленные в не-
вербальных, но все же „абстрактных" терминах, приводит нас к
вопросу „Как это делается?" Если бы эта картина не влияла на нас,
мог сказать Райл, мы могли бы реагировать примерно таким образом:
„Это возможно только потому, что есть сложная нервная система —
без сомнения, какой-нибудь физиолог когда-нибудь скажет нам, как
это работает". Другими словами, понятие нефизиологических „моде-
лей" не возникло бы, если бы мы уже не имели под рукой всего
набора картезианских трюков.
Этот ответ может быть сформулирован немного более точным
образом. Предположим, мы соглашаемся с Фодором в том, что рас-
познавание подобия среди потенциально бесконечного числа разли-
чий есть распознавание чего-то „абстрактного", например „Лиллибу-
лерства". Что значит сказать, что „рецепт для восприятия песни
должен быть абстрактным в одном и том же смысле?" Вероятно,
должно быть возможно отличить подобие среди потенциально беско-
нечного числа различий. Но тогда бесполезно понятие „не-абстрак-
тного рецепта", так как любой рецепт должен быть способным сделать
это. Возможные качественные вариации ингредиентов, входящих в
плитку шоколада, также потенциально бесконечны. Поэтому, если
нам нужно вообще говорить о „сложных множествах ожиданий" (или
„программ", или „систем правил"), нам придется всегда говорить о
чем-то „абстрактном" — на самом деле абстрактном точно в той же
мере, как абстрактна характеристика, распознавание которой (или чье
выполнение) мы хотим объяснить. Но тогда мы стоим перед
дилеммой: либо приобретение этого множества ожиданий или правил
требует постулирования нового множества ожиданий или правил, или
же они не приобретаются. Если мы ухватим за первый рог, беско-
нечный регресс Малькольма и в самом деле будет порожден принципом
Фодора, согласно которому распознавание абстрактного требует ис-
пользования абстрактного, потому что свойственное распознаванию
свойственно приобретению. Если мы ухватим за второй рог, тогда мы
вновь окажемся в компании с Райлом: сказать, что люди имеют
172

неприобретенную способность к распознаванию подобия среди
бесконечного числа различий, вряд ли равносильно какому-либо
объяснению „вопроса о возникновении постоянства".
Поэтому, заключает Райл, эти вопросы являются либо „концеп-
туальными", касающимися достаточных условий обыденного приме-
нения таких терминов, как „осознавание", либо вопросами о физио-
логических механизмах. Вопросы последнего рода не включают проб-
лем о регрессе, так как никто не полагает, что „постоянство" требует
постулирования „абстрактных" механизмов в фотоэлектрических
ячейках или настройки камертонов. Но есть все-таки какая-то разница
между нотой ми и „Лиллибулерством", за исключением того, что мы
характеризуем первое как „конкретное акустическое качество", а
последнее — как „абстрактное подобие"? Мы могли бы специ-
фицировать тысячу случайных особенностей (тембр, громкость, свет,
цвет испускающего свет предмета), которые игнорирует камертон,
точно так же, как это делает воспринимающий мелодию „Лиллибу-
леро". Так как различение абстрактного и конкретного проводится
относительно заданной базы данных как различение сложного и
простого, оно выглядит так, как если бы, говоря, что психологическое
объяснение требует абстрактных сущностей, мы просто утверждали,
что объяснение млекопитающих может потребовать отличных — ка-
тегориально отличных — вещей от того, что требуется в объяснении
амеб, камертонов, атомов цезия и звезд. Но откуда мы узнаем это? И
что значит в данном случае „категориально"? Опять-таки, Райл может
сказать, что если бы мы уже не имели картезианской картины
(Внутреннего Взора, усматривающего правила, написанные на стенах
ментальной арены), мы не могли бы знать, что делать с таким
требованием.
Вот такая ситуация с аргументом о бесконечном регрессе. А теперь
рассмотрим то, что могли бы послать вдогонку этим соображениям
люди вроде Додуэлла, который говорит, что нефизиологическое мо-
делирование априорно ни хорошо, ни плохо, и о нем следует судить
по его плодам. Додуэлл находился под впечатлением аналогии между
мозгом и компьютером: „Единственным, в настоящее время наиболее
важным, фактором влияния на идеи физиологов относительно ког-
нитивных процессов представляется комплекс концепций, которые
могут быть развиты в связи с программированием для компьютеров"
21
.
Тем не менее, он допускает:
Можно было бы считать аналогию с компьютером тривиальной,
потому что программа просто кодифицирует множество операций,
которые похожи на когнитивные процессы, но не в большей
степени объясняет мышление, чем это делается выписыванием
правил при решении арифметических проблем... Сказать, что
компьютерная программа может „объяснить" мышление, значит
сказать, что множество логических формул „объясняет" законы
правильного дедуктивного аргумента (с. 371—372)
21
Dodwell, „Is a Theory of Conceptual Development Necessary?", p. 370.
173
