Рорти P. Философия и зеркало природы
Подождите немного. Документ загружается.

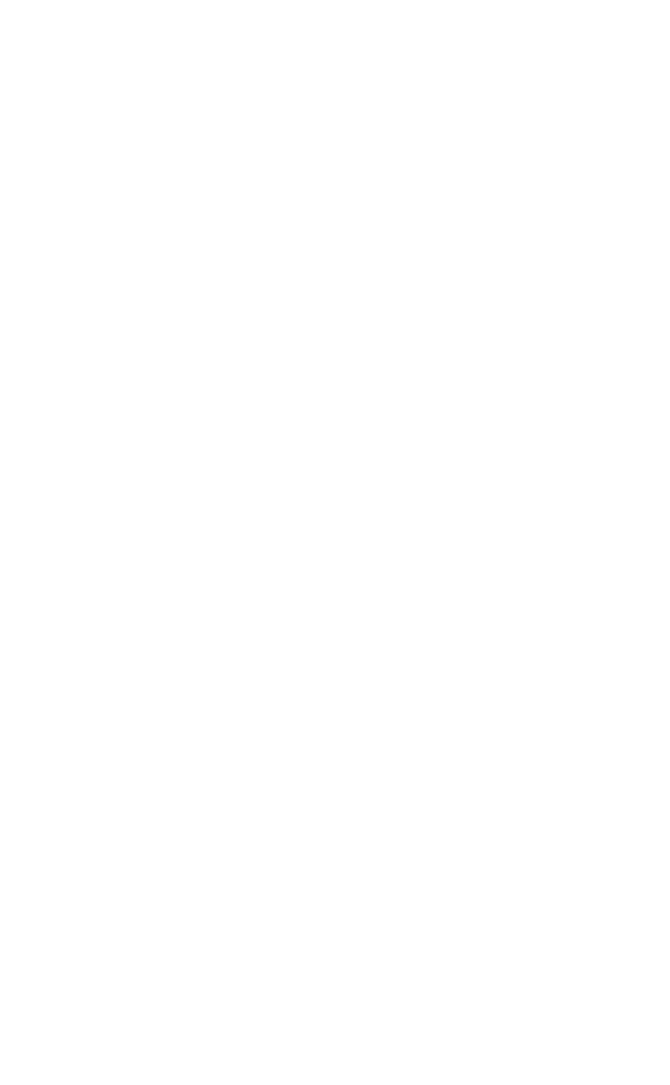
без этого словаря. Мы можем согласиться с интуицией Карнапа в
отношении того, что движение чего угодно может быть предсказано
на основании движения элементарных частиц, и если мы просто
будем знать, как передвигаются все эти частицы, мы будем знать
(хотя и без объяснения) все, что имеет место, не добавляя утверж-
дения, как это делает Куайн, о „безосновательности интенциональных
идиом и пустоте науки об интенциях". Каждый словарь — в частности,
физики элементарных частиц — может работать для каждой части
вселенной, в то время как разговор о митохондриях, эмерозах, кабине-
тах министров и интенциях требуется то здесь, то там. Но различие
между универсальным и специфическим не есть различие между
фактическим и „пустым", и еще в меньшей степени — различие
между явлением и действительностью, или теоретическим и прак-
тическим, или природой и конвенцией.
Дэвидсон, однако, привязывает свой собственный проект к проекту
Куайна совершенно неверным образом, когда говорит, что „гетеро-
номный характер общих утверждений, связывающий ментальное и
физическое, восходит к этой центральной роли перевода в описании
всех пропозициональных установок и к неопределенности перевода"
44
,
а также, когда с одобрением цитирует замечание Куайна о том, что
„тезис Брентано о несводимости интенциональных идиом гармонирует
с тезисом о неопределенности перевода"
45
. Оба замечания предпола-
гают, что отношения между утверждениями, предполагаемые пере-
водами и бихевиористскими установками, являются особыми в неко-
тором смысле, в котором таковыми не являются отношения между
утверждениями о митохондриях и элементарных частицах. Оба заме-
чания предполагают странную доктрину Куайна о „двойной" неопре-
деленности перевода. Но если все то, что я сказал, верно, несводимость
всегда является просто несводимостью и никогда — ключом к „онто-
логическим" различениям. Есть много словарей в языке, в рамках
которых можно ожидать получения всеобъемлющей теории, оформ-
ленной в гомономных обобщениях; и наука, и политическая теория, и
литературная критика, и остальное будут, если позволят обстоя-
тельства, непрерывно творить все больше таких словарей. Отказаться
от представления, что в лице философии мы имеем дисциплину,
которая предохраняет нас против „безответственного овеществления"
и систематизирует наши „сомнения об объектах, которые могут пред-
полагаться", значило бы перешагнуть несводимость одним махом и,
таким образом, судить о каждом словаре на основании одних лишь
прагматических или эстетических соображений. Критика Куайном
попытки Карнапа отделить философию от науки есть как раз то, что
нам нужно, чтобы понять, что нет такой дисциплины, и как раз то,
что нам нужно, чтобы увидеть, что Geisteswissenschaften больше не
должны быть wissenschaftlich, или онтологически более респекта-
44
Ibid., p. 97.
45
Ibid., p. 97, цитата Куайна из Word and Object, p. 221.
154

бельной, если окажется, что Брентано и Дильтей были не правы в
своих утверждениях о несводимости. К несчастью, постоянная уве-
ренность Куайна, что символическая логика как-то должна иметь
„онтологические следствия", ведет его к привлечению в обсуждении
наших проблем переводов, интенциональности и «идеи „идеи"» в
большей степени, чем это нужно.
Я посвятил этот длинный раздел аргументации, согласно которой
атаку Куайна на „истину благодаря значению" в качестве объяснения
мнимо необходимых истин не следует путать с его атакой на „зна-
чения" как идеи в уме, идеи, которые определяют точность перевода
таким способом, каким лингвистическое поведение этого делать не
может. Первое и в самом деле является псевдообъяснением; не су-
ществует, по причинам, изложенным в „Двух догмах", привилегиро-
ванных репрезентаций. Но неприятие Куайном привилегированных
репрезентаций привело его к недоверию в отношении всех репрезен-
таций, к недоверию к самой «идее „идеи"». И все же идеи в уме не
больше и не меньше респектабельны, чем нейроны в мозгу,
митохондрии в клетках, страсти в душе или моральный прогресс в
истории. Ущерб от «идеей „идеи"» в современной философии был
связан с псевдообъяснением эпистемического авторитета посредством
понятия „прямого знакомства" через „Умственный Взор" с такими
ментальными сущностями, как чувственные данные и значения. Но
это — эпистемологический ущерб, а не онтологический. Если я прав
в своей критике Куайна (и в общей линии, проводимой в этой книге),
единственный способ, которым можно причинить онтологический
ущерб, состоит в блокировании дальнейших исследований, настаивая
на плохой старой теории ценой новой хорошей теории. Можно сказать,
что интроспекционистская психология XIX века на короткое время
поставила блок на пути к исследованиям, но даже если бы это было
так, такое обстоятельство было бы совершенно отлично от утверж-
дения, что Geisteswissenschaften не позволяет нам усматривать реаль-
ности, или что их сомнительные онтологии должны терпеться, исходя
из практических целей. Урок эпистемологического бихевиоризма со-
стоит как раз в том, что нет никакой „философской точки зрения" о
переводе или интенциональности как об „онтологическом" предмете.
Скорее, он помогает нам увидеть, что объяснительная сила есть там,
где мы находим ее, и что философская попытка отличить „научное"
объяснение от „ненаучного" не представляется необходимой.
5. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ БИХЕВИОРИЗМ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БИХЕВИОРИЗМ И ЯЗЫК
В предыдущей главе я говорил, что эпистемологическая традиция
спутала причинный процесс приобретения знания с вопросами об его
обосновании. В этой главе я представил критику Селларсом Мифа
Данности и критику Куайном понятия истины благодаря значению в
качестве двух различных направлений развития этой более общей
критики. Если мы принимаем все изложенные критические материа-
лы и, следовательно, отказываемся от понятия эпистемологии как
155

поиска, инициированного Декартом, тех привилегированных тем в области
сознания, которые являются критериями истины, мы в состоянии спросить,
осталось ли что-нибудь у эпистемологии. Я утверждаю, что у нее не
осталось ничего. Чтобы понять вещи, которые хотел понять Декарт —
превосходство Новой Науки над Аристотелем, отношения между этой
наукой и математикой, здравым смыслом, теологией и моралью, — мы
должны обернуться вовне, а не вовнутрь, по направлению к социальному
контексту обоснования, а не к отношениям между внутренними
репрезентациями. Эта позиция поощрялась в последние десятилетия
многими философскими направлениями, в частности, теми, которые шли от
Философских исследований Виттгенштейна и от Структуры научных
революций Куна. Некоторые из этих направлений будут обсуждаться в
главах седьмой и восьмой. Но перед этим, однако, я буду обсуждать две
попытки сохранить кое-что от картезианской традиции, попытки, которые
заставляют нас сомневаться в нашей способности вообще отказаться от
образа Зеркала Природы.
Первая из этих попыток — это восстание против логического
бихевиоризма в философии психологии, приведшее к развитию объяснения
поведения в терминах внутренних репрезентаций без всякой связи с
обоснованием вер и действий. Я уже говорил, что если объяснение и
обоснование разведены в стороны, нет причин возражать объяснению
приобретения знания в терминах репрезентаций, и что такое объяснение
может быть предложено без воскрешения традиционной проблемы „ума-
тела". Но я полагаю, что защита такого объяснения против Райла и Скиннера
может быть легко искажена и перейти в реабилитацию традиционной
проблематики XVII века, и поэтому я посвящу пятую главу обсуждению
такой защиты. Моя цель состоит в избавлении эмпирической психологии от
остатков эпистемологии путем защиты ее от виттгенштейновской критики и
от одобрения сторонников Хомского.
Вторая попытка сохранить что-нибудь от картезианской традиции,
которую я буду обсуждать, представляет усилия в недавней философии
языка специфицировать то, „как язык зацепляет* мир", таким образом
создавая аналогию с картезианской проблемой, как мысль зацепляет мир.
Попытки использовать понятия референтов терминов и истины
предложений для понимания проблем, которые мучили Декарта, обречены
на провал, но сама программа такого толка весьма прельщает. Поскольку
язык есть общественное „Зеркало Природы", а мысль — „личное", возникает
впечатление, что мы могли бы переформулировать множество
картезианских и кантианских проблем в линг-
* Метафора зацепления (hook) представляет собой метафору, используемую реа-
листическими философами (например, не-прагматистами, не-виттгенштейнианцами)
для описания того, что должен быть способен делать язык, а именно устанавливать
жесткие связи между субъектом и объектом, связи, которые не могут быть изменены
дальнейшим лингвистическим их использованием. (P.P. — Примеч. к русскому
изданию.)
156

вистических терминах и тем самым реабилитировать множество стан-
дартных философских вопросов (например, выбор между идеализмом
и реализмом). Я посвящу шестую главу различным усилиям по такой
реабилитации, и буду доказывать, что семантика должна сторониться
эпистемологии в той же степени, как и психология.
Поскольку как внутренние репрезентации, необходимые в психо-
логическом объяснении, так и отношения слов к миру, необходимые в
семантике для получения теории значения в естественном языке,
рассматриваются как несущественные в вопросах обоснования, мы
можем считать отказ от поисков привилегированных репрезентаций
отказом от целей „теории познания". Нужда в такой теории в XVII ве-
ке объяснялась переходом от одной парадигмы в понимании природы
к другой и, кроме того, переходом от религиозной культуры к свет-
ской. Философия как дисциплина, способная дать нам „правильный
метод поиска истины", зависит от нахождения некоторого постоянного
нейтрального каркаса всех возможных исследований, понимание ко-
торого позволит нам увидеть, например, почему ни Аристотель, ни
Беллармин не имели обоснования того, во что они верили. Ум как
Зеркало Природы был ответом картезианской традиции на необ-
ходимость такого каркаса. Если не существует привилегированных
репрезентаций в этом зеркале, тогда это больше не будет ответом на
нужду в критерии при выборе между обоснованными и необосно-
ванными утверждениями нашей веры. До тех пор, пока некоторый
такой каркас не будет найден, отказ от образа Зеркала приводит нас к
отказу от представления о философии как дисциплине, выносящей
приговор науке и религии, математике и поэзии, разуму и чувству,
находя для каждой из этих областей подобающее место. В главах
седьмой и восьмой я займусь этой темой подробнее.
12'

Глава пятая
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. ПОДОЗРЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПСИХОЛОГИИ
Направление мысли, которое я назвал „эпистемологическим би-
хевиоризмом", приводит к предубеждению в отношении понятий
„ментальных сущностей и „психологических процессов". Характерная
картина высших человеческих способностей, свойственная Декарту и
Локку, постепенно стиралась работами таких авторов, как Дьюи,
Райл, Остин, Виттгенштейн, Селларс и Куайн. Однако именно эта
картина, которая способствовала возникновению в XVII веке понятия
„занавес идей" и, таким образом, эпистемологического скептицизма,
не была заменена новой и более четкой картиной. Наоборот, суще-
ствуют повсеместные братоубийственные разногласия среди „антикар-
тезианцев" относительно того, что можно сказать, если есть вообще
что сказать, об уме. Магическое слово Райла „диспозиция" больше не
в моде, но вместо него предлагаются более современные слова типа
„функциональное состояние". Все что попахивает либо скиннеровским
методологическим бихевиоризмом, либо райловским „логическим"
бихевиоризмом, считается подозрительным, но все согласны в том,
что должен быть некоторый способ, при котором можно уклониться от
таких редукционистских усилий и одновременно не впасть в
породивший традиционные „традиционные философские проблемы"
дуализм. Противоречащие интуиции следствия бихевиоризма, интер-
претированные в редукционистском духе, иллюстрируются полемикой
Малькольма против последних работ психологов:
Таким образом, именно факты и обстоятельства, окружающие по-
ведение, придают ему свойство выражения распознавания (recog-
nition). Это свойство не обязано чему-то, происходящему внутри.
Мне кажется, что если это было бы понято философами и
психологами, они больше не имели бы мотивов для конструи-
рования теорий и моделей для распознавания, памяти, мышления,
деятельности по решению проблем, понимания и других „ког-
нитивных процессов"
1
.
Если следовать этому образу мысли, мы можем решить, что вся
эмпирическая наука психологии основана на ошибке и что нет про-
межуточного основания для исследования между объяснениями пове-
1
Norman Malcolm, „The Myth of Cognitive Processes and Structures" in Cognitive
Development and Epistemology, ed. Theodore Mischel (New York and London, 1971), p.
387.
158

дения, с одной стороны, здравым смыслом, и нейрофизиологией — с
другой. Представление о том, что существует промежуточное осно-
вание для исследования в психологии воли, с этой точки зрения,
будет продуктом того, что Малькольм назвал „мифом когнитивных
процессов и структур" и того, что Райл назвал „Декартовским Ми-
фом". Малькольм, судя по всему, склонялся именно к этому, на-
пример, в его описании представления Хомского о „внутренней сис-
теме правил" как типичной ошибке „традиционной теории Идей",
коренящейся в
Предположении... что в разговоре человек должен направляться.
Должно быть нечто под рукой, что показывает ему, как говорить,
как соединять слова согласно грамматике и получения смысла...
Здесь объясняется познание — знание что и знание как. Наличие
у человека языковых структур или же системы правил языка
предполагается в качестве объяснения его познания — объяснения,
как он знает (с. 389).
Как только мы убедимся в том, что „наше понимание человеческих
когнитивных способностей не становится большим при замене ми-
фологии стимул-реакция на мифологию внутренних навигационных
систем" (с. 392), полагает Малькольм, мы больше не будем считать,
что надо искать какие-то еще объяснения в этой области.
Это верно, что модель ума, приведшая Декарта и Локка к кон-
струированию „традиционных философских проблем", была встроена
в терминологию молодой науки психологии
2
. Было бы удивительно,
если бы крушение этой модели не оказало влияния на работу в этой
науке. И было бы столь же удивительно, если бы дисциплина, от-
делившаяся от философии несколько поколений назад, не стояла бы
твердо на собственных ногах. Мы подозреваем, что должны быть
психологические исследовательские программы, которые не могут
быть задеты философской критикой словарей, использовавшихся соз-
дателями программ.
Виттгенштейнианская критика таких программ (подобная маль-
кольмовской) часто основана на ошибочном переходе от утверждения
1. Значение термина, указывающего на ментальное, должно объяс
няться в терминах поведения (где „поведение" есть сокращение
для „функции, соотносящей обстоятельства и стимулы с пове
дением"), а не в терминах внутренних наблюдений
к утверждению
2. Психология может иметь дело только с эмпирическими корре
ляциями между фрагментами поведения и внешними обстоя
тельствами.
Этот вывод, как указывали впоследствии критики Райла, имеет не
большую силу, чем сходный вывод, производимый операционалист-
2
См., напр.: J. С. Flugel and Donald J. West A Hundred Years of Psychology
(London, 1964), ch. 1, 2.
159

скими философами науки о физике
3
. Фодор (Fodor), например, за-
мечает, что психологи вполне подготовлены к допущению того, что
определенные особенности в поведении и в социальных матрицах
являются необходимыми условиями для возникновения мыслей, эмо-
ций и т. д., но они настаивают на том, что должно быть столь же
много необходимых внутренних условий
4
. Поэтому, если исследователь-
психолог имеет достаточно здравого смысла, чтобы избежать
определения, например, „акта распознавания" в терминах чисто внут-
ренних событий, наверняка, он может для идентификации своих
данных использовать преимущество объяснения в терминах поведения
и окружения. Что еще можно потребовать, чтобы избежать обвинения
в мифологизации? Конечно, вполне может оказаться, что не суще-
ствует „промежуточных переменных", достойных постулирования, но
это может быть только апостериорным открытием, сделанным методом
проб и ошибок. Как сказал Додуэл (Р. С. Dodwell), отвечая Маль-
кольму:
С точки зрения Малькольма, психологи должны ограничиться
исследованием простых эмпирических взаимоотношений, таких,
которые можно получить между памятью и депривацией сна. Но
весьма трудно понять, как может быть оправдано такое огра-
ничение. Исследуемые психологами факторы человеческой памяти
являются эмпирическими отношениями, хотя и более сложного
сорта, чем упомянутый выше. Кто в этом случае должен принимать
решение о том, какие эмпирические отношения должны быть
отобраны для исследования? Ну уж, конечно, не философы
5
.
Этот ответ кажется мне вполне убедительным, но мы можем, тем
не менее, извлечь выгоду из рассмотрения причин, по которым
редукционистский операционализм более приятен для психологии,
чем для физики. Почему философы завидуют праву психологов грезить
о любых теоретических сущностях и процессах, которые помогли бы
им в объяснении нашего поведения? Одна из таких причин была уже
приведена: смешение утверждений (1) и (2) выше. Это смешение
основывается на опасении, которое можно обнаружить как у Гуссерля
и Дильтея, так и виттгенштейнианцев типа Уинча (Winch) и Кении
(Kenny), сводящееся к тому, что подчинение человеческого поведения
механистическому объяснению в терминах „психологических процес-
сов" затемнило бы различие между людьми и вещами, между чело-
веческой реальностью, изучаемой Geisteswissenschaften, и остальной
реальностью, изучаемой Naturwissenschaften. Об этом различии будет
более подробно сказано в следующих главах, а пока мы можем
удовлетвориться ответом Додуэлла. Боязнь механицизма и потери
3
Впервые на это было указано, я полагаю, в работе Albert Hofstader, „Professor
Ryle's Category-Mistake", Journal of Philosophy 47 (1951), 257—270.
4
Jerry Fodor, „Could There Be a Theory of Perception?" Journal of Philosophy 63
(1966), 371.
5
P. C. Dodwell, „Is a Theory of Conceptual Development Necessary?" in Cognitive
Science and Epistemology (цит. в сноске 1 выше).
160

личностности представляет основной мотив для подозрений в отно-
шении всех бихевиористских наук, и здесь вовсе непричем то, что
именно философы находят сомнительным в психологии. Более не-
посредственные причины для подозрения вызываются предположением
психологов о том, что психологи должны быть более механистичными,
что они должны идти к нейрофизиологическому напрямую, пере-
шагивая через ментальное.
Первая причина состоит в стремлении к объединенной науке,
которое представляет собой не столько желание свести Многое к
Единому, сколько убеждение, что наука XVII века открыла, что все
состоит из атомов и пустоты, и моральный долг философии — в
сохранении этого прозрения. Это убеждение, однако, было смягчено
смутными видениями квантовой механики, так что онтологическое
почтение к неодушевленной материи было заменено социологическим
почтением к профессорам физики. Ссылки философов на „физичес-
кое" стандартно сопровождаются примечаниями, что сущность счита-
ется „физической" в том случае, если она используется „физическими
науками". До Куайна, когда „редукция" была еще сердцем логико-
эмпиристской программы, философы рассматривали себя как людей,
способных внести действительный вклад в единство науки путем
„анализа значения" терминов, используемых в социологии и пси-
хологии и т. д. Однако со времени атак Куайна на значение, потреб-
ность в сведении всего ко всему, что угодно физикам, была заменена
еще более расплывчатым чувством, что другие науки, помимо физики,
становятся более „научными", когда они могут заменить функцио-
нальные описания теоретических сущностей (например, „гена") струк-
турными описаниями (например, „ДНК-молекулой"). Это чувство
является мимолетным в таких случаях, как социология и экономика,
где никто не настаивает на физической реализации постулированных
теоретических сущностей, но оно продолжает существовать в психо-
логии, чьи теоретические сущности обладают некоторой конкретно-
стью, которая взывает к замене психологии нейрофизиологией. Но
почему тогда, если есть куайновские резоны для соображения, согласно
которому никаких интересных необходимых и достаточных условий
для применения терминов одной дисциплины не может быть дано в
терминах другой, мы столь нетерпеливы с такой заменой? Никто не
думал, что генетика включает апелляцию к сомнительным сущностям
потому что до ДНК еще было весьма далеко. Так как же объяснить
инстинктивное убеждение, что психологи блокируют дорогу к иссле-
дованию?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратиться ко второй
причине, по которой постулированные ментальные сущности и про-
цессы подозрительны. Мы можем назвать ее, вслед за Райлом, страхом
призраков. Мысль о том, что поощрительное отношение к менталь-
ному, даже носящее временный характер, приводит к потере научного
духа, имеет два источника. Первый, обсуждавшийся мною в первой
главе, есть смешение посткартезианской концепции „сознания" с
дофилософским понятием души, покидающей тело в момент смерти.
Второй представляет эпистемологический аргумент, согласно которому
161

интроспекционизм влечет за собой привилегированный доступ, и
поскольку такая эпистемическая привилегия должна быть основана на
онтологическом различении (ментальные сущности внутренне лучше
известны их обладателям, чем любая физическая вещь может быть
известна кому-либо), мы должны отрицать существование мен-
тального-как-интроспектируемого ценой того, что часть нашего поз-
нания реальности зависит от непроверенных отчетов. Такой аргумент
редко представляется открыто, но что-то вроде него лежит в основе
враждебности к ментальному как со стороны позитивизма, так и со
стороны виттгенштейнианцев
6
. Однако точно так же, как понятие
„единства науки" в качестве программы философских исследований
не может пережить куайновской атаки на „значение", так и этот
эпистемологический аргумент не может пережить селларсовской трак-
товки „данности". В объяснении Селларсом непосредственного знания
интроспекция представляет способность, получаемую обучением, и
черные подозрения, что субъекты обратятся к интроспекции того, на
что экспериментатор укажет им, говоря, что они должны быть спо-
собны интроспектировать, по большей части оправданы. Потому что
наше непосредственное знание ментальных событий, согласно Сел-
ларсу, не является отличительным признаком онтологического ста-
туса, а непоправимость отчетов первого лица, подобно всем вопросам
об эпистемическом статусе, является, скорее, делом социологии, не-
жели метафизики. Но отказ от специального призрачного статуса,
который, по предположению, делает привилегированный доступ воз-
можным, искупает методологическую респектабельность апелляции к
интроспекции. Потому что мы можем сейчас видеть, что обучение
людей интроспекции мыслей, или ностальгии, или кровяного давления,
или альфа-ритма представляет просто использование связей внутри
организма — а именно связей между речевым центром и остальной
нервной системой — в качестве научных инструментов. Тот факт, что
обучение такого рода в качестве отправной точки должно иметь
интерсубъективно доступные обстоятельства, является достаточной
гарантией, что ничего не делается исподтишка. „Субъективность" и
„ненаучный" характер интроспективных отчетов, таким образом, име-
ют не большее значение в философском отношении, чем дефекты
спектроскопов. Если „субъективные отчеты" рассматриваются как
эвристическое удобство, а не как разрешение на основании чьих-либо
неподтвержденных слов отвергать перспективную научную гипотезу,
мы можем рассеять неудачные ассоциации интроспекционистской
психологии с рационалистской апелляцией к ясным и отчетливым
идеям и протестантской апелляцией к индивидуальной совести.
Таким образом, я прихожу к выводу, что аргументы Куайна и
Селларса, изложенные мною в предыдущей главе, служат также
освобождению психологии от подозрений, которые склонны питать в
ее отношении эмпиристские и физикалистские философы. Подозрения,
6
См., напр., малькольмовскую „теорию выражения" менталистских отчетов
первого лица, основанную на пассаже из Философских исследований.
162

исходящие из другого источника — из необходимости сохранения че-
ловеческой уникальности, свободы воли и целостности Geisteswissen-
schaften, — будут обсуждаться в седьмой и восьмой главах. В данной
главе я ограничусь вопросом: можем ли мы обнаружить в действи-
тельных или ожидаемых результатах эмпирических психологических
исследований какое-либо отношение к традиционным философским
проблемам познания? Так как я хочу сказать, что эти „философские
проблемы" должны рассасываться, а не разрешаться, вполне естест-
венно, что мой ответ будет отрицательным. Но этот отрицательный
ответ нуждается в серьезной защите, так как многие философы, на
которых произвели впечатление аргументы Куайна и Селларса против
привилегированных репрезентаций, тем не менее, хотят заменить
традиционную эпистемологию с „основаниями" психологическими ре-
зультатами, с помощью которых получается общая теория внутренних
репрезентаций. Я хочу показать, что такая „новая эпистемология" не
может предложить ничего существенного для проблем обоснования, и,
следовательно, она не имеет отношения к культурным требованиям,
которые привели к возникновению эпистемологии в XVII и XVIII
веках. Не может она помочь и утверждению имиджа философии как
дисциплины, которая отличается от эмпирического исследования, и
объясняет существенность результатов такого исследования для
остальной культуры.
Для убедительности такой аргументации я буду обсуждать два
предположения, присутствующих в недавней философской литературе,
согласно которым психологии приписывается большая философская
значимость, чем та, которую она, с моей точки зрения, заслуживает.
Первое предположение, высказанное Куайном, состоит в том, что
психология может исследовать „отношения между теорией и наблю-
дением", которые были предметом эпистемологии. В разделе 2 я буду
говорить о том, что эти отношения не могут быть установлены в
психологических терминах. Второе предположение заключается в том,
что аналогии между программными состояниями компьютера и психо-
логическими состояниями людей, и между состояниями „железа"
компьютера и нейрофизиологическими состояниями тел придают но-
вый и интересный смысл представлению, что наше познание заклю-
чается во „внутренней репрезентации". Это утверждение развивается
самым детальным образом Фодором; в разделах 3 и 4 я аргументирую,
что Фодор объединяет смысл „репрезентирования", в котором ре-
презентации могут рассматриваться как точные и неточные, и смысл,
в котором репрезентации не могут так рассматриваться. Эти два
смысла, я полагаю, являются разделительной чертой областей эписте-
мологии и психологии.
2. НЕЕСТЕСТВЕННОСТЬ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
В своем очерке „Эпистемология натурализованная" Куайн расс-
матривает различные затруднения, возникающие при попытках пос-
троения „основания науки", и в конце оценивает сардоническую
позицию Виттгенштейна по отношению к этому предприятию следу-
ющим образом:
163
