Рорти P. Философия и зеркало природы
Подождите немного. Документ загружается.


Такое постулирование мало что дает в научном прозрении, если
для него нет лучших оснований, чем то, что указанные отношения
перевода предполагаются аборигенной семантикой и интенциями
25
.
Куайн полагает, что его анти-интенционализм согласуется с его
полемикой против аналитичности. Но это не так. Автор „Двух догм
эмпиризма" должен был бы сказать, что концепции и значения вполне
безвредны, если постулированы с целью объяснения нашего поведения,
и становятся опасными только в том случае, когда рассматриваются
как источник специального рода истины и специального рода
оправдания определенных утверждений. В частности, мы могли бы
ожидать от него, что обычно приводимые резоны в пользу того или
иного перевода языка резоны (или в пользу приписывания одного
определенного множества вер и желаний, а не странной альтернативы,
которая, тем не менее, предсказывала бы то же самое лингвистическое
поведение) оправдываются просто их внутренней согласованностью,
и что такая практика как перевод и приписывание внутренних сос-
тояний оправдывается их социальной полезностью. Куайн допускает
полезность, но полагает, что в философском отношении важно на-
стаивать на том, чтобы сорт истины, предлагаемый в таких предло-
жениях как «„Hund" есть немецкое слово для „собаки"» и „Робинсон
верит в Бога", не того рода истина, которая выражает „эмпирические
отношения"
26
. Таким образом, он предлагает нам различение, так
сказать, истин по конвенции и истин по соответствию, вместо старого
позитивистского различения истин по конвенции и истин, подтвер-
жденных чувственным опытом. Истины о значениях и верах, а также
о суждениях не являются, в каком-то отношении, настоящими ис-
тинами в полном смысле слова — точно так же, как позитивисты
полагали, что необходимые истины не являются по настоящему ис-
тинами „о мире".
Холизм и прагматизм „Двух догм", судя по всему, делает про-
ведение различения между двумя сортами истины столь же трудным,
как и более старого различения, которое атакуется Куайном. Многие
критики Куайна отметили это обстоятельство и диагностировали его
настойчивость в этом вопросе как наследие традиционного эмпи-
ризма
27
. Я согласен с большинством критиков и не буду пытаться
25
W. V. О. Quine, Word and Object (Cambridge, Mass., 1960), p. 221.
26
См.: Words and Objections: Essays on the Work of W. V. Quine, ed. Donald
Davidson and Jaakko Hintikka (Dordrecht, 1969), p. 303, где Куайн говорит:
Рассмотрим ...всеобщность истин природы, известных и неизвестных, наблюдаемых
и ненаблюдаемых, прошлых и будущих. Суть неопределенности перевода состоит
в том, что она устоит даже перед этой всей истиной, целой истиной о природе.
Именно это я имею в виду, когда говорю, что там, где применяется неопределен-
ность перевода, не существует проблемы правильного выбора; нет реальной дейст-
вительности даже в рамках признанной недоопределенности теории природы.
27
Наиболее известная критика такого рода представлена Ноамом Хомским (Chom
sky) в его работе „Quine's Empirical Assumptions" in Words and Objections. Однако
наиболее убедительным критиком позиции Куайна оказался Хилари Патнэм (Putnam)
в его работе „The Refutation of Conventionalism", Nous 8 (1974), 38: «Если принятие
одной системы аналитических гипотез вместо другой приводит к огромному упрощению
144

подвести итог их рассмотрениям (за исключением лишь того, что
такая критика едина в заключении, что некоторый вид „неопреде-
ленности", который можно найти в переводе, должен появиться,
равно безвредно, в Naturwissenschaften). Рассмотрением понятия „не-
постижимости указания" мы можем получить некоторое понимание
„эмпирических" интуиций, которые заставляют Куайна продолжать
говорить о „соответствии" и которые удерживают его от гегелевских
следствий его собственного бихевиоризма и холизма.
Куайн подводит итог своей аргументации в работе „Онтологическая
относительность", говоря:
Имеет смысл говорить не о том, чем являются объекты по абсо-
лютному критерию, но о том, как одна теория интерпретируется
другой теорией... Все сказанное нами заставляет понять, что за-
гадка о видении вещей перевернутыми или в дополнительном
цвете, должна быть воспринята серьезно, а мораль, следующая из
этого случая, должна применяться повсеместно. Релятивистский
тезис, к которому мы приходим, следует повторить: не имеет
смысла говорить о том, каковы объекты теории, помимо того как
интерпретировать или переинтерпретировать эту теорию в другую
теорию... Разговор о подчиненных теориях и их онтологиях вполне
осмыслен, но только относительно фоновой (background) теории с
ее собственной исходно принятой и окончательно непостижимой
онтологией
28
.
Можно было бы подумать, что этот тезис является естественным и
счастливым результатом похода к познанию и науке, который являлся
общим для Куйана и Селларса, если бы не беспокоящая фраза:
„Исходно принятая и окончательно непостижимая онтология". С точ-
ки зрения полноценно холистической теории, вопрос „Действительно
ли мы указываем на кроликов или стадии-кроликов? формулы или
геделевы числа?" не должен считаться ни бессмысленным, ни осмыс-
ленным (пока не относится к фоновому языку)
29
, но должен считаться
вопросом типа „Действительно ли говорим о нациях или о группах
таких наук, как нейрофизиология, психология, антропология и т. д., тогда почему бы
нам не сказать, что под „переводом" мы имеем в виду перевод в соответствии с
инструкцией, имеющей это свойство?» Патнэм правильно диагностирует куайнов-
скую доктрину специальной неопределенности перевода как следствие некоторого вида
эссенциализма. Она, грубо говоря, такова, в которой мы знаем заранее, что то, что не
может быть положено на язык современной физики, столь несущественно, что
существует лишь „в глазах наблюдателя", является вопросом субъективного удобства.
См.: Christopher Boorse, „The Origins of the Indeterminacy Thesis", Journal of
Philosophy 72 (1975), 369—387, and Richard Rorty, „Indeterminacy of Translation and of
Truth", Synthese 23 (1972), 443—462.
28
W. V. O. Quine, Ontological Relativity and Other Essays (New York, 1969),
pp. 50—51.
29
Ibid., p. 47. Хартри Филд (Field) показал, что куайновские понятия „реляти
визации к фоновому языку" и „рассмотрение видимого указания" несовместимы с его
общей позицией. См. статью Филда „Quine and Correspondence Theory", Philosophical
Review 83 (1974), 207. Но эта трудность не имеет отношения к моим настоящим
целям.
145

индивидуальных личностей?" или „Действительно ли мы говорим о
ведьмах или галлюцинациях психически неуравновешенных людей?"
Последние вопросы имеют смысл, если мы придадим им смысл, то
есть если нечто дальнейшее зависит от ответа. Легко вообразить себе
ситуации, в которых можно было бы придать им смысл; труднее, но
не невозможно сделать это для случая кролик-versus-стадии-кролика.
Но Куайн не интересуется вопросом придания смысла таким образом.
Цель его утверждений о неопределенности и непостижимости заклю-
чается не в том, чтобы связать их с нуждами науки или практики.
Допуская, что лингвистика никогда не мечтала о преимуществах,
получаемых от неопределенности перевода, когда короткие воскли-
цания при появлении кролика переводятся как „еще одна стадия-
кролика", Куайн говорит:
Неявная максима, диктующая его (лингвиста) выбор „кролика"...,
состоит в том, что этот продолжающий существовать по ходу
времени и относительно однородный объект, движущийся как
целое относительно контрастного фона, требует для указания
короткого восклицания... Он навязывает себе эту максиму сам,
принимая такое решение в ситуации, которая объективно неоп-
ределенна. Это весьма благоразумное навязывание, и я сам не
рекомендовал бы другого. Но я-то говорю о философской точке
зрения
30
.
„Философская точка зрения" в этом смысле, как минимум, не
имеет отношения к решению того, каков мир. Куайн колеблется
между старым позитивистским взглядом, что такая точка зрения
позорно „метафизична", и более оксонианским взглядом на филосо-
фию-как-терапию, по которому такие специфические философские
точки зрения служат противоядием πρώτον ψευδός, таким, как «идея
„идеи"». Мы могли бы, конечно, рассматривать эту конкретную точку
зрения как противоядие против, если она вообще может быть против
чего-либо, понятий „онтологии" и „указания". То есть мы могли бы
прибегнуть к более старомодному взгляду, что точно так же, как
бихевиористский подход к „истине благодаря значению" в „Двух
догмах" не оставляет нам понятия „одинаковости значения", за ис-
ключением (как указывает Харман) случаев здравого смысла и таких
философски неинтересных случаев, как одинаковость значений пред-
ложений „Президент поехал во Вьетнам" и „Джонсон поехал во
Вьетнам", так и бихевиористский подход к „онтологии" в „Онто-
логической относительности" не оставляет нам понятия „одинаковость
указания", за исключением случаев здравого смысла и философски
неинтересных случаев, как одинаковость вещей при разговоре о ста-
диях-кролика и разговоре о кроликах (но различными способами)
31
.
30
Quine, Ontological Relativity, p. 34.
31
Пример одинаковости значений в случаях здравого смысла идет от Хармана,
„Quine", p. 142. Более полное обсуждение различия случаев здравого смысла и фило-
софских смыслов „разговора о" или указания можно найти в моей работе „Realism
and Reference", Monist 59 (1976), 321—340, и в главе шестой, разделе 4.
146

философское понятие „указания", с точки зрения Куайна,
противопоставлено значению по той причине, что
Указание, объем представляют прочную вещь; значение, интенция
— непрочную. Неопределенность перевода, с которой мы
сталкиваемся, однако проходит сквозь как экстенсиональных, так
и интенсиональных вещей. Термины „кролик", „неотъемлемые
части кролика" и „стадии кролика" разнятся не только в значении;
они также и истинны в отношении различных вещей. Указание
само по себе оказывается бихевиористически непостижимым
32
.
Но эта относительная прочность сама была просто продуктом утвер-
ждения Куайна, что интенциональности, для которых не было кри-
терия тождества, были более расплывчатыми сущностями, чем экс-
тенсиональные вещи, для которых есть критерий тождества. Проблема
тождества для интенсиональных сущностей, с точки зрения Куйана,
сводится к тому, как «два вневременных предложения должны соот-
носиться друг с другом таким образом, что там, где вместо них стоят
„р" и „q", мы были бы обязаны сказать, что [р] есть то же самое
суждение, что и [q], а не какое-либо другое суждение»
33
. Но полагать,
что на этот вопрос можно ответить, значит считать, говорит Куайн,
что существует некоторое отношение синонимии, которое делает пред-
ложение одного языка правильным переводом предложения другого
языка
34
.
Мы, однако, сделали полный круг. Прочность указания есть то,
чем она является, по той причине, что существует мнимый контраст с
непрочностью значения. Но эта непрочность присутствует лишь в том
случае, когда перевод неопределенен в некотором смысле, который
отсутствует в физике. Поэтому если мы примем стандартную критику
куайновской „двойной" неопределенности перевода (неопределеннос-
ти, которая отличается от неопределенности физической теории, в
том, что в первом случае нет „эмпирических аспектов"), тогда у нас
нет причин быть озадаченными тем, что указание поживает неважно,
и нет причин полагать, что бихевиористическая непостижимость ука-
зания ведет к какому-либо другому заключению, кроме как „тем хуже
для указания" или же „стадии кролика и кролик являются одним и
тем же". Так как „указание" здесь означает специфически
философское понятие, чья непостижимость представляет специфи-
чески философскую точку зрения, которая предпочитает разводить в
стороны кроликов и стадии кроликов в гораздо большей степени, чем
это требуется по научным и практическим соображениям, мы могли
бы ни в грош не ставить эту самую непостижимость, как поступает
Куайн в отношении специфически философского понятия синонимии
и тезиса Брентано о несводимости интенциональности.
32
Quine, Ontological Relativity, p. 35.
33
Quine, Word and Object, p. 200.
34
Ibid., p. 206.
147

Мы и в самом деле могли бы принять такую позицию
35
, но не
ранее, чем более тщательно рассмотрим колебания Куайна по поводу
предмета онтологии. Сказать, что философское понятие указания яв-
ляется таким понятием, без которого мы можем превосходно обойтись,
значит сказать, с чем должен был бы согласиться и сам Куайн, то же
самое об онтологии. Но поскольку Куайн рассматривает разговор об
онтологии серьезно, он относится так же серьезно и к указанию, и
поэтому было бы полезно убедиться в том, как трудно для него
примирить этот тезис с холистическим утверждением, что нет в
качестве „первой философии" ничего более высокого, чем обычное
научное исследование, и что ничто в этом отношении не предшествует
последнему
36
. Этот взгляд Куайна сближает его с Селларсом, согласно
которому „наука есть мера всех вещей, того, о чем она говорит, и
того, о чем она не говорит"
37
. Тем не менее, Куайн утверждает, что
практическая необходимость интенсиональных идиом не должна за-
слонять того факта, что:
Если мы изображаем истинную и окончательную структуру реаль-
ности, каноническая схема для нас есть строгая схема, не знающая
иного закавычивания, кроме прямого, и не знающая пропозицио-
нальных установок и признающая только физическое устройство
и поведение организмов
38
.
Этот проект, говорит Куайн, есть продолжение научного, потому что:
Каждая элиминация неясных конструкций или понятий, которую
мы ухитряемся провести путем перефразирования в более ясные
элементы, представляет собой прояснение концептуальной схемы
науки. Те же самые мотивы, которые подвигают ученых на поиск
все более простых и ясных теорий, адекватных предмету иссле-
дования их специальных дисциплин, являются мотивами для уп-
рощения и прояснения более широкой схемы, присущей всем
наукам. Поиск наипростейшего, наияснейшего всеобщего образца
канонического обозначения не должен быть отличен от поиска
исходных категорий, описания наиболее общих черт реальности.
Не следует поддаваться возражению, что такие конструкции явля-
ются условностью, не диктуемой реальностью; разве то же самое
не может быть сказано о физической теории? Верно, что природа
реальности такова, что одна физическая теория оказывается для
нас лучшей по сравнению с другой физической теорией; но то же
самое верно и для канонических обозначений (с. 161).
Хитрость тут состоит в том, чтобы понять, чем являются „неясность"
и „ясность". Куайн полагает, что Geisteswissenschaften использует
понятия столь неясные, что при описании структуры реальности мы
35
Я снова аргументирую в пользу такой позиции в главе седьмой.
36
См.: „On Catnap's Views on Ontology", in Quine, Ways of Paradox (New York,
1968) and „Epistemology Naturalized" in Ontological Relativity.
37
Это фраза из книги Селларса Science, Perception and Reality, p. 173.
38
Quine, Word and Object, p. 221.
148

должны просто избавиться от них. Все ясно в физических теориях, которые
хотя и взывают к числам, функциям, свойствам и т. д., все-таки
интерпретируют их как множества, на что физик взирает с высокомерным
равнодушием. Но неясность „веры", „знания", „переводится как ..." и т. д.
неисправима, потому что в теории множеств нет ничего под рукой из того,
что могло бы заменить их; они могут выжить только в качестве
практического удобства
39
.
Но почему, однако, „верит в ..." и „переводится как ..." обязаны нуждам
практики больше, чем „есть тот же самый электрон, как..." и „есть то же
самое множество, как..."? Почему Naturwissenschaften описывает реальность,
в то время как Geisteswissenschaften просто позволяет нам управляться с
ней? Что же разделяет их, при условии, что мы больше не считаем, что
некоторые утверждения имеют привилегированный эпистемологический
статус, а взамен полагаем, что все утверждения работают вместе во благо
расы в процессе постепенного холистического приспособления, ставшего
знаменитым благодаря „Двум догмам эмпиризма"? Почему единство
эмпирического исследования не проявлялось бы в целостности культуры
(включающим как Naturwissenschaften, так и Geisteswissenschaften), а не
просто в целостности физической науки?
Попытка ответить на этот вопрос приводит нас к подлинному
противоречию во взглядах Куайна. Оно проявляется наиболее ясно в
пассаже, где он пытается убедить нас в том, что практический диктат
перевода не имеет эпистемологических следствий:
„Сохранение логической истины" является конвенциональным по своему
характеру из-за неопределенности перевода... Сама нужда
определенности представляет вознаграждение за следование этому
строгому и простому правилу как частичному детерминанту...
„Сохранение логической истины" одновременно конвенционально и
мудро. И мы видим также, что это не дает логической истине
эпистемологического статуса, отличного от явных истин так на-
зываемого фактического рода
40
.
39
Харман („Quine", p. 126) дает более милосердную интерпретацию взглядов Куайна по
этим проблемам. Согласно Харману,
Не в том дело, что Куайн полагает интенсиональные объекты, суждения или значения
странными видами сущностей (можно было бы полагать и электроны странными
сущностями). Его жалобы состоят не в том, что интенсиональные объекты, как нечто
абстрактное, оскорбляют его чувствительность таким образом, которым они не
оскорбляют чувствительности Нельсона Гудмена... Аргумент Куайна ... состоит в том, что
различные взгляды на это семейство (взывающее к таким сущностям) являются теориями,
которые не объясняют то, что они призваны объяснять. Поэтому его позиция по
отношению к интенсиональным объектам сходна с его позицией по отношению к
флогистону или эфиру (или ведьмам).
Куайн вежливо подтвердил интерпретацию Хармана в Words and Objections, p. 296. Но я не
думаю, что эта интерпретация может быть согласована с многими аргументами в Word and
Object и других работах, хотя я согласен с тем, что Куайн должен был бы принять такой взгляд.
40
Words and Objections, p. 318.
149

Но если конвенциональность зависит от специальной неопределен-
ности перевода, тогда мы не можем сказать, как это делает Куайн в
цитированном выше пассаже, что физическая теория представляет
„конвенциональное дело, не зависящее от реальности". Если посто-
янство логической истины есть просто практическое правило, а не
проникновение в структуру реальности, тогда, если физическая теория
представляет такое проникновение, она не может также быть прак-
тическим правилом.
Подводя итог его колебаниям, мы можем заметить, что Куайн
хочет утверждать следующее:
1. Существует такая вещь, как онтология, управляемая „сомне-
ниями относительно того, какого рода объекты можно предполо-
ложить", и она основана на различении „беспочвенного овещест-
вления и его противоположности"
41
.
2. Не существует специального эпистемологического статуса, ко-
торый может быть придан предложению вне его роли в ут-
верждении того „поля силы", которое представляет человечес-
кое познание, и чья цель состоит в том, чтобы управиться с
сенсорными излучениями.
3. Не существует такой вещи как прямое знакомство с чувст-
венными данными или значениями, которые могли бы придать
незыблемость отчетам благодаря их соответствию реальности,
независимо от их роли в общей схеме веры.
4. Поэтому эпистемология и онтология никогда не встречаются,
так как наши сомнения относительно того, какие объекты пред-
полагать, не диктуется нашим знакомством ни с универсалиями,
ни с единичностями.
5. Тем не менее следует различать те части сети вер, которые вы-
ражают эмпирическую ситуацию, и те части, которые не де-
лают этого, и онтология гарантирует, что мы можем детектиро-
вать это различие.
Если Куайн хочет утверждать (5) в той же степени, как и (1) — (4),
он должен придать смысл различению „эмпирической ситуации" и
„конвенции", которое не имеет связей с обычным инструменталистско-
феноменалистским различением — различием между тем, с чем мы
действительно знакомы, и тем, что мы „постулируем", чтобы упра-
виться со стимулами. Единственный способ, которым он может это
сделать, насколько я могу видеть, это просто указать элементарные
частицы современной физики в качестве парадигмального случая
„эмпирического" и объяснить, что смысл, в котором нет ничего
„эмпирического" о значениях или верах, состоит в том, что от-
носительно значения предложения или веры человека могут говориться
различные вещи без всяких следствий по поводу движения этих
частиц. Это тактика делает для него предпочтительной физику по
41
Quine, Word and Object, pp. 119—120.
150

сравнению с психологией, и, таким образом, его беспокойство по
поводу „беспочвенного овеществления" является чисто эстетическим.
Далее, она не будет работать. Потому что альтернативные, например
биохимические или же альтернативные психологические теории, бу-
дут совместимы со всеми и только теми же самыми движениями
одних и тех же частиц. До тех пор, пока не будет подлинной
дедукции всех истинных номологических утверждений из законов
физики (чего никто всерьез не ожидает), не должно быть жалоб
относительно интенций, жалоб, которых не может быть сделано о
митохондриях
42
.
Куайн вовлечен в эту трудную ситуацию через свою попытку
сохранить взгляд, унаследованный им, подобно Селларсу, от Карнапа,
а еще ранее, от виттгенштейновского Трактата, согласно которому
мир может быть „полностью описан" в экстенсиональном языке.
Настоящим пугалом является не интенциональность, а интенсиональ-
ность, потому что только отсутствие представления в терминах ис-
42
Д. Фоллесдаль — Dagfinn Follesdal („Meaning and Experience" in Mind and Language, ed.
S. Guttenplan [Oxford, 1975]) предлагает такой способ конструирования тезиса Куайна о
неопределенности перевода, при котором "куайновская позиция более интересна, если его
склонность к физикализму считается следствием более фундаментальной эпистемологической
склонности к эмпиризму" (с. 33). Способ заключается в следующем:
...все имеющиеся истины включены в теорию природы. Как мы заметили ранее, в нашей
теории природы мы пытаемся объяснить весь наш опыт. И единственные сущности,
предположение которых оправдано, — это те, к которым апеллирует наипростейшая
теория, объясняющая все факты. Эти сущности и их свойства и взаимоотношения есть все,
что есть в мире, и все, о чем можно утверждать или ошибаться. Все эти истины включены
в нашу теорию природы. При переводе мы не описываем какую-то большую сферу
реальности, а просто коррелируем две всеобъемлющие теории, касающиеся всего сущего,
(с. 32)
Однако я не вижу, каким образом мы можем говорить о том, когда кончается описание и
начинается сравнение описаний. Или же, другими словами, я не понимаю, как мы сможем
отделить „природу" от чего-то еще, за исключением того, что найдем некоторый смысл в
„описании всего нашего опыта", представляющего нечто меньшее, чем вся культура, и
могущего объяснить весь наш опыт.
Альтернативное прослеживание тезиса о неопределенности перевода к эмпиризму было
предложено Дж. МакДоуэллом („Truth Conditions, Bivalence, and Verification" in Truth and
Meaning, ed. G. Evans and J. McDowell [Oxford, 1976]). МакДоуэлл полагает, что Куайн,
возможно, утверждает „не очень удачно сформулированную версию строгого
верификационистского возражения реализму в теории значения" (с. 65). Возражение состоит в
том, что конструирование утверждения об истинности „как недоопределенного тем, что
наблюдается", потребовало бы от нас, если мы конструируем его „реалистически",
приписывания говорящему „концепции истины как независимой от того, что наблюдается" (с.
64). Так как последнее, с верификационистской точки зрения, абсурдно, оно просто показывает,
что мы не должны конструировать утверждения „реалистически". Эта стратегия, однако,
включает обнаружение смысла в „детерминированности тем, что наблюдается", что
поддерживает биологию и исключает перевод, и я не знаю, опять-таки, как это может быть
сделано. Поэтому я заключаю, что противоречия между (4) и (5) остаются, вопреки попыткам
дружественных Куайну критиков переформулировать его точку зрения таким образом, чтобы
спасти его от критики Хомского, согласно которой единственная неопределенность, которая
может встретиться, это знакомая недоопределенность теории наблюдением (критика, которую
имеют в виду Фоллесдаль и Макдауэлл, и которую они пытаются обойти).
151
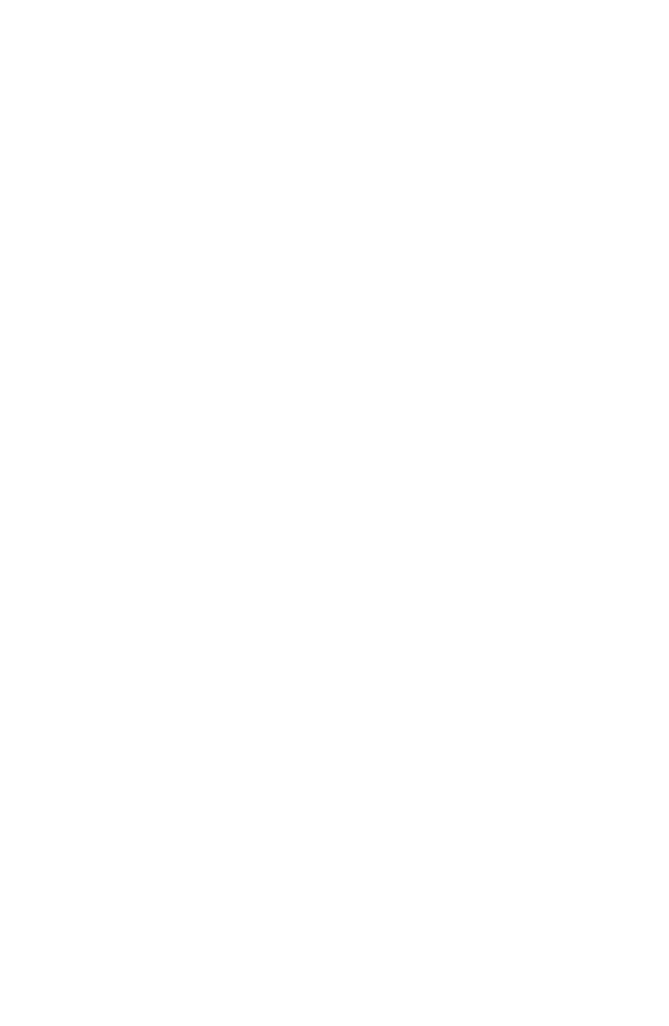
тинностных функций в интенциональном дискурсе придает его предмету
сомнительность большую, чем, скажем, несводимо биологический разговор
о митохондриях. Сводимость к разговору о частицах есть лишь прикрытие
разговора о сводимости к дискурсу, характеризуемому истинностными
функциями. Дело не в частицах, а в логической форме. Отсутствие ясных
условий тождества для интенциональностей представляется несчастьем не
потому, что это влечет некоторую призрачность сущностей, но просто
потому, что оно оставляет некоторые предложения неэкстенсиональными.
Но если это так, тогда мы можем достичь целей Куайна без использования
его средств. Мы делаем это, допуская, что мир может быть полностью
описан в языке истинностных функций, и в то же время допуская, что
отдельные части его могут также быть описаны в интенсиональном языке, и
отказываясь от обидных сравнений этих двух видов описания. Сказать, что
он может быть описан полностью, значит использовать понятие полноты,
определенное в терминах пространственно-временной протяженности, а не в
терминах объяснительной силы или практического удобства. Если бы мы
могли не ссылаться на интенциональности, мы вряд ли могли бы совладать с
миром, но мы все еще могли бы — если бы оно того заслуживало —
полностью описывать мир до мельчайших подробностей и даже делать
точные предсказания о содержании любой пространственно-временной
области с желаемой степенью детальности.
Способ применения этой точки зрения к словарю вер и желаний был
подсказан Дэвидсоном, который переложил вопрос в терминах различения
гомономных и гетерономных обобщений:
С одной стороны, имеются обобщения, чьи положительные примеры
дают нам резоны для мнения, что обобщения могли бы быть улучшены
дополнением различными оговорками и условиями, сделанными в
рамках того же словаря, как и исходное обобщение. Такие обобщения
указывают на форму и словарь законченного закона; мы можем сказать,
что это гомономное обобщение. С другой стороны, есть обобщения,
которые при своей демонстрации могут дать нам резоны для мнения, что
существует точный закон, но формулировка его может быть дана только
при обращении к другому словарю. Мы можем назвать такие обобщения
гетерономными.
Я полагаю, что большая часть нашей обыденной мудрости (и науки)
гетерономны. Это потому, что закон, который должен быть точным,
явным и не имеющим исключений, возможен только в том случае, когда
он выводит свои концепции из всеобъемлющей замкнутой теории.
...Убеждение, что утверждение гомономно, и корректируемо внутри
своей собственной концептуальной области, требует, чтобы оно
выводило свои концепции из теории с четкими составляющими ее
элементами...
Точно так же, как мы не можем разумно приписать некоторому
объекту длину до тех пор, пока не имеем всеобъемлющей теории
объектов данного сорта, мы не можем разумно приписать субъекту
152
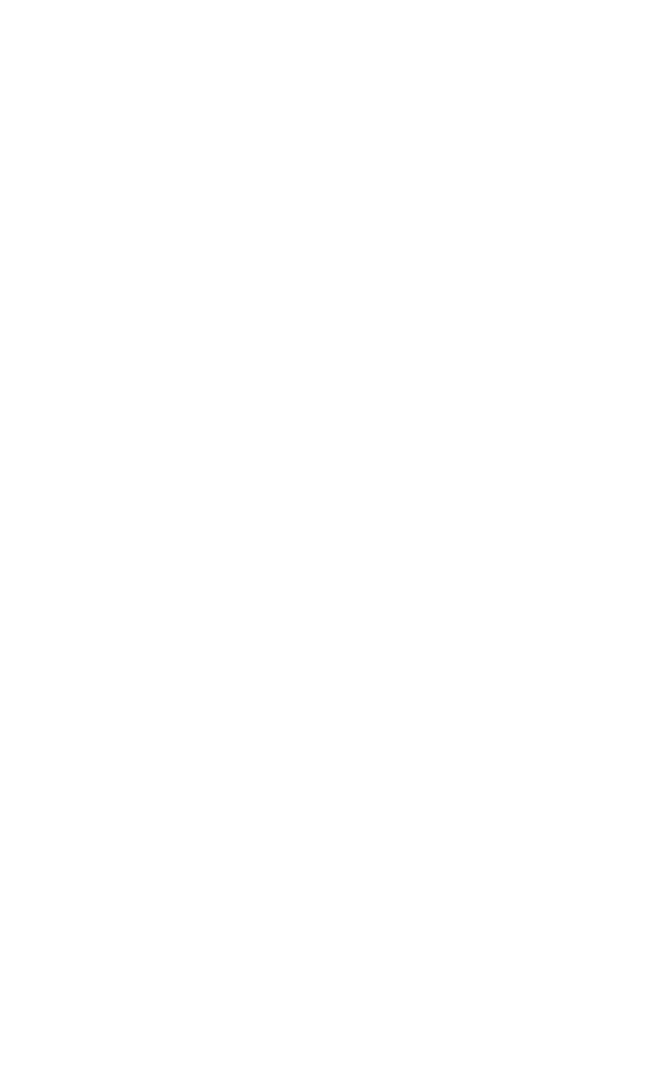
некоторую пропозициональную установку, кроме как внутри не-
которого каркаса жизнеспособной теории его вер, желаний, ин-
тенций и решений
43
.
Дэвидсон говорит, что психофизические законы имеют вид, подоб-
ный закону „Все эмеральды — зелановые (grue)". Они соединяют
термины, взятые из различных словарей. Мы можем говорить об
эмерозах и зелановости или же об эмеральдах и зелености, но не об
обоих вместе (по крайней мере, если мы хотим полезной всеобъ-
емлющей теории). Именно так мы можем говорить о действиях и
верах или о движениях и нейронах, но не об обоих вместе. Но есть
явный смысл, в котором в первом примере мы говорим об одних и
тех же вещах, независимо от того, какое множество предикатов мы
выбрали. Именно так, говорит Дэвидсон, дело обстоит в последнем
примере. Различие в словарях не есть различие между реальным и
онтологически сомнительным, между фактическим и мифическим, но
полностью параллельно различию между разговором о действиях
наций-как-таковых и разговором о действиях министров и генералов
или между разговором о митохондриях как таковых и разговором об
элементарных частицах, из которых они состоят. Мы можем с пользой
и вполне истинно говорить такие вещи, как „Если бы Асквит оставался
премьером, Англия потерпела бы поражение", или „Если бы тут было
чуть больше нейтронов, митохондрии не выжили бы", или же „Если
бы мы вживили электрод в мозг в правильном месте, он никогда не
воображал бы себя Наполеоном", или же „Если бы мы обладали
эмерозами, тогда у нас был бы правильный оттенок зеленого цвета", но
не можем (по крайней мере, на нынешнем этапе нашего знания)
получить из таких гетерономных наблюдений законы, являющиеся
частями всеобъемлющих теорий. Мы и не нуждаемся, с другой
стороны, в таких гетерономных наблюдениях в качестве пограничной
линии между онтологическими сферами — в частности, сферой
фактического и сферой нефактического. Если исходить из взглядов
Дэвидсона на отношение между различными объяснительными
словарями, то нет никакой причины для полагания того, что словари
сами по себе склонны к формулировкам в терминах истинностных
функций „описания истинной и окончательной структуры реальности"
в таком аспекте, в котором интенсиональные словари не склонны к
этому. Различие экстенсионального и интенсионального, как
оказывается, имеет не больший философский интерес, чем различие
между нациями и людьми: оно способно к подстреканию
редукционистских страстей, но не способно к выдвижению специаль-
ных резонов для начинания редукционистских проектов.
Соображения Дэвидсона позволяют нам рассматривать интенсио-
нальный словарь как еще один в ряду словарей, позволяющих говорить
о частях мира, которые на самом деле могут быть полностью описаны
43
Donald Davidson, „Mental Events", in Experience and Theory, ed. L. Foster and J.
W. Swanson (Amherst, Mass., 1970), pp. 94—96.
153
